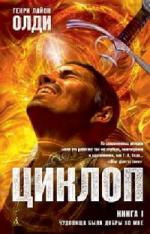- «Альпина нон-фикшн», 2012
- «Рэп Атака. От африканского рэпа до глобального хип-хопа» — классическое исследование по истории рэп-музыки и социальных отношений в хип-хопе. Это музыка конца
1970-х и кризис самовыражения, последовавший за
нашумевшими убийствами звезд рэп-музыки1980-х, бум гангста-рэпа и неизбежная ностальгия по традиционному хип-хопу, легендарным диджеям,
радиоведущим, художникам граффити, брейк-дансу, популярным танцевальным ритмам и клубам. Теперь, когда рэп стал мультимиллионным бизнесом
и одним из важнейших явлений в современной культуре, эта работа приобретает особое значение. Неслучайно книга стала бестселлером, выдержавшим
десятки переизданий. - Перевод с английского Влада Осовского
- Купить книгу на Озоне
Что есть калифорнийская любовь? В какой-то момент, в путешествии
между беспокойным, суровым, разболтанным духом безотцовщины и насильственной смерти, парень с Востока — Тупак
Амару «2PAC» Шакур — запустил золотой миф о голливудском законе
ствола, сексе, солнце, веселье, золотой лихорадке: «…Дикий,
Дикий Запад, — рэповал он на „California Love“, — город секса…
машина, делающая деньги… танцполы никогда не пустуют…»
Фикции, за которыми скрывались жестокие факты, вселяли
страхи в сердца, считавшиеся большими. Даже Biggie Smalls,
артист с Bad Boy Entertainment и главный враг Тупака в активных
территориальных войнах между рэпперами Восточного и Западного
побережий, почувствовал эту ауру. «Я почувствовал темноту,
когда он приехал в тот вечер», — Biggie, The Notorious B. I. G.,
рассказал журналу Vibe после антагонизма на награждении Soul
Train Awards между базирующейся в Лос-Анджелесе Death Row
Records и нью-йоркской Bad Boy Entertainment, двух конкурирующих
империй хип-хопа на тот момент.
Драма, как называли это рэпперы, подразумевала смертельно
опасный конфликт или жизнь на грани. Жизнь как театр.
Бигги абсолютно точно верил в это, сравнивая темную сторону
Тупака с его киношной ролью епископа, убийцы-психопата
в фильме «Juice». Сумасшедший, но учащийся предпочитать это
чувство альтернативе, представлявшей собой разбитое жалкое
существование. Потом Notorious B. I. G. был застрелен. В марте
1997 года он сидел в машине на перекрестке Фейрфакс и Уилшир
в Лос-Анджелесе, и его жизнь была обречена, как и жизнь
Тупака ранее; убийцы стреляли по движущейся тачке, типично
по-американски.
Последнее прижизненное видео Тупака — промоклип на песню
«I ain’t mad at Cha» — превращает клише расставания с жизнью
в искусство. На выходе из здания Тупака расстреливают.
Его жизнь затухает в машине скорой помощи. Далее мы видим,
как его приветствует в загробной жизни домашний оркестрик,
играющий мягкую музыку и состоящий из Майлза Дэвиса, Луи
Армстронга и Джими Хендрикса, гораздо более спокойный,
чем мы, все еще живущие, могли бы представить себе, думая
о музыке, существующей за порогом смерти. Видео посвящается
двум павшим воинам черной революционной политики: Джеронимо
Пратту и Мутуле Шакуру.
Тупак покинул Лос-Анджелес так же, как это сделал Николас
Кейдж в фильме «Покидая Лас-Вегас», чтобы умереть в Лас-Вегасе,
совершая гибельное путешествие из фальшивого рая
в пустыню. Тем вечером, когда его застрелили, он встретился
с еще одним беспокойным, суровым духом, не знавшим отца.
Где-то на его сложном и опасном пути к искуплению Майк
Тайсон оказался в Вегасе 7 сентября 1996 года с намерением
уничтожить тяжеловеса по имени Брюс Селдон. В этой бойне
Селдон упал сразу же, подтвердив убеждение Тайсона в том,
что жестокое насилие и есть его путь к спасению. Тайсон был
слишком быстрым и бил слишком жестко, как рассказывал после
боя Селдон. Тупак там присутствовал — Вегас, тяжеловесы и знаменитости
— этого здесь всегда будет хватать, и кроме всего
прочего во время отбывания Тайсоном наказания по обвинению
в изнасиловании Тупак хотел объединить силы, чтобы помогать
другим, попавшим в беду черным парням. Тем вечером Тупак
путешествовал в компании с боссом Death Row Records, Мэрионом
«Сьюджем» Найтом, и их объединенной свитой, члены которой
в какой-то момент стали задирать других людей из публики.
Селдон был уничтожен, и кортеж из десяти машин направился
в принадлежавший Сьюджу Найту клуб «662».
Белый кадиллак остановился рядом с БМВ из этого конвоя;
когда движение машин прекратилось, из него выскочили двое
мужчин и открыли огонь по Найту и Шакуру. Найт получил
ранения, но отказался давать какие-либо описания стрелявших.
В Тупака попало четыре пули, и он умер спустя неделю в Университетском
медицинском центре Лас-Вегаса. Его тело было
кремировано в Бруклине, что было финальной иронией, после
всех ядовитых каратистских выпадов в сторону Нью-Йорк Сити,
а также полным кругом, поскольку его жизнь началась в Бронксе
и Гарлеме, прошла через Балтимор, Мартин Сити, Лос-Анджелес,
Атланту и последним пристанищем его стал Нью-Йорк.
Удобно драматизированная гангста-лирикой, между Западом
и Востоком развязалась смертельная вражда, война посредством
слов, отношений, оружия: с восточной стороны это были главные
представители Bad Boy Entertainment Шон «Паффи» Комбс и Бигги
Смоллс; со стороны Запада, из Лос-Анджелеса и Вегаса, — глава Death Row Сьюдж Найт и до 7 сентября его самый ценный артист
Тупак Шакур. На публике Найт и Комбс старались не демонстрировать
свою вражду, хотя и братской любви в их действиях заметно
не было. Некоторые рэпперы представляли все это как легальную
деловую конкуренцию, Сьюдж против Паффи — это большой
скандал на маленькой планете, и треск малокалиберного оружия
отвлекал внимание от войн банд, разворачивающихся за сценами
больших бизнес-возможностей, доступных тому, кто будет играть
по установленным законом правилам. Такая возможность позже
представилась Комбсу, ранее работнику лейбла Андре Харрела
Uptown, а теперь совмещающему свой бизнес с выступлениями
своего альтер эго — Паффа Дэдди and the Family, семья, в которую
входили Лил Ким и посредственный любитель блестящих
костюмов поп-рэппер Mase.
Бигги Смоллс, Notorious B. I. G., назвал свой альбом 1994 года
«Ready To Die», возможно, предпринимая попытку взять будущее
в заложники, чтобы выразить переполняющую его депрессию
или просто запугать оппозицию. Потом вышел «Life After
Death», изданный после его смерти, за которым последовала
эмоционально ненапряжная, но финансово глубокая элегия «I’ll
Be Mising You», основанная на теме Стинга «Every Breath You
Take». Территориальные войны происходят из основ хип-хопа,
и это, возможно, наследие, которое на короткое время было
заменено музыкой и рифмой. Как сказал мне в 1984 году Лил
Родни Си из Funky Four: «Би-бойз постоянно конкурировали».
«После моей смерти, — сказал Тупак репортеру журнала Vibe
Кевину Пауэлу, — люди поймут, о чем я говорил». Так кем же
был Тупак Шакур? Он был успешным рэппером, многообещающим
актером, черным, непокорным
(на бумаге, по крайней мере), вышедшим из ниоткуда.
Из-за всего этого и из-за странного переплетения драматической
жизни с фаталистским мировоззрением его смерть несет символическую
нагрузку вместе с другими внезапными преждевременными
смертями в индустрии развлечений. Его музыка была очищающей, его рэп был об одиночестве, заброшенности, похоронах,
перестрелках, казнях, последних словах и окончательном
решении с мрачной одержимостью, в которой слышался крик
о помощи. Экс-вице-президент США Дэн Куэйл был настолько
напуган Тупаком, что потребовал его изоляции от общества. Это
решение Куэйла невольно совпало с собственным жизненным
опытом отчуждения от общества Тупака и только подогрело его
уверенность в том, что лишь Бог, а не общество людское является
ему судьей, хотя в то же время упускало из виду, что в меритократии
жадности популистская этика политиков легко смывается
волной ассигнаций.
Преданность Тупака материальным ценностям и звездности,
политике брендов и журналистским россказням была потрясающей.
Вот то, что он рассказал Пауэлу из Vibe о событиях ноября
1995 года, когда Тупака обстреляли в холле манхэттенской
звукозаписывающей студии. С его шеи сорвали драгоценностей
на сумму в $40 000. «Я расстегнул штаны, — сказал он, —
и увидел следы пороха и дыру в моих „Карл Кани“». В него
было выпущено пять пуль. Простое вооруженное ограбление?
Тупак подозревал заговор и профессиональный заказ на него.
Эта драма представила его третий сольный альбом «Me Against
The World», и в традициях рэпа автобиография была написана
посредством сэмплированных телевизионных новостных репортажей.
В более спокойные моменты Тупак признавался, что впоследствии
он страдал от ночных кошмаров как симптомов посттравматического
стресса, который сам по себе бренд столь же
мощный в обществе телевизионных исповедей, как и «Карл
Кани».
Имя — Тупак Амару — было дано ему его матерью, Эфени
Шакур, в эпоху, когда революционные акты шли рука об руку
с поисками реидентификации с цивилизациями более древними, чем Соединенные Штаты Америки. «Им стоило убить меня
еще ребенком», — говорит Тупак на «Me Against The World».
Утрата иллюзий была основным мотивом в его жизни. Он родился
в 1971 году спустя месяц после того, как его мать вышла
из тюрьмы со снятыми обвинениями в заговоре с целью взрывов
полицейских участков и универмагов Нью-Йорка. Во время ареста
в 1969 году группа из 21 члена Черных Пантер, обвиненных
в этих преступлениях, выпустила заявление к «революционерам,
полностью готовым УБИВАТЬ, чтобы изменить существующие
условия». Эфени Шакур присоединилась к Черным Пантерам
в надежде на новые перемены лишь для того, чтобы увидеть,
как Федеральное бюро расследований Дж. Эдгара Гувера разнесет
организацию на куски за то, что они являлись, как это было
написано в отчете, «секретной, состоящей полностью из негров,
марксистско-ленинистской, ориентированной на китайский
коммунизм» угрозой.
Таким образом, идеалы рухнули и на их место пришли бедность,
наркотики, отчаяние, приходящее тогда, когда безудержный
оптимизм остается невостребованным. «Я видела разбрызганные
по тротуару мозги моих друзей, вышибленные пулями
полицейских, — сказала лидер Черных Пантер Элейн Браун. —
Я видела их лица в гробах. Все было настолько плохо, что костюм
для похорон стал обыденной частью наших гардеробов. Я стала
параноиком; я научилась смотреть через плечо». Семейная
история Тупака запутана, но в его детстве присутствовали такие
видные члены Черных Пантер, как Джеронимо Пратт и Мутула
Шакур. Неудивительно, что Тупак разрывался надвое: с одной
стороны — семейные связи и симпатии к революционным действиям
Пантер, с другой — материальный мир с его удовольствиями.
Мы можем видеть, как попытки американского правительства
и его агентств уничтожить идеалы, в которые верили
Пантеры, вернулись к нему же бумерангом. Неизбежно у активистов
появились бы дети, и один из этих детей должен был стать
Тупаком. Как сказал Дэн Куэйл, в своем глубоком невежестве,
«им нет места в нашем обществе». Мы и они. Рэпперов часто
упрекают за отсутствие морали, хотя в текстах Тупака, на каждом
его альбоме, поднимается много вопросов морали. «поэтому я не стану отцом, пока не будет времени, преступление
даже беспокоиться об этом», — читает он на «Papa’z Song». Музыка
пошла в двух направлениях. «Strictly 4 my N. I. G. G. A. Z…»
со скрежетом проложил себе путь через мощное влияние Bomb
Squad, бухающий бас глушит слова, и тут же хватает паники
Public Enemy и торопливости NWA. Где-то посередине альбом
дает крен в направлении туповатого, легкого гангста-настроения
Западного побережья в стиле Дре-Даза-Снупа, хотя и остается
по-прежнему личным и обезоруживающе исповедальным.
Перегруженный проблемами, Тупак записал полный раскаяния
«Me Against the World», — альбом медленных джемов
с еще большим количеством этих гладких грувов в духе Роджера
Траутмена, Айзека Хейса, Джо Сэмпла, какие любят гангста
(как итальянские мафиози тащились от Синатры и Дино). Подвергая
сомнению свой стиль жизни, сомневаясь в способности
держаться подальше от тюрьмы, едва ли не жалея себя и впадая
в паранойю: «Только проснулся и закричал: „На хер этот мир!“,
„Я вижу смерть за углом каждый день“». В какой-то момент —
продуманный образ, простенький прикид, очки, прямо студент
задумчивый, но переверните альбом — и увидите, как формируется
бандитский стиль в духе Thug Life: съемка со стороны затылка,
как у Майка Тайсона, и на «All Eyez On Me», первом в истории
рэпа «двойнике», он уже размахивает долларовыми банкнотами,
сигаретой, выпивкой, превращаясь в сверкающую змею из золота
и бриллиантов, в доспехах из кожи и с щитом из татуировок.
В балансе противоположностей — торжество преступника.
Игра Тупака в кино только добавляет неясностей во все это.
С субтильным телосложением, узким, напряженным лицом,
с резкими эмоциональными скачками, он неизбежно вызывал
сравнения с Джеймсом Кэгни, врагом общества, столь талантливым
в изображении нестабильности. В фильме Джона Синглтона
«поэтическое правосудие» (Poetic Justice) Тупак и Дженет
Джексон тянут на себе большую часть экранного времени, весь
рефлексивный эмоциональный вес. Несмотря на необходимость
плакать, жалеть, показывать нежность, демонстрировать родительскую любовь и ответственность, Тупак хорошо справляется
с этим, несмотря на давление со стороны режиссера Синглтона,
постоянно балансировавшего на грани слащавости. Подобно другим
рэпперам, снимавшимся в кино, — Айс Кьюбу, Куин Латифе,
Айс-Ти, Тон Локу — он казался расслабленным перед камерой,
выглядя естественно.
В июне 1993 года я интервьюировал Тупака относительно
его роли в «Поэтическом правосудии». Интервью получилось
довольно натянутым. Тупак был отстраненным и равнодушным,
мои вопросы только усугубляли напряженность ситуации. Учитывая
то, что случилось с Тупаком в дальнейшем, даже простые
его ответы на вопросы приобретают зловещее значение. Не раз
повторил он мне, что бедствует и борется. Несколькими месяцами
ранее я брал интервью у Дженет Джексон, которая долго
откровенничала о своем опыте работы в «Поэтическом правосудии». «Расскажи мне о своих ощущениях по поводу фильма», —
спросил я Тупака.
«Это случилось в очень подходящий период моей жизни, —
ответил он. — Мне только исполнился 21 год, я впервые встретился
с Дженет Джексон, с Последними Поэтами (The Last Poets)
и всеми этими людьми, и я чувствовал себя так же, как и Дженет.
Это было потрясающе, и, после того как все закончилось,
я переживал внутри весь этот опыт. Все, кто меня окружали,
были старше или более опытными, так что для меня это был
культурный шок».
В фильме он играл отца-одиночку, как он сам выразился,
«пытающегося быть ответственным в безответственном мире».
«Интересно, что ты играешь родителя-одиночку, — сказал я, —
поскольку ты писал сочувственные тексты по этому поводу».
«Да, я из подобной семьи, — ответил он, — так что я определенно
имею к этому отношение. Вся моя музыка показывает,
насколько важно происходя из такой семьи снова стать цельным,
потому что обстоятельства изначально против тебя».
Я спросил его, не мог бы он рассказать об участии его матери
в движении Черных Пантер.
«Нет, не стоит, — пробормотал он. — Я хочу сказать, это мое
семейное древо, понимаешь?»
Здесь белое пятно. Он был более разговорчив на тему его студенческих
деньков в Высшей школе изобразительных искусств
Балтимора: «Я чувствовал себя не в своей тарелке, поэтому мне
хотелось находиться в школе, где было полно людей, чувствовавших
себя таким же образом. Я стал любить реальный мир
за разных людей, разные культуры. Я видел, как женщины целуются
с женщинами, мужчины с мужчинами, и, когда я учился
в той школе, для меня не имело особого значения, что все вокруг
тащились от гомосексуальности. Я уже насмотрелся этого в своей
школе».
Я спросил, стремился ли он сниматься в фильмах.
«Да, — ответил он, — только в школе никто не думал, что будут
фильмы о черных. Мне сказали, что в этом направлении работы
мало».
Хотелось ли ему сниматься еще? «Определенно. Очень, очень,
очень хотелось бы. Жду не дождусь возможности поработать
еще».
Я спросил, был ли какой-нибудь конкретный случай в его жизни,
повлиявший на написание текстов.
«Да, — сказал он. — У нас дома вообще не было света. Ни света,
ни электричества, и у меня было радио на батарейках. Я впервые
услышал „I’m Bad“ L. L. Cool J и писал песни при свечке, зная,
что стану рэппером».
Получается, ты по-настоящему бедствовал тогда? «До сих пор
бедствую», — пробормотал он.
Наш разговор тоже не складывался. Я спросил его об инциденте
с Дэном Куэйлом. Он глубоко вздохнул: «Ох, чувак, я не знаю.
На самом деле мне насрать, что там сказал Дэн Куэйл. Уверен,
что можно где-то это найти, но в целом мне по херу, что он
там сказал. Мой ответ — на моих записях, понимаешь, так
что мне не нужно отвечать на этот вопрос снова и снова».
Теперь он пишет бандитскую музыку, как сказал он, «музыку
для деклассированных масс. Революционную музыку». И каков
эффект?
«Черт, я не знаю. Я не вижу каких-то эффектов. Я могу лишь
продолжать делать музыку». И что дальше?
«То же самое, то же самое, то же самое».
Тупак написал эту строчку для «Strictly 4 My N. I. G. G. A. Z…»:
«Знаешь, моя мама всегда говорила мне: „Если ты не можешь
найти, ради чего жить, лучше тогда найди, ради чего умереть“».
Можно легко увидеть, как эта этика могла эволюционировать
в двойную нигилистскую связку, поскольку жить ради идеалов
не получилось ни в его семье, ни в его окружении. И тогда
деньги, женщины, дорогие машины, шампанское, слава, калифорнийская
любовь привели к тому же выводу: заключение,
насильственная смерть, отсутствие места в обществе. То, ради
чего можно умереть.