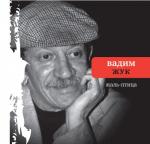- Мариуш Вильк. Путем дикого гуся. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2013. — 336 с.
ПРОЛОГ
Дело моей жизни, если так можно выразиться, —
не изменять своему пути, где бы я ни оказался.Кеннет Уайт
Знаете, чем путешественник отличается от странника? Пути первого всегда ведут к какой-то цели, будь то открытие истоков Амазонки, «поединок с Сибирью»1 , изучение племени хуту или тайского секса. А для странника — сам Путь и есть цель. Поэтому путешественник в конце концов из своих путешествий возвращается, а странник упорно движется вперед… И если даже задержится на мгновение в какой-нибудь глухомани, очарованный ее красотой (подобные мгновения могут быть достаточно протяженными), это вовсе не означает, что странствие подошло к концу. Ибо странствие (в отличие от путешествия) есть душевное состояние, а не деятельность — профессиональная или любительская. Выдающимся путешественником ХХ столетия был Рышард Капущиньский2. Образец современного странника в моем понимании — Кеннет Уайт.
Разными бывают встречи людей и книг. Порой человек ищет книгу, порой книга находит человека. «Синий путь» Кеннета Уайта ждал меня на стойке у портье в краковском «Доме под глобусом» — в сером конверте на мое имя. Кто его оставил — не знаю. Может, кто-то из читателей, пришедших на презентацию «Дома над Онего» в клубе «Алхимия». Это произошло в мае 2006 года. Прежде о Кеннете Уайте, авторе понятия «интеллектуальный номадизм», я никогда не слыхал.
На «Синий путь» Уайта я ступил в небольшом баре отеля на Славковской, с чашкой утреннего кофе в руке. И с первой же страницы он совершенно заворожил меня. Дойдя до фразы «Быть может, все дело в том, чтобы зайти как можно дальше — добраться до границ самого себя, — пока не окажешься там, где время обращается в пространство, где вещи являют всю полноту своей наготы и ветер веет безымянно», я понял, что встретил еще одну родственную душу. Человека, «сосланного» на Запад (по его собственным словам) и вынужденного — чтобы обрести свой Восток — пройти через Север.
Я заглянул в конец книги, пробежал глазами краткую справку об авторе. Уайт родился в 1936 году в Глазго. Изучал философию и другие гуманитарные науки в родном городе, затем в Мюнхене, а с 1959 года — в Париже, лето проводил на старой ферме в горах, где погружался в восточную философию. С 1963 года преподавал французскую поэзию в университете в Глазго. В 1967 году осел во Франции у подножия Атлантических Пиренеев, в настоящее время живет на северном побережье Бретани. Защитил диссертацию «Интеллектуальный номадизм». В 1983 году принял кафедру поэтики ХХ века в Сорбонне. Основал Международный институт геопоэтики, выпускал периодическое издание «Геопоэтические тетради». Автор двух десятков книг. Лауреат премии «Медичи» за иностранный роман («Синий путь»), Гран-при Альфреда де Виньи (за двуязычный поэтический сборник «Атлантика») и Гран-при Французской академии за литературное творчество. Есть о чем поразмыслить…
Я вернулся к началу книги. Кофе остыл. «Синий путь» рассказывал о странствиях Уайта по Лабрадору. Почему по Лабрадору? А ему надоела «иеговианская оккупация мира». Другими словами, Уайт двинулся на Север, стремясь освободиться от Священного Писания и порожденного им интеллектуального хаоса. В надежде увидеть на Лабрадоре свое первоначальное лицо. «Более всего, — признавался он, — я нуждаюсь в пространстве, огромной белой дышащей пустоте для окончательной медитации». Кроме того, на Лабрадоре Уайт, которому наскучили народы и государства, хотел увидеть племена. «К черту, нельзя быть всю жизнь шотландцем, — читал я, допивая остывший кофе, — и все время болтать об одном и том же. Нужно разорвать этот круг и смешаться с миром».
— К черту, — повторил я за ним, оплачивая счет, — нельзя быть всю жизнь поляком.
И еще не один день вторил я Кеннету. «Синий путь» по объему невелик, так что я довольно быстро выучил его почти наизусть. Впрочем, текст сам отпечатывался в голове благодаря переводу Радослава Новаковского3 (ударника из группы «Оссиан»), сумевшего передать удивительную мелодию — наподобие горлового пения шаманов Алтая и Тувы. Я бы охотно подписался под каждой второй фразой. Мне близки рассуждения об исчерпанности западной культуры и надежды, возлагаемые на Иного (его инну4 напоминали моих саамов — для тех и других Природа есть сосуществование, а не обуздание и власть). Мы цитировали одних и тех же авторов — от Торо5 до Басё — и принадлежали к одному и тому же племени «диких гусей» в человеческом обличье.
Затем ритм прозы Кеннета перекочевал со мной на Кольский полуостров, удивительно созвучный музыке саамов. Я тогда дописывал «Тропами северного оленя» и думал завершить книгу беседой с Уайтом. Увы, никто из моих знакомых не сумел его разыскать.
И вот мы встретились на фестивале Etonnants Voyageurs в Сен-Мало, на северном побережье Бретани. Этот небольшой городок на омываемой морем высокой скале испокон века служил крепостью французским корсарам. Александр Дюма сравнивал его с гнездом морской птицы. Здесь родился и умер мореплаватель Жак Картье6, открывший в 1534 году Канаду, отсюда в 1649 году отчалили корабли с проститутками для заселения новой французской колонии. Здесь родился писатель-романтик Франсуа Рене де Шатобриан, воздвигший себе на соседнем острове Гран Бе гробницу, — Гюстав Флобер, побывав здесь в 1847 году, сорвал на память у пустой пока могилы (автора «Атали» отделял от смерти год) цветок и послал своей любовнице. Трудно найти более подходящее место для встречи «удивительных путешественников».
Характерно, что, странствуя по Лабрадору, Уайт не расставался с мемуарами Картье, изданными в Париже в 1968 году. При этом он обратил внимание на интересное совпадение: «В то время во Франции многие ощущали, что определенная культура заканчивается — грядет нечто новое». Это новое, по мнению Кена, заключалось в переходе от истории к географии. Поразительно, что фестиваль в Сен-Мало организуют люди, связанные с 1968 годом. Кое-кто язвительно именует их «gauche caviar» — якобы они жрут икру и разъезжают на «ягуарах». Не буду скрывать: «икорные левые» мне ближе, чем пресные правые вроде Гертыха7 или Ле Пена8. Поэтому, хоть я и не поклонник подобного рода сборищ, приглашением на фестиваль «Удивительные путешественники» все же заинтересовался.
Мне понравилось, что мероприятие началось прямо на парижском вокзале Монпарнас, откуда литерный «Train du livre»9 повез нас в Сен-Мало. Всем известно, что знакомиться лучше всего в пути. Я сразу заметил, что некоторые гости прибыли издалека… В их глазах — наблюдательных и настороженных — ощущалась сосредоточенность, типичная для людей, много странствующих. Но большей частью пассажиры напоминали стайку взъерошенных птиц. Издатели, журналисты, критики и постоянные участники фестиваля громко приветствовали друг друга, чмокали и пыжились.
А за окном — пейзажи Нормандии: плодородные почвы, дородные коровы, солидные хозяйства. Ничего удивительного, что нормандцы не дали миру ни моряков, ни первооткрывателей. Нажитое, точно якорь, удерживало их дома. А вот бретонцев нищета разбросала по белу свету. Пустой карман, говорят они, точно парус, бери да подставляй ветру.
Сен-Мало встретил нас солнцем. Потом были приветственные речи и грандиозный прием во дворе замка (дары моря, море вина и переодетые пиратами официанты), калейдоскоп лиц, рукопожатия, совместные фотографии и первые интервью. Тем временем погода изменилась. Задул ветер, хлынул дождь. Штормило до конца фестиваля. Море пенилось у подножия крепостных стен, ураган повалил несколько деревьев, пришлось закрыть большой стенд, где проходила книжная ярмарка, — шатер не устоял бы перед напором стихии. Из соображений безопасности закрыли гробницу Шатобриана, зато рестораны и бары работали круглосуточно.
Ведь самое интересное в Сен-Мало — встречи10. Ради них и съезжаются сюда странники со всего мира. Я говорю не об официальных пресс-конференциях с участием нескольких авторов, к каждому из которых приставлен свой переводчик (меня с русского переводила очаровательная украинка Настя) — иначе в этом вавилонском столпотворении друг друга не понять. Нет, я имею в виду именно случайные встречи в кафе.
Взять хотя бы Дэна О’Брайена… Мы вместе выступали в «Литературном кафе», так что кое-что я о нем уже знал: живет в Скалистых горах, разводит бизонов, дружит с индейцами. Но там была суматоха (кроме нас, выступали еще Мелани Уоллес и Сукету Мехта), Дэн О’Брайен неважно себя чувствовал из-за недавнего падения с лошади и опоздал. Заметив О’Брайена в укромном уголке кафе «Путешественник», где мы с Тадеушем11 укрылись от дождя, я подсел к нему, словно к старому знакомому.
— Тебе не кажется, — заметил О’Брайен после пары рюмок текилы, — что мы тут повстречались, точно бизон с оленем?
Да, ради такой встречи стоило приехать. Поэтому я не очень понимаю Капущиньского, который, побывав на фестивале в Сен-Мало, отметил в своих «Лапидариях» лишь толпу людей да массу книг. Ни одного человека, не говоря уж о бизонах или оленях.
С Кеннетом Уайтом на фестивале в Сен-Мало мы чуть не разминулись. Я не знал, что он здесь. Утром, заказав в отеле «Элизабет» кофе с булочкой, я заглянул в список гостей. Большинство имен ничего мне не говорило, так что я просто бездумно водил глазами, позевывая и стряхивая с себя похмелье после вчерашнего банкета. И вдруг словно очнулся: по алфавиту мы стояли рядом — White и Wilk. Вот так фокус!
Я легко отыскал его среди «толпы людей и массы книг». Уайт сидел на стенде издательства «Actes Sud» и подписывал прелестной девушке свой «Дом приливов». Когда он оторвался от книги, в выцветших серых (гиперборейских) глазах я увидал знакомую синеву. Наши взгляды встретились, и мы дружно расхохотались.
А что нам оставалось еще? По-французски я — ни бум-бум, а остатки моего английского развеял атлантический шторм. Кен, в свою очередь, — по-русски ни вот столько… что уж говорить о польском! Тадеуш с Верой12, правда, что-то ему объясняли, но в общем мы поняли друг друга без слов. Достаточно было посмеяться вместе, похлопать друг друга по плечу. Казалось, мы вот-вот примемся тереться носами. В конце концов, всей компанией отправились обедать в «Таверну корсара». Кена сопровождала Мари-Клод13, меня — делегация издательства «Noir sur Blanc»14.
Что мы ели — не помню… Вера с Мари-Клод то и дело подкладывали нам какие-то деликатесы, Мари-Франсуаз наполняла наши бокалы, а Тадек едва успевал переводить. Поспеть за нами и впрямь было нелегко, поскольку изъяснялись мы на волапюке15, в котором слова — кельтские или славянские — выполняли роль птичьего щебета. Иначе говоря, объяснялись наречием людей, которые, распознав в собеседнике человека своего склада (сходный стиль жизни, родственная душа), способны больше выразить жестом, нежели пространной фразой.
Мы сравнивали, например, свои дома — «Дом приливов» и «Дом над Онего»: достаточно оказалось махнуть рукой в ритме волн за окном, чтобы сразу стало ясно — речь идет о домах-скитальцах.
В какой-то момент мы перешли на пиктографию. Чтобы объяснить понятие «интеллектуальный номадизм», Кеннет нарисовал в моем блокноте длинную прямую: это, как он выразился, «автострада европейской культуры». Линия внезапно обрывалась на рубеже XIX—ХХ веков или чуть позже. За пару сантиметров до обрыва от нее отходило в разных направлениях несколько стрелок. Под одной Уайт написал «Ницше», под второй — «Рембо», прочие оставил безымянными. Эти стрелки и есть интеллектуальные номады, а пространство, которое они охватывают, — область геопоэтики.
— Геополитики? — не расслышал Тадек.
— Геопоэтики, — повторил Кен. — Геополитика — это прямая, уходящая в никуда.
Каждый раз, когда я потом смотрел на рисунок Кена, мне казалось, что передо мной наскальный рисунок эпохи раннего неолита.
Знаете, чем отличается книга-путешествие от книги-тропы? Первая — по Уайту — коллекция верст, своего рода культурный туризм (история, кухня, всего понемножку), вторая — странствие в буквальном смысле этого слова. Ведь когда пишешь, никогда не знаешь, куда забредешь! Книги-тропы не имеют ни начала, ни конца, это следы единой тропы, в которой пролог может обернуться эпилогом, а эпилог — прологом.
Сен-Мало, 2007
Примечания
1 «Поединок с Сибирью» — название книги Ромуальда Коперского об автомобильной экспедиции из Цюриха в Нью-Йорк через Сибирь, Аляску, Канаду и большую часть территории США. Здесь и далее примеч. пер., за исключением специально отмеченных авторских комментариев.
2 Рышард Капущиньский (1932–2007) — знаменитый польский репортер и публицист.
3 Радослав Новаковский (р. 1955) — музыкант, писатель, переводчик, издатель.
4 Инну (монтанье-наскапи) — индейский народ на юге и востоке полуострова Лабрадор в канадских провинциях Квебек и Ньюфаундленд.
5 Генри Дэвид Торо (1817–1862) — американский писатель, мыслитель, натуралист, общественный деятель, аболиционист.
6 Жак Картье (1491–1557) — французский мореплаватель, положивший начало французской колонизации Северной Америки.
7 Наряду с Каботом и Шампленом считается одним из первооткрывателей Канады.
8 Роман Гертых (р. 1971) — польский консервативный политик, вице-премьер и министр образования (2006–2007) в правительстве К. Марцинкевича и Я. Качиньского, бывший председатель партии «Лига польских семей и всепольской молодежи».
9 Жан-Мари Ле Пен (р. 1928) — французский политик, придер¬живающийся националистических взглядов.
Книжный поезд (фр.).10 В интервью-реке под названием «Пути и иллюзии» Николя Бувье сказал Ирен Лихтенштейн-Фол, что в Сен-Мало он встретил самых веселых и остроумных людей на свете, потому что там никто не относится к себе серьезно (кстати, я только недавно заметил, что «Рыбе-скорпиону» Бувье предпослал эпиграф из Уайта). В Сен-Мало я убедился, что братство «диких гусей», о котором писал Кен, в самом деле существует. Примеч. автора.
11 Тадеуш Михальский. См. о нем: Вильк М. Тропами северного оленя. СПб., 2010. С. 189–205.
12 Вера Михальская — глава издательства «Noir sur Blanc».
13 Мари-Клод — жена Кеннета Уайта, фотограф, переводчик.
14 Швейцарское издательство, где выходят книги М. Вилька.
15 Волапюк — искусственный международный язык, изобретенный в 1879 г. Шлейером и не вошедший в употребление. В переносном смысле — речь из мешанины непонятных слов, тарабарщина (шутл.).
Рубрика: Отрывки
Аркадий Ипполитов. «Тюрьмы» и власть: Миф Джованни Баттиста Пиранези
- Ипполитов А. В. «Тюрьмы» и власть: Миф Джованни Баттиста Пиранези. — СПб.: Издательство «Арка», 2013. — 368 с.
Аркадий Викторович Ипполитов — российский искусствовед, куратор, писатель. Старший научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, хранитель итальянской гравюры. Автор более 600 научных и критических публикаций, куратор многочисленных выставочных проектов в России и за рубежом. Лауреат премии Андрея Белого за книгу «Особенно Ломбардия. Образы Италии XXI».
«„Тюрьмы“ и власть…» посвящена знаменитой серии офортов Пиранези, известной под названием Capricci di Carceri. Аркадий Ипполитов реконструирует варианты политических, социокультурных и психологических обстоятельств создания Carceri, балансируя на грани с художественным вымыслом. От этого все события, происходящие в книге, становятся еще более привлекательными для ценителей искусства. «Прочтение» публикует отрывок из романа-альбома.
глава нулевая «Тюрьмы» Пиранези
в 2012 годуСреди рецензий, последовавших на выставку под названием «Дворцы, руины и темницы. Джованни Баттиста Пиранези и итальянские архитектурные фантазии XVIII века», одной из наиболее внятных была опубликованная в «Коммерсантъ Weekend» статья Анны Толстовой, начинавшаяся утверждением, что выставка опоздала лет на двадцать. Далее следовала
пространная метафора, уподобляющая Ленинград Риму Пиранези,
метафора не то чтобы оглушительно оригинальная, но милая. При
этом я — как куратор — осыпáлся комплиментами: по мысли автора,
лет двадцать тому назад я, с моей способностью актуализировать
седую древность, смог бы развернуться и показать, что «главный архитектор Петербурга — это в реальности почти ничего не построивший кавалер Пиранези». Тут же отмечалось, что не пиранезиевские римские виды стали темой выставки, а его архитектурные фантазии, «Темницы» в том числе, как Толстова (вполне правомерно) назвала
серию «Тюрьмы». Пиранези поётся панегирик, и очень меня статья
умаслила, но — ложки вернули, а осадок остался: неприятно всё же
опаздывать лет на двадцать. Очень мне захотелось указать автору на
то, что выставка серию «Тюрьмы» Пиранези делала на экспозиции
главной темой, концентрируя внимание среди всех его фантазий
именно на ней, и что выставка открылась прямо накануне президентских выборов. Думая об актуальности (а я о ней думал), можно
было бы это совпадение и заметить — кое-кто из зрителей заметил.
Я акцентировал «Тюрьмы» не случайно, погрузив их, правда, в рассол из итальянских фантастических утопий, ибо что может быть актуальнее темы Тюрьмы, завершающей Утопию, — а выставка строилась именно так, — накануне любых выборов? Да и вообще тюрьма для России, и не только для России, актуальна всегда, и именно
это — актуальность «Тюрем» сегодня — я и держал в голове, решив
написать данную книгу, посвящённую зачатию, рождению, а затем
дальнейшей жизни — уже после смерти автора, достигшего бессмертия, — в последующих поколениях одного произведения, всё
тех же «Тюрем» Пиранези, обычно в искусствоведческой литературе именующихся Capricci di Carceri .…Ведь Пиранези парадоксален и современен всегда. Он стал
одной из ключевых фигур римской художественной жизни середины XVIII века и определил интернациональный неоклассицизм,
прелюдию искусства Новейшего времени, — это бесспорно. Такое
понятие, как «Рим Пиранези», является для европейского сознания
топосом, то есть устойчивым клише. Известность Пиранези, однако,
переросла границы Рима: его имя прочно вошло в историю искусств
как имя одного из главных реформаторов в области вкуса, и слава
его гравюр, распространившихся по всей Европе, сделала альбомы
Пиранези необходимой составляющей архитектурного образования.
На альбомах с его гравюрами воспитывались целые поколения, так
что Пиранези сегодня — не только протагонист неоклассицизма, но
и классик. Как всякий классик, он стал в какой-то момент вызывать и раздражение. С начала XX века Пиранези называют «последним
римским гением», тем самым подчёркивая, что его работы завершают и подытоживают великую эпоху классической архитектуры,
ознаменованную многовековым господством Рима как центра Европы и длившуюся с начала XVI века, эпохи Высокого Ренессанса, до
конца XIX века — времени торжества ар нуво. Созданный Пиранези
образ Вечного города с его знаменитыми памятниками античности
и барокко представляется гимном прошлому и определяет отношение к Риму как к городу, принадлежащему эпохе великой, но уходящей. Пиранези — гений ретроспекции и археологии, «последний из
могикан», и эта идея окончания, завершения, звучащая в большинстве рассуждений о творчестве Пиранези и его месте в эволюции
культуры, придаёт его образу оттенок меланхоличного архаизма.
Действительно, чем Пиранези прославился больше всего? Изображением руин, то есть величия, ушедшего в прошлое, и грандиозными
миражами возрождения этого величия в будущем, миражами столь
же прекрасными, сколь и несбыточными. Архитектор фантазий,
практически так ничего и не построивший, проектировщик утопий,
ничего общего не имеющих с реальностью, визионер и мечтатель,
горько оплакивающий древность, давно ставшую мифом, Пиранези — странный феномен великого Рима, постепенно превращающегося из центра европейской художественной жизни в культурное
кладбище Европы. Подобная оценка творчества Пиранези, сформировавшаяся сразу после смерти мастера, в конце XVIII — начале
XIX века, до сих пор продолжает определять его восприятие.Всё это относится к «Риму Пиранези», застрявшему в сознании
европейцев со времени Гёте, который задолго до посещения Вечного
города сказал, что Рим открылся ему в офортах Пиранези. В России «Рiмъ Пиранези» лучше всех описал П. П. Муратов, посвятивший гравёру целую главу в «Образах Италии». Муратов утверждает:«Пиранези был последним явлением художественного гения Рима.
Он появился как раз в ту минуту, когда на земле Рима прекратилось
многовековое сотрудничество искусства и природы», тем самым подчёркивая ретроспективность (ретроспективность для Муратова почти синоним культурности) Пиранези, Рима и Италии вообще.
Немного далее он пишет: «Его воображение было поражено не так
делами рук человеческих, как прикосновением к ним руки времени»,
что является утверждением уж слишком субъективным, несмотря
на всё его изящество. Ведь кроме понятия «Рiмъ Пиранези» существует ещё и «Мiръ Пиранези», и сегодня общепризнанно, что мало
замеченная при его жизни серия офортов «Тюрьмы», Capricci di
Carceri, странная череда пугающе необъяснимых мрачных образов,
на много десятилетий обогнала свою эпоху.
Великое произведение, Capricci di Carceri, как раз и определило понятие «мир Пиранези» (избавлюсь теперь от милой старой
орфографии), сформировавшееся уже после смерти художника.
С середины XIX века «Тюрьмы» стали считаться главным его произведением, а затем, в модернизме, заслонили собой всё остальное,
Пиранези созданное. Первыми о «мире Пиранези» и о «Тюрьмах»
заговорили создатели готического романа, эксцентрики Уильям
Бекфорд и Гораций Уолпол. Не без их влияния к Пиранези обратился Сэмюэль Кольридж и, по его совету, Томас де Квинси: в «Исповеди англичанина, употреблявшего опиум» он хотя и посвятил
«Тюрьмам» Пиранези всего несколько абзацев, так ярко вписал эту
серию в опиумные видения «искусственного рая» — одурманенного наркотиком мозга интеллектуального эстета, — что со времени
публикации романа пиранезиевские фантазии стали трактоваться
как прорыв в искусство будущего. Роман Томаса де Квинси был невероятно популярен среди декадентов. Готье и Бодлер пропели ему
панегирик, тем самым создав Пиранези репутацию одного из первых художников, проникнувших в мир болезненного подсознания,
так что благодаря им Пиранези стал любимцем fin de siècle. Другой
экстравагантный англичанин, архитектор Джон Соун, на Пиранези чуть ли не помешанный, в собственном доме, созданном по специальному проекту в центре Лондона, устроил что-то наподобие музея-святилища Пиранези, не только украсив всё его гравюрами и рисунками, но наполнив пиранезиевскими мотивами дизайн своих интерьеров.В России, чуть позже де Квинси, В. Ф. Одоевский пишет рассказ «Opere del Cavaliere Giambattista Piranesi» («Труды кавалера
Джамбаттисты Пиранези»), превращая этого главного «представителя римского неоклассицизма», как часто характеризует его искусствоведческая литература, в отчаянную и мрачную романтическую
фигуру. Темницами Пиранези был увлечён Виктор Гюго, создавший
под влиянием его офортов целую серию рисунков, вызвавших восхищение Одилона Редона. Герман Мелвилл, автор «Моби Дика», в своей поэме «Кларел, или Паломничество в Святую землю» упоминает
Пиранези, посвятив ему отдельную песнь. Впечатления от мрачных
фантазий Пиранези вычитываются в новеллах Эдгара По — к концу
XIX века его влияние перебралось на западный берег океана. Мировой символизм всосал Пиранези, как детское питание, и порождения символизма — экспрессионизм и сюрреализм — унаследовали
любовь к его гравюрам. Никола де Сталь и Ханс Хартунг создавали
абстрактные композиции, посвящённые «Тюрьмам» Пиранези. Мауриц Корнелис Эшер использовал Пиранези для своих опытов в построении пространственных лабиринтов, и через Эшера Пиранези
повлиял на компьютерную графику.Эссе о Пиранези написали Олдос Хаксли, Маргерит Юрсенар, Сергей Эйзенштейн — благодаря им Пиранези оказался в центре внимания XX века. Офорты Пиранези стали отправной точкой
для многих режиссёров: их использовали в своих фильмах Сергей
Эйзенштейн и Фриц Ланг, не говоря уже о множестве современных фильмов в жанре фэнтези. Его архитектурные идеи, причём не
опусы неоклассицизма, а утопические видения, вдохновляли архитекторов тоталитарных режимов — муссолиниевской Италии, сталинского Советского Союза и гитлеровской Германии. Некоторые
рисунки Адольфа Гитлера, сделанные им в период, когда он пытался
учиться на архитектора, очень близки к архитектурным фантазиям
Пиранези, но и без Гитлера всё понятно — достаточно посмотреть на проекты Шпеера, чтобы убедиться в актуальности Пиранези для
эстетики Третьего рейха. О влиянии Пиранези на сталинскую архитектуру тоже хорошо известно — подземная утопия московского
метро изобилует заимствованиями из Пиранези.В то же время Пиранези стал чуть ли не любимым архитектором постмодернизма. С успехом прошедшая в Нью-Йорке в 2008 году
выставка «Piranesi as Designer» («Пиранези как дизайнер») завершала повествование о влиянии Пиранези на европейский дизайн
именами Роберта Вентури и Даниэля Либескинда. Для Вентури
между «Римом Пиранези» и «миром Пиранези» оказался поставлен
знак равенства, так как Пиранези стал своего рода путеводной звездой для всех, кто захотел выбраться из прямолинейного, безликого
и страшно надоедливого мира модернизма. Большим поклонником
Пиранези является и голландец Рем Колхас. Постмодернизм превратил Пиранези в священную корову и ввёл моду на до того третировавшийся как эклектика стиль Джона Соуна, перед Пиранези
преклонявшегося. В современной России Пиранези по разным причинам кадят многие архитекторы: с одной стороны, он мил нам как
певец руин империи (о чём Толстова и говорила), а с другой — как
гений «бумажной архитектуры». Короче говоря, по количеству откликов и цитат в искусстве XX–XXI веков среди всех художников
своего времени Пиранези, войдя в плоть и кровь модернизма, занимает, пожалуй, первое место. Сегодня «Тюрьмы» не просто великое
творение XVIII века, но и часть современного мира……Вот так я писал (и думал), принявшись за книгу, этакий роман-альбом о жизненном пути одного великого произведения, пока досадная случайность не выбила меня из колеи, доказав в очередной раз
справедливость гоголевского «Всё обман, всё мечта, всё не то, чём
кажется!».В августе 2012-го, как раз когда я обдумывал сложнейшие обстоятельства появления «Тюрем» Пиранези на свет и очень был
этим занят, я получил письмо из лондонского журнала «Wallpaper» с предложением встретиться, так как редакция делает специальный выпуск, посвящённый Петербургу. Особенного желания отвлекаться от Пиранези и от тайны зачатия и рождения «Тюрем» у меня
не было, но, памятуя о том, как любил этот журнал мой близкий
друг Александр Белослудцев, прекрасный график и арт-директор
«GQ», считавший «Wallpaper» образцом настоящего дизайна, умного и завлекательного одновременно, не чета той плохо проваренной каше, что обычно у нас design-ом зовётся, я на встречу согласился. Саши уже восемь лет нет на свете, и, представив, как радостно он бы меня на эту встречу отправил, я, отфотографировавшись у некоего модного фотографа, обаятельного афроевропейца,
явился на устроенное редакцией, прибывшей в Петербург в полном составе, party. К тому же и моя лондонская приятельница сказала, что «Wallpaper» — любимый
журнал её дочери и вообще молодёжи, что «Wallpaper» — это очень круто, cool и trendy, так что когда ответственная редакторша по части life style, которая мною занималась, представила меня всем остальным ответственным редакторам, то моё знание о предполагаемой дизайнерской крутизне этого
издания обволокло мягким сиянием лондонские, — а все они, несмотря на этническое разнообразие, были несомненно лондонскими — лица, ко мне обратившиеся. Некоторые справки обо мне редакция — так же, как и я о ней, — наводила, прежде чем меня звать,
смутно уяснив что-то про Эрмитаж и современное искусство. Поэтому, когда из светскости меня стали расспрашивать о предмете
моих занятий, я, чтобы поставить точки над i, пояснил, что пресловутое современное искусство — не главное в моей жизни, что я хранитель итальянской гравюры и, в частности, только что сделал выставку Пиранези. Этого «Пиранези» я, видно, сам того не желая,
как-то интонационно выделил, и слово это привлекло внимание,
хотя в глазах лондонских хозяев вечеринки я заметил то вежливое
непонимание, какое возникает в глазах светских людей, когда при них упоминают нечто, предполагающее наличие неких ассоциаций,
которые на самом деле у них начисто отсутствуют. Ну как, например, вы произносите:
«Я вчера виделся с N», желая выставить себя
в выгодном свете и понравиться собеседнику упоминанием известного имени, а собеседник чуть приподнимает в недоумении брови с видом: «…N… да, очень приятно, но… а кто это такой?..» — тут
же ставящим вас на место. Ответственная редакторша по части life
style, наиболее мною обременённая, так как она меня на фотосессию
и вечеринку и звала, со светской улыбкой пробормотала: «Ах да,
Пиранези, я, наверное, должна знать», и я, через некоторое время
выйдя покурить, решил удалиться по-английски, не прощаясь, совсем даже — поймите меня правильно, я не тупой сноб-начётчик —
не шокированный, но несколько озадаченный.
Шёл, чесал затылок и думал что-то вроде: вот как, оказывается
далеки от сегодняшнего дня не только я, но и Либескинд с Колхасом,
если весь дизайнерский лондонский крутняк и слыхом не слыхивал
ни про какого Пиранези. Печально… И что же тогда значат все мои
россказни про миф Пиранези в современном мире? Ну ничего, досужая болтовня для ботаников, да и только, — совсем современный
мир к Пиранези безразличен. В гробу современность видала, а точнее — не видала даже и там, выставку «Piranesi as Designer», так превозносимую прессой (искусствоведческой), и не знают лондонские
cool и trendy никаких едоков опиума, ни Квинси, ни Кольриджа, ни
тем более Бекфорда с Уолполом. На Джона Соуна им также наплевать, хотя самому мне уже поднадоел и казался снобистски избитым
ответ на вопрос о том, что бы такого особенного посмотреть в Лондоне: всегда у людей со вкусом следует указание на Музей сэра Джона Соуна как на самое cool и trendy лондонское место; такой ответ
я не раз слышал в Европе, а у меня на родине при упоминании Музея
сэра Джона Соуна вообще на всех, кто хоть как-нибудь с дизайном
и архитектурой связан, находит амок. Дом Соуна, ещё относительно
недавно подходивший под определение «эклектика» и модернизмом презираемый, теперь место к посещению просто обязательное,
и никто не сомневается в том, что Соун — великий архитектор, а его
экстравагантное жилище на Линкольнс-Инн-Филдс так напичкано Пиранези, что, побывав там, Пиранези не заметить невозможно. От
пиранезиевской комнаты в доме Соуна теперь все дизайнеры с ума
посходили, и вроде как люди, занимающиеся путешествиями и дизайном, — а именно этим «Wallpaper» и занимается, — должны бы
про это место знать и там побывать, ну хотя бы разок. Так я думал
ещё недавно, а теперь оказалось, что всё это были ложь и иллюзии,
и не слишком меня утешало воспоминание о том, что когда я последний раз в Музее сэра Джона Соуна был, то в книге для посетителей
увидел фамилию и подпись президента отечественного отделения
Conde Nast, также за путешествия и дизайн отвечающего.Безразличие современности к Пиранези, глянувшее на меня
из глаз лондонской тусовки, сбило меня с толку: выходит, Пиранези сейчас совсем не современен и не парадоксален и ничего у меня
с актуальностью «Тюрем» не получится по определению. Старые
гравюры есть старые гравюры, и я обречён на томление в том унылом склепе, что зовётся «отечественным искусствознанием», поэтому написать о Пиранези что-либо, что кардинально отличалось бы
от диссертаций, которых никто не читает, даже тот, кто на банкет
в честь защиты приглашён, дело невозможное, а потому и ненужное.
Как perpetuum mobile искать.
Впрочем, чесание затылка успокаивает нервную систему
и стимулирует мозговую деятельность. В мою голову — через затылок — пришла идея попросить трёх отечественных интеллектуалов, никак ни с каким искусствоведением не связанных, проделать
следующее: сосредоточиться и, закрыв или не закрыв глаза, как понравится, вспомнить «Тюрьмы» Пиранези и тут же, по принципу
автоматического письма сюрреалистов, записать и послать мне все
ассоциации, какие только возникнут в голове при этом словосочетании. Это была последняя отчаянная попытка спасти свою уверенность в том, что нет на самом деле никаких «старых мастеров», что
любой мастер всегда мастер и искусство восемнадцатого (впрочем,
так же, как и пятнадцатого, девятнадцатого или двенадцатого) века
вполне актуально во все времена, просто это надо увидеть, и совсем не обязательно об искусстве писать с иссушающей тупостью наукообразия или с сентиментально-патетическим подвыванием (иногда
их смешивая), как обычно это принято почти повсеместно. Я уповал
на свою выдумку, как Старушка из детского стишка Маршака, очнувшаяся ото сна в неожиданном для неё месте и почувствовавшая
из-за этого сомнения в своей самоидентификации, уповала на собаку: «Если я — это я, меня не укусит собака моя! Она меня встретит, визжа, у ворот, а если не я, на куски разорвёт!» В качестве собаки я и решил использовать трёх представителей современности,
так как мне было важно, облают ли они меня или согласно хвостом
вильнут, и уже одно то, что они согласятся на эту процедуру, будет
многое значить. Тремя интеллектуалами, на которых пал мой выбор, стали три человека, деятельность которых, с вечностью связанная, в современности плотно укоренена: это — композитор, автор
как серьёзных опер, настоящих opera seria, так и музыки к фильмам;
затем — литератор и эссеист, сейчас с успехом подвизающийся на
поле политтехнологии и скромно именующий себя медиаконсультантом; и главный редактор самого снобистского журнала России,
блестящий театровед и критик к тому же.Как явствует из заглавия моей книги, больше, чем реальность, меня
интересует миф Пиранези. Надо признаться, что о Пиранези времени создания «Тюрем» практически ничего не известно, поэтому,
хотя его существование — факт неоспоримый, относящийся к области эмпирического, всё остальное — сплошное теоретизирование и относится к области мифологического, если не мифического.
Жанр задуманной мною публикации гравюрных фантазий молодого Пиранези я определил для себя как роман-альбом — жанр, неоспоримое достоинство которого состоит в том, что, не зная больше
ни одного творения в этом роде, я чувствую себя вне конкуренции.
В этом романе-альбоме Пиранези для меня в первую очередь персона, то есть маска, а не лицо, и мною персона-маска превращена в персонаж, в героя повествования, — со всеми вытекающими отсюда
обстоятельствами.
Мой выбор представителей современности, их личными качествами, быть может, и определённый, был,
однако, не совсем личностным, ибо ко всем троим я всё же апеллировал в первую очередь не как к индивидуальностям, а как к персонам, то есть публичным лицам, поэтому я им присваиваю имена
персонажей-масок, как в commedia dell’arte: Композитор, Политтехнолог и Редактор, — и именно так, сделав их героями своего повествования, я в дальнейшем именовать их и буду, учитывая, что лицо
индивидуальное и персона никогда полностью не совпадают, а персонаж — герой чьего-либо повествования, будь то роман, научное
исследование или даже просто статья в жёлтой прессе, это уж и совсем нечто — не скажу другое — третье.Я оказался более удачлив, чем маршаковская Старушка, и мне
ответили все и сразу, причём первым откликнулся Композитор. Он,
по роду занятий будучи наиболее творчески свободным, вполне желание свободы в творчестве и реализует, в отношениях с миром стараясь казаться «верным снимком du comme il faut… (Шишков, прости…)», поэтому отвечает на все письма незамедлительно и аккуратно. Ответ я воспроизвожу практически полностью:
Первое, что приходит в голову: Pussy Riot.
Чертополох, но не нагруженный геральдикой и символикой, а как знак
чего-
то простейшего, скудная флора руин — руин вообще, но в первую
очередь
советских; можно также сказать бурьян, сурепка, заячья капуста,
подорожник, иван-чай и т. д.
Агорафобия (но не клаустрофобия).
Ч/б — то есть чёрно-белое как техническое определение фотографии
и кинематографа,
а также понятие стиля.
Сумерки.
Супрематизм.
Alien 4 Жан-Пьера Жене — спецэффект бесконечного лабиринта, в реальности построенного на двух декорациях коридоров, томление ужасом.
Другой Жан Жене.
«В тюрьме Санте» Аполлинера и музыка Шостаковича на эти стихи.
Регулярность, симметричность (Эшер).
«Больше ничего выдавить не могу, извини» — так всё заканчивалось,
но мне этого было более чем достаточно. Понятно, что в 2012 году
при слове «тюрьма» первое, что приходит на ум, — Pussy Riot. Важно это даже не в контексте сегодня, а как некая проекция из века
двадцать первого в век восемнадцатый: наверняка подобные ассоциации приходили в голову и тем, кто над «Тюрьмами» Пиранези
размышлял раньше нас. Например, Жан-Филипп Рамо, взглянув
на этот, подсунутый ему под нос известным знатоком и коллекционером гравюр Пьером-Жаном Мариеттом альбом, само собою,
вспомнил бы заключение Дени Дидро в замок Венсенн за «Письмо о слепых в назидание зрячим», что произошло как раз в год выхода «Тюрем» в свет, в 1749-м, — а куда бы он, Рамо делся? Затем,
как вы видите, от Pussy Riot один шаг до ассоциаций с ветшающей
советскостью, в памяти обретающей черты идиллии (Рамо наверняка пришли бы в голову готические замки, сжираемые сорняками) — идиллии несколько затрёпанно-помоечной, связанной — как
многие наши воспоминания — с чёрно-белыми, как гравюра, а не
цветными фотографиями. Путаница штрихов Пиранези и впрямь
напоминает о сорняках, но в то же время она столь элегантна, что
через чёрное и белое подводит к понятию стильности, всегда во
всём чёрно-белом заключённой, и — к минимализму-супрематизму,
вроде как и являющемуся полной противоположностью беспорядочной органике сорняка. В силу двуединой природы этой элегантности-убогости, оборачивающейся двусмысленностью, на память
приходят современные фильмы фэнтези — про космос ли или про
вампиров, всё равно — с их искусственными страхами; и тут же, из
Жан-Пьера Жене, довольно-таки обыкновенного режиссёра, как Чужой из носителя, проклёвывается другой Жене, гениальный, самый замечательный писатель из когда-либо о Тюрьме писавших и на величественности искусственного просто помешанный. Об Аполлинере с Шостаковичем я уж и не говорю, они, как и Эшер, нечто само
собою разумеющееся, и от всего ряда, выстроенного Композитором,
у меня прямо на сердце потеплело: ни одной ассоциации из области
того, что к «старым мастерам» обычно относят, под каждой из них
я с удовольствием бы и сам подписался. Ну вот и слава Богу, вот
и доказательство того, что Пиранези творит ту реальность, что искусством мы зовём, вместе с обоими Жене, Аполлинером и Шостаковичем в одном пространстве, и уж чем-чем, а временем разница
творцов и творений определяется в последнюю очередь, подумал
я — и тут подоспел ответ Политтехнолога:Высокие своды, и вообще много воздуха — в отличие от спёртости
брежневской застройки в районе Ткачей, где прошла моя бедная юность.
Вид изнутри, со двора, особняка Левашова в Петербурге, № 18 по Фонтанке;
его сумрачная (с перерывом) арка. Как выйдешь — контрастно — ширь
Фонтанки с тогда ещё совсем узкой (несколько шагов поперёк) набережной,
всей в сиянии летнего света; чугунная прозрачность ворот Летнего сада.
Чернота вестибюля питерской модерновой лестницы на Моховой и, сквозь
полвека не мытые стекла арочного окна, опять же торжественный летний
свет — бархатный (ножной) регистр органа.
Выход на Неву сквозь ворота Львова в Петропавловской; именно выход,
а не вид — не ширь, а её ожидание в сумраке. Вообще любое ожидание
выхода — хоть на железной дороге — путь сквозь финские граниты
проёмов (пробоев) мостов и насыпей — но непременно в летний свет;
зимой Пиранези не работает.Страшная модерновая люстра, которая висит над моим столом: на
цепях, громоздкая и чёрная, из дешёвого металла; в неовизантийском
вкусе к 300-летию дома Романовых; в ней есть что-то утилитарно-
величественное и репрессивное. Тюрьма, дарующая свет.
Русские денди 70–80-х годов, в которых нет ни свободы, ни воли, зато
много фрустрированной элегантности.
Главная ассоциация: Петербург и даже Ленинград. Всё остальное на самом
деле частности, и они могут быть любыми и в любом диапазоне, от арки на
Галерной, где цвет небес зелёно-бледный, скука, холод и гранит, до моей
тёти Кати с её высокой экстатической бедностью (стоптанные башмаки
и платье с выглаженным бантом, авоська с мёрзлой картошкой, суровый
нежный взор) или, наоборот, m-me Курочкиной в штанах и под вуалью.Политтехнолог оказался аполитичнее Композитора — аполитичнее
на первый взгляд. Интересно, что оба начинают с советскости, оставшейся в юности. Люстра, висящая в гостиной Политтехнолога, похожа на Морской собор Николая Чудотворца в Кронштадте (и на самого Иоанна Кронштадтского), да и вообще на все неовизантийские
соборы моего отечества, в том числе и на ХХС — шикарный нарыв,
«сучье вымя» в подмышке вечности. Только в данном случае собор
уменьшен и перевёрнут, свисает, а не возносится, и эта нелепость
очень сей предмет благородит; появление в памяти неовизантийского собора с его недоброй тяжестью сегодня тут же ведёт к Pussy Riot,
хотя о них Политтехнолог не упоминает, так как для него, в отличие
от Композитора (и меня), Pussy Riot давно уже стали некоей данностью рабочей текучки, а не свободной ассоциацией. Мотив несвободы, замкнутости, сжатости — это состояние не то чтобы русское,
но российское: взаимоотношения России с властью (забегаю вперёд)
всегда напоминали папский Рим, где владыка светский и владыка духовный — одно лицо. В Риме, как и в России, власть вечно старается
овладеть и духом и телом и стать абсолютной, так чтобы никому уже
и вздохнуть невозможно. Наши неовизантийские соборы — зримый пример тяги власти к духу, а не пример власти духа, как соборы готические (папский Рим готику-то и недолюбливал). Несвобода,
замкнутость и сжатость — это очень питерское состояние, очень
пиранезианское и очень точно подмеченное Политтехнологом-москвичом;
Петербург — буквальное воплощение претензии власти
отождествить себя с духом, отсюда и вся его фантасмагория, так как
это дело заведомо провальное, сколько с журавлями ни летай. В Петербурге — именно потому, что дело слияния, а точнее, пожирания
властью духа, успехом всё же не увенчалось, — есть постоянное ожидание выхода, ожидание того, что сейчас случится главное:
E quindi uscimmo a riveder le stelle
(И здесь мы вышли вновь узреть светила), —
как заканчивается последняя песнь «Ада» Данте и как заканчивает Казанова своё повествование о побеге из венецианской тюрьмы.Об этом петербургском quindi uscimmo a riveder Политолог в связи с Пиранези и написал, и так как его письмо апеллирует к нашему
совместному ленинградскому Петербурга переживанию и читателю
не совсем понятно, то кое-что я поясню. Тётя Катя — это питерская
родственница Политтехнолога, художница, поступившая в Академию где-то сразу после революции. В тридцатые её мать, как дворянка, должна была быть выслана из Ленинграда, и тётя Катя, воспользовавшись тем, что их с матерью инициалы были идентичны, её
в ссылке заменила. Вернулась она лишь в пятидесятые, в крохотную
комнатёнку, в которую её мать была уплотнена. Для нас тётя Катя
стала воплощением Петербурга—Петрограда—Ленинграда, и именно как некая ипостась города она была для нас — «из бывших».
В крохотной комнатушке с видом во двор у неё на полке стоял прекрасный старый слепок с головы Аполлона Бельведерского; m-me
же Курочкина — моя соседка по коммуналке, въехавшая в эту, сразу
за Казанским, большую и красивую квартиру, где семья моей матери пережила революцию, Гражданскую и блокаду, относительно недавно; m-me Курочкиной достались комнаты с видом на Казанскую
площадь. Она тут же разломала старый камин, в одной из комнат —
бывшей гостиной — ещё сохранившийся. Откуда она взялась на место соседей, которых я знал в детстве, я уже не помню, но откуда-
то приехала и достигла немыслимых высот: m-me Курочкина
была
начальницей уборщиц всех гостиниц — нечто в этом роде. Баба она
была крайне скандальная, и нервы нам — в том числе и моему приятелю Политтехнологу, часто и подолгу у меня в юности жившему, — портила нещадно; вся её фигура олицетворяла новое, советское процветание Ленинграда и была очень внушительна и представительна. Одевалась она с элегантностью просто умопомрачительной: кримпленовые брюки и шляпка с цветами и вуалью — Жан-
Поль Готье нервно курит в коридоре. Вся ленинградская жизнь фрустрированных денди определялась этими двумя полюсами — тётей
Катей и m-me Курочкиной, и, опять забегая вперёд, хочу заметить,
что Пиранези зависал между своей гениальностью и желанием угодить папской власти так же, как ленинградские фрустрированные
денди зависали между этими двумя символами — тётей Катей и
m-me Курочкиной, фигуры коих сегодня я представляю себе уже
в виде метафизических аллегорий, наподобие мраморных статуй
в Летнем
саду.
Пока я разбирался с ленинградскими воспоминаниями, пришёл ответ и от Редактора:
Извини, что затянул с ответом.
Ну, смотри:
Пиранези — прежде всего бумага, груда бумаги, листы с зеленоватыми
разводами, сыроватые от влаги, будто поднятые со дна морского,
запечатанные в бутылке или в обитом железом сундуке. От любого солнца
и света листы выцветают на глазах, но какие-то очертания остаются, какие-
то города и здания ещё можно узнать.
Поехали дальше: штриховка, карандаш «Кохинор», паучья паутина рисунка,
в которой, как букашки и мошки, трепещут маленькие человечьи фигурки.
Арки, своды, лестницы, туннели, бесконечные, без признаков света.
Груды обломков и камней, на некоторых латинские надписи — граффити
былых времён. Ничего непонятно, но по смыслу скорее всего: «Здесь был
Джованни Баттиста» — а зачем ещё нужны эти надписи?
Дальше: только старинные бумажные, повыцветшие и полинявшие от
сальных плошек и бенгальских огней декорации, на фоне которых можно
петь «Дидону и Энея». Барочная избыточность, барочный беспредел,
барочный экстаз, озвученный колоратурными фиоритурами какой-нибудь
Чечилии Бартоли.
Ну вот, сейчас уже и кончу: ликование, апофеоз, крики «браво», или что
там ещё кричат, когда не могут сдержать чувств-с, в театре ли, в любви
ли — сперма на любимом лице. Пытка дыбой, пытка счастьем, пытка
катарсисом. Все проваливаются в преисподнюю, как в последнем акте
«Дона Джованни»: темнота, тишина, каменные своды не то склепа, не то
тюрьмы. Finitо.
Редактор оказался самым эстетским и самым поэтичным. И историчным вроде бы, так как ему, в отличие от остальных, пришли ассоциации из XVIII века: музыкальные в первую очередь, а через них — отсылка к барочности. Впрочем, историчность эта кажущаяся, так как барочность соотносится у него с современными постановками,
и Чечилия Бартоли — явление века двадцать первого, что бы она там ни
вытворяла с аутентичностью. Я сам подзвучивал — именно так, а не
озвучивал, — свою выставку Пиранези именно арией из оперы «Меропа» Джакомелли в исполнении Чечилии Бартоли, и Редактор своей ассоциацией меня очень порадовал, тем более, что он выставку не
видел и о моей привязке Чечилии к Пиранези не знал. Выбрав арию
«Sposa son disprezzata», написанную для голоса кастрата, я прекрасно осознавал, что этим не «дух времени» передаю, а, как раз таки
наоборот, Пиранези осовремениваю, отсылая к современной популярности этих барочных арий, а не к музыкальному вкусу Пиранези, о котором мне ничего не известно. Ведь нет уже кастратов, а есть
Чечилия, на кастратах помешанная. Этакий лжекастрат, кастратозаменитель, если рассматривать все начинания Чечилии с точки зрения строгой научности. Любая сегодняшняя постановка старой оперы — интерпретация, сколь бы эта интерпретация на аутентичность
ни претендовала; то же и с выставками: любая современная выставка (или монография), Пиранези посвящённая, есть такая же условность, как и Бартоли в образе кастрата, и надо с этим смириться. От
Чечилии Бартоли современность с ума сходит, и так как современность давно не в себе, то ей кажется, что это она от барочной музыки балдеет, хотя балдеет она оттого, что кастрат для современности есть воплощение сексуальности в силу присущего кастратам
асексуального эротизма. Кастрат секса, читай — пола, лишён, а вот
эротизма в нём полно. Современность давно кастрирована Интернетом, поэтому именно сейчас арии кастратов и стали так популярны, — и, вспомнив в связи с «Тюрьмами» Чечилию, Редактор оказался не только эстетичней и поэтичней остальных, но ещё и эротичнее, что очень тонко, так как эротику разглядеть в творениях Пиранези — при том, что она в них есть, как есть в любом искусстве, —
довольно трудно.«Живейшее из наших наслаждений кончается содроганием
почти болезненным» — по моему замыслу, на выставке слух зрителя, изнемогший от трагической красоты «Sposa son disprezzata», должен
был подготовить взор к более чуткому восприятию «Тюрем». Услада
взора (со слухом заодно) вуайеризмом называется и имеет прямое
отношение к эротизму. Говоря о «Тюрьмах», мы не сможем обойтись
без воспоминаний о маркизе де Саде — воплощении сладострастия; маркиз, как и Дидро, в замок Венсенн заключён был, и упомянутый
Рамо о де Саде, быть может, и не подумал бы, но д’Аламбер, редактор
такого модного гламурного издания, как «Энциклопедия», кинув
взгляд на «Тюрьмы» Пиранези, наверняка о де Саде вспомнил бы.
Каким словом д’Аламбер маркиза помянул, это уж его, д’Аламбера,
дело, но со свойственной ему тонкостью Редактор проник, с помощью арий Чечилии Бартоли, в эротизм «Тюрем», хотя, повторяю,
выставки и не видел. Эстетство и поэтичность, Редактору свойственные, довели его до того, что он своим катарсисом листы Пиранези оросил, и этот — весьма смелый — поступок не может не
напомнить нам, конечно же, вслед за де Садом, и о Жане Жене, своим катарсисом всё время тюремные стены орошающем, — куда от
Жене, величайшего певца эротики Тюрьмы (ни в коем случае не тюремной эротики), теперь при разговоре о Тюрьме деться? Редактор
же тем самым — через оргазм finito барочной оперы — Композитору
привет послал, на Жене прямо указавшему.Получив эти три ответа, я просто ожил. Не погребён Пиранези под
«Ах да, Пиранези, я, наверное, должна знать», а жив, и «Тюрьмы»
его вполне себе тема для размышлений и сейчас, в 2012-м, — именно это доказать самому себе я и хотел. Композитор, Политтехнолог
и Редактор окончательно позволили мне утвердиться в убеждении,
что «я — это я» и что моему «я» продолжать писать свой роман-альбом нужно и можно; Политтехнолог к тому же предложил вывесить
на своей странице в Фейсбуке приглашение поучаствовать в этом
эксперименте всех желающих. Я, ободрённый тем, что никто меня
с моим Пиранези не послал подальше, поколебавшись, согласился.
Меня в Фейсбуке нет, да и, честно признаться,
я с актуальностью
не особо в ладах, а страница Политтехнолога именно в силу того, что
он реагирует на все современнейшие события, пользуется большой
популярностью, поэтому я с некоторым трепетом ждал, чем всё это
закончится. Результат превзошёл все ожидания, и в итоге я получил
очень интересный текст о Пиранези в 2012 году, часть которого —
уже без всякого указания на авторство, так как отвечающие в Фейс-
буке уже и не персоны даже, а логины, — я и воспроизвожу:Сталелитейные цеха из фильма с Н. Рыбниковым в сценах с его
просветлением, «Весна на Заречной улице», метро «Маяковская», холл
в провинциальном сталинском доме культуры.
«Освобождение Петра» Рафаэля. Вообще — изобразительность, с архитек-
турной памятью тут делать нечего.
Я как-то бывала в Бутырке по делу. Там настоящая пиранезийская тюрьма
в самом сердце. XVIII век, чудом сохранилась.
Промзоны и жизнь вокруг них, когда даже в безопасной ситуации
возникает какой-то иррациональный страх и чувство одиночества.
В Москве есть такие места. Окраины провинциальных городов тоже.
Московский Сити — хоть конфигурация другая, но масштаб правильный.
В страшных снах бывает аналогичное ощущение, когда ты потерялся,
не можешь найти дорогу и тебе очень страшно, как маленькому ребёнку.
Чувство беспомощности и опасности.
Это, конечно, никак не конкретно, но когда мне говорят, что пароль
«Пиранези — тюрьмы», я хочу автоматически сказать отзыв «решётки —
лестницы». Нужно только сообразить, где они есть. Но где-то точно.
Фотография 20-х с автомобилем, заехавшим на валун, висящий над
пропастью.
Бруно Ганц на плече ангела [в фильме «Носферату — призрак ночи»]; план
свайного поля под Исаакием; Гангутское сражение.
Лифтовая шахта, затянутая паутиной и копотью, сквозь которую
просвечивает солнце, попавшее сюда через хлопающую раму, в которой
осталась только треть оконного стекла и под которой стоит банка с водой
и окурками. Да, и провода свисают новогодней гирляндой. СССкассска.
«Твоих оков узор чугунный»… (тут как все), оригами из копировальной
бумаги, кованая бабушкина кровать с латунными фигурными
набалдашниками, старая тефлоновая сковорода.
Орсон Уэллс — Александр Алексеев: «Процесс» — «Нарвские ворота»
Филонова — «Стальной скок» Прокофьева.
Утро в сосновом лесу и вообще лес как мифологема с персонажами и без.
Католические соборы (как ни странно) с их давлением на маленького
человечка, и даже не подъём на эти повторяющиеся башни, а скорее
спуск, с толстенными стенами, узкими отверстиями, грубыми ступенями,
которым нет конца.
Пешеходные мосты-переходы над развязками железных дорог, особенно
в дождь: чёрные от копоти, ржавые монструозные конструкции, кажутся
заброшенными, на высоченных железных сваях, чёрт знает когда
сооружённых, вроде всё громадное, тяжеленное, а ощущение, что вот-вот
вылетит болт и вся эта громадина на тебя рухнет и под собой погребёт.
Чугунный утюг, мокрые отвалы породы из шахты, запах серы в Норильске
(вообще Норильск), солнце после дождя, дым из градирни, скрежет внутри
старого заброшенного корабля. Скрежет и плеск воды снаружи, гулким
эхом слышимый внутри.
Грузовой порт с огромными кораблями и кранами.
Ассоциации из фэнтези: Мория у Толкина и Джонатан Стрендж
на Дорогах Короля у Сюзанны Кларк (там и прямые ссылки на Пиранези
и Палладио).Достаточно. Это и требовалось доказать: мир Пиранези сегодня существует как факт. Факт, согласно Витгенштейну, — это «то, чему случается (случилось) быть», и сегодня «Тюрьмам» случилось быть так
же, как им случилось быть в 1749 году. Тот же Витгенштейн, мною
очень ценимый, сказал, что «мир есть совокупность фактов, а не вещей». Произведение искусства — факт, а точнее — совокупность фактов, ибо факт рождения «Тюрем» служит причиной появления множества неких других фактов: факта фиксации своих впечатлений
от «Тюрем» Бекфорда и Уолпола, факта сделанного Леграном весьма вольного жизнеописания Пиранези, факта различных домыслов
и интерпретаций жизни и творчества Пиранези различными историками искусства, факта незнания Пиранези редакцией «Wallpaper»
и факта отношения к Пиранези современной российской интеллигенции, и все разрозненные и отдельные факты вместе выстраиваются в некую совокупность фактов, и именно она, эта совокупность разрозненных фактов, и есть «мир Пиранези», который уже, конечно,
миф, — об этом и написана моя книга. Заканчивая разговор о Пиранези в 2012 году, я хочу воспроизвести стихотворение из «Астраханского цикла» поэта и переводчика с немецкого Дмитрия Сергеевича
Усова (1896–1943), сосланного в тридцатые на Беломорканал. Стихотворение
это, мне прежде не известное, было прислано Политтехнологу в Фейсбук одним из тех, кто не поленился откликнуться на мою
просьбу. Оно замечательно тем, что, обрисовывая очень точно настроение двадцатых-тридцатых, написано как будто бы на тему «Пиранези в 1922 году», дополняя и совокупность фактов, и миф «Тюрем».
На колокольне Запомни: груз кирпичных стен
в каком-то ломаном разрезе…
Так рисовал их Пиранези,
познав «Тюремных замков» плен.И задохнувшись, бросив счёт
уступам лестницы скрипучей,
не думай, что там — небосвод
всё синь или прочерчен тучей:здесь вечный морок полумглы
и башня мнится заточеньем,
и все осквернены углы
её крылатым населеньем,и все колокола гудут
в груди старинной колокольни;
тебя ступени ввысь ведут
туда, где чище и привольней,туда, где воздух нов и свеж
и город виден, как на плане;
в нём пустыри белы, как плешь,
и даль теряется в тумане;и — лоскутки письма скорбей
души бескрылой и бездомной —
летают стаи голубей
над грудой купола огромной,и, словно расставаясь с ней,
круги обводят долго-долго
там, где за грязью пристаней
седая развернулась Волга.1922
Вадим Жук. Жаль-птица
- Вадим Жук. Жаль-птица. — М.: Время, 2014. — 176 с.
Издательство «Время» в 2014 году готовит к выходу книгу поэта, актера, сценариста телеверсий театральных передач и спектаклей Вадима Жука.
Это серьезный и глубокий поэт, стихи которого следует читать «медленно, радостно, напряженно и внимательно» (Лев Рубинштейн).
Что же касается его известности как поэта, то просто она «обратно пропорциональна его подлинному месту в сегодняшней поэзии» (Игорь Иртеньев).
«Прочтение» публикует несколько стихотворений из будущего сборника.
Переделкино-Комарово Нужны ли все слова на свете,
Великолепные слова.
Когда над вами, дерева,
Шумит великолепный ветер?
И в огороде Пастернак
С великолепною лопатой,
И в небе дым тяжеловатый
Таинственный рисует знак.
Мы скажем так — гиероглиф,
Открыв словарную шкатулку.
Мы двинемся по переулку,
Туда, где дюны и залив.
Забор с развешанным бельём
И в радиоле кукарача.
Теперь ахматовскую дачу
Минуем на пути своём.
И сомневаться не моги,
Что всё и велико и лепо,
Включая эти ленты крепа,
На свежих холмиках могил.
И говорить и говорить,
К лазури обратясь, к лазури!
Ещё бы дури покурить.
Но мы тогда не знали дури.
* * * Сохранить эту детскую дрожь,
Эту нежную детскую смелость.
— Ты по этой дощечке пройдёшь?
И пройти, хоть не больно хотелось.
Пересечь неприветливый лес,
В самом жутком его направленьи.
— А на эту сосну бы залез?
И залезть, обдирая колени.
И головкою с камня нырнуть,
Привлекая девичье вниманье.
И увидеть подружкину грудь,
Нулевое её достоянье.
И почувствовать этот ожог
Всем собою, не только глазами.
И от рифмы «дружок-бережок»
Настоящими плакать слезами.
* * * Режет месяц-стилет
Небес негритянскую плоть.
Славно за городом летом,
Кофе вручную молоть,
Лук и редиску полоть,
Старые вещи носить,
Чушь с соседом молоть,
Юную травку косить,
Молодь в пруду ловить,
Жалко, что нету пруда,
Хрупких комариков бить,
Шастать туда и сюда,
Лёгкие чурки колоть,
Щурить от солнца глаза,
Кофе вручную молоть,
Это уже я сказал.
Чёрные небеса
Режет месяц-стилет.
Щедрые нынче кукушки в лесах!
В городе время лежит на весах —
Не накукует кукушка в часах
Больше двенадцати лет.
* * * Размером с лепёшку от божьей коровки,
Бесстыжие щурила глазки свои,
Слова говорила и хмурила бровки
И всё зазывала на край полыньи.
И горечью пахнуть умела полынной,
Мускатным орехом и детским стихом,
Поила собою, как чаем с малиной,
Была потаённым кадетским грехом —
Где тратят на девку, что дали на булку,
И в гулком подъезде таясь, торопясь,
Слюнявят ей шею и смуглую скулку,
А после дружкам заливают про связь
С известной актрисой, со светскою дамой…
Уже попрощались. В окне её свет,
Пока не погас. За оконною рамой
Всё ищешь глазами её силуэт.
Пробор соблюдала на круглой головке,
Просила, чтоб я ей достал анашу.
Находка, загадка, паршивка, дешёвка.
Наверно, любил. Потому и пишу.
* * * С чего это я с Господом на ты?
В каком буфете горней высоты,
Мы с пьяной нежностью друг друга обнимали,
И пьяными руками поднимали
Бокалы запредельного ерша?
Возможен ли подобный брудершафт?
Однако семьи, где на вы с отцом,
Всегда кулацким отдают сенцом
И сукнецом гнилым купецкого лабаза.
Я в силах отличить алмаз от страза.
Позволь моим словам, как прежде, течь,
И, обратив к Тебе молитвенную речь,
Почувствовать тепло отеческого глаза.
Алексей Иванов. Горнозаводская цивилизация
- Алексей Иванов. Горнозаводская цивилизация. — М.: АСТ, 2014. — 283 с.
Пролог
«Горнозаводская цивилизация» — хорошо уравновешенная поэтическая фраза. Но это не фигура речи, а точная формула уральской региональной идентичности. Как высчитываются подобные формулы? Для освоения каждого региона определяют свой наиболее эффективный тип хозяйства. Например, на русском севере — промысловые артели, а на русском юге — казачьи станицы. В центре России — крестьянские общины. Урал же эффективнее всего осваивается промышленностью — горными заводами. Тип освоения диктует характер социума. А социум определяет главную ценность, через которую самореализуется человек. Для северных поморов-промысловиков главная ценность — предприимчивость. Для казаков-станичников с южных рек — равенство. Для мужиков-земледельцев важнее всего прочего собственность. А для горнозаводских рабочих — труд. региональная идентичность — это не вера, не язык, не национальность, не культура, не форма государственности и даже не место проживания. В первую очередь региональная идентичность — это система ценностей, выстроенная иерархически, с главной ценностью как квинтэссенцией.
Академическую формулу «горнозаводская цивилизация» отчеканил молодой профессор пермского университета, доктор наук Павел Богословский. Было это в двадцатых годах ХХ века. Богословский возглавлял кафедру русской литературы, изучал фольклор и этнографию. он первым сказал, что горнозаводский Урал — уникальный феномен русского мира, а не просто провинция со старыми заводами.
В СССР, по логике лозунгов, должны были получить поддержку как минимум две идентичности — рабочая и крестьянская. На деле же дозволялась только одна идентичность — партийная. Прочие были упразднены, а краеведческое движение, которое актуализировало региональные смыслы, в конце двадцатых годов разгромили. Богословский лишился возможности работать и в 1932 году уехал в Москву.
Он стал сотрудником центрального научно-исследовательского института методов краеведческой работы — разрабатывал эти самые методы. Но недолго. В 1935 году его репрессировали: отправили в ссылку под Караганду. Профессор Богословский освободился в 1945 году и вернулся в науку, но опаляющей темой региональных идентичностей больше не занимался. Россия лишилась стратегии самопознания. Осталась лишь яркая и загадочная формула — словно теорема без доказательства.
А без доказательств нельзя. На Урале огромное количество интересного и увлекательного, но реальный и абсолютный эксклюзив — один: «горнозаводская цивилизация». Всё остальное имеет разнообразные подобия в других странах и на других континентах, а вот держава горных заводов существовала только на Урале. Однако пока «теорема» не доказана, «горнозаводскую цивилизацию» не найти.
Она не потеряна в глухой тайге, будто города ацтеков в джунглях. Нет. её руины — в центрах городов и посёлков Урала (а горнозаводских селений на Урале около двухсот): от хайтек-мегаполиса Екатеринбурга до какой-нибудь вымирающей деревушки. Но сложнее всего понять, что же такое находится прямо перед тобой. И снова проблема «горнозаводской цивилизации» не в поиске, а в идентификации.
Эта книга — набор параметров «горнозаводской цивилизации», перечень категорий для идентификации, инвентаризация явлений. В этой книге каждая глава — отдельный концепт: из таких концептов, словно здание из кирпичей, и сложен феномен уральской «горнозаводской цивилизации».
Свобода или работа
Россия от Европы отличается не по культуре, а по ментальности. В Европе главная ценность для всех социумов — свобода, а в России главная ценность для любого социума — по его идентичности. На промышленном Урале главной ценностью по идентичности был труд. Работа. Дело. Через труд человек и реализовывал себя. Труд был мерой всех вещей. На Урале свобода не была целью жизни. По Уставу горных заводов рабочий получал зарплату и различные вознаграждения и мог просто купить себе свободу. Свобода была вопросом денег — и всё. Для рабочего свобода была как яхта для миллионера — признаком статуса. В жизни рабочего свобода мало что меняла. Горнозаводский Урал был толпой промышленных городков среди бескрайней аграрной страны. Куда отсюда убежать рабочему, который не умеет и не желает пахать поля, подобно крестьянину? Некуда бежать. Значит, свобода — не главное. Даже крепостная зависимость на заводах была специфической. Крепостной рабочий был прикреплён к заводу, а не к заводчику. Заводчика власти могли прогнать, а рабочий оставался, не уходил с бывшим хозяином. И были нормы: к доменной печи приписывали сто рабочих, к молоту — тридцать пять. Или по-другому: на каждую тысячу пудов годовой выплавки меди начальство приписывало к заводу пятьдесят рабочих. Такая форма крепостного права поддерживала заводы, а не хозяев. Жизнь рабочих строилась «по заводскому гудку», и библейский вопрос про «человека для субботы» имел однозначный ответ: конечно, человек для завода.
Юнна Мориц. Крыша ехала домой
…В кофейнике шурша,
Гадательный напиток
Напомнит, что душа —
Не мера, а избыток,
И что талант — не смесь
Всего, что любят люди,
А худшее, что есть,
И лучшее, что будет.
Юнна Мориц
В издательстве «Время» вышел сборник стихов детской писательницы Юнны Мориц. «Прочтение» публикует некоторые из стихотворений, вошедшие в первую часть этой книги под названием «Попрыгать-поиграть». Иллюстрации к ним были созданы художником Евгением Антоненковым.








Никита Бегун. Скип
Часть 3
На известной картине «Игроки в футбол», кисти таможенника Анри Руссо, четверо мужчин перебрасывают друг другу предмет, внешне напоминающий кожаный спортивный мяч.
Наркотические сухожилия перекати-поля, мягкий кочан гнилой капусты, отрубленная голова прованского страдальца Поля Сезанна, «мя из Гамбурга» Кириллова, колючий ком сладкой стекловаты?
— Переходящий приз безумия, — предположил один мой приятель.
Судя по всему, заточение прервется раньше времени. Спасибо университету: студентов, рекомендованных к поступлению в аспирантуру, решили отчислить на месяц позже, дабы обезопасить от возможных проблем с армией.
Вчера заезжал однокурсник и передал папку с документами. С ней мне сегодня предстоит сходить в военкомат.
Я было думал, от греха подальше, послать туда кого-нибудь вместо себя, но выяснилось, что бумаги могут принять только лично из моих рук.
Делать нечего — надо идти. Не сидеть же еще целый месяц дома, выковыривая из тяжелой глинистой почвы хрупкие артефакты детских воспоминаний.
Долгое время я почему-то считал, что картина Макса Эрнста называется не «Слон Целебес», а «Слон Целибат». Мне, впрочем, и сейчас кажется, что такое ее именование было бы наиболее удачным. По крайней мере, огромный механический слон с нелепыми рогами и хоботом-трубой, уходящим в поисках бесконечного повторения внутрь полого жестяного туловища, изучающий грустными глазами-телескопами обезглавленную мраморную развратницу, сосредоточившую свое трепещущее естество во взмахе красной кожаной перчатки — первая ассоциация при упоминании слова целибат.
Купчинский военкомат располагается в самом конце Южного шоссе, вблизи от парка Интернационалистов, на одну из гравиевых дорожек которого, как говорят, однажды приземлился самолет-кукурузник «Starbrook airlines» с нежным молочным трюфелем на горячем, чуть вибрирующем, крыле.
— Проспорили, проспорили! — обрадовано кричал молодой пилот, на ходу стаскивая с себя защитные очки.
Кто-то из толпы его приятелей молча покрутил пальцем у виска.
В Петербурге, я давно уже заметил, априорно угрюмые учреждения дополняются не менее мрачным ландшафтным окружением. К примеру, фрунзенский кожно-венерический диспансер, «храм болезней любви», смотрит своими окнами на лютеранский участок Волковского кладбища…
Такая же история приключилась с военкоматом.
Что там, собственно, говорить, если главу заведения, военного комиссара района, зовут Юрий Орестович Беда?
Неподалеку от Сочи происходит смена климатических поясов. Умеренная зона уступает место субтропикам. Однажды во время летнего отдыха я ощутил на себе, что это такое.
Мы с дедушкой пробирались по горам в сторону пансионата, и нам как раз предстояло пересечь эту границу. До той поры я думал, что смена поясов — понятие условное (как, например, условным является деление на Европу и Азию), и смешанная зона простирается на десятки километров. Все оказалось совсем не так — метаморфозы можно было заметить невооруженным глазом. Создавалось впечатление, будто природа легким небрежным движением начертила на поверхности земли фантомную линию и расположила по разные ее стороны две враждующие армии растений.
— Вы бывали на озере Балхаш?
— Нет.
— С этим озером связана очень красивая легенда…
— Не сейчас.
На территории, прилегающей к Южному шоссе, наблюдается нечто подобное. Вот, казалось бы, перед тобою возвышаются двадцатиэтажные новостройки, призывно горят разноцветными огнями супермаркеты величиной с целый квартал. Но если присмотреться, то чуть в отдалении, тускло обозначенные хлипким светом доживающих свой век фонарей, сквозь густую растительность виднеются развалины домов конца девятнадцатого столетия.
Николай Александрович как-то раз сравнил это место с «Островом мертвых» Арнольда Беклина.
Разбитые окна, обрывки проводов, фальшивый скрип рам, зловещая музыка сквозняков.
Впадины глазниц слепо изучают тебя — их выклевали гигантские доисторические птицы, слепленные из камня и железа.
Чуть покачиваются ветви деревьев, глубоко ушедших корнями в просевшие крыши и кирпичные стены. Эти партизанские заросли, очаровательные дети бордовой пыли — лучшая демонстрация сил, скрытых под маской дряхлости и ветхости.
Как подводное чудище, готовое вот-вот выплыть из ила, опальные дома притаились и ждут.
До революции, в те далекие времена, когда Купчино еще барахталось небольшой деревушкой в разливе петербургского пригорода, здесь располагались купеческие дачи. Сейчас эти нырищи населяют преимущественно окрестные бомжи, о чем свидетельствуют алые языки костров, виднеющиеся сквозь частые дыры в стенах.
Как раз посреди этой разрухи одинокой невозмутимой колючкой в бескрайнем поле увядших от влажной жары цветов обосновалось двухэтажное желто-розовое здание купчинского военкомата.
Илья Ефимович Репин поначалу крайне негативно воспринял картину Серова «Портрет Иды Рубинштейн». Впервые увидев полотно, он отреагировал так:
— Да это гальванизированный труп!
Раньше мне казалось, что в одной из работ Марка Ротко зашифрована серовская «Ида».
Ядовитый кузнечик, спрыгнувший на тонких, упругих ножках, со строчек Николая Заболоцкого. Ведьма в ночь перед сожжением. Холодный песок на матовом стекле. Мертвая девственница, завернутая в папиросную бумагу.
По кругу строение обнесено бетонным забором, увенчанным, как начинающий поэт — пышными шелковыми кудрями, ржавой колючей проволокой.
Все окна обоих этажей оснащены массивными решетками. Дублирующаяся от проема к проему железная паутина, сплетенная по заказу министерства обороны безмолвным механическим пауком.
Некоторое время я не мог найти входную дверь. Наконец, в окне второго этажа заметил молодого военного. Он протянул руку сквозь решетку, чтобы стряхнуть накопившийся пепел. Субтильная никотиновая погадка мягко, почти не деформировавшись, легла на горячий летний асфальт и замерла, предвкушая, как ее разберет на корпускулы долгожданный северо-западный ветер, строгий, молчаливый юноша, выпестованный на мелководьях Финского залива красавицами-соснами, вековыми мудрецами, до основания покрытыми свежей пахучей смолой.
— Вы не подскажете, где тут вход в военкомат?
Он равнодушно взглянул на меня, глубоко, со смаком, затянулся и картинно выпустил изо рта несколько колечек дыма. Я, подняв голову, ждал ответа. Военный еще раз одарил меня взором, потушил сигарету о подоконник, оставив на нем извилистый черный росчерк, выкинул окурок на улицу и скрылся в проеме окна.
Я по-прежнему, как дурак, стоял и ждал чего-то.
К зданию подкатил милицейский «бобик». Из передней дверцы лениво выполз потный лейтенант.
Нижние веки стража порядка пропитали болезненные синяки. В пухлых руках он крутил связку ключей с массивным брелком в виде Эйфелевой башни.
Тяжело, устало дышал. Неудивительно: людям с избытком веса жару переносить особенно трудно.
Медленно обогнул машину и открыл заднюю створку.
— На выход!
Из «бобика» друг за другом вынырнули пятеро ребят.
Лейтенант для верности пересчитал их.
Пять человек — неплохой утренний улов. Такие облавы часто устраивают в метро и прочих людных местах. Опытные уклонисты знают об этом и подземкой во время призыва не пользуются.
Ребята, виновато потупив глаза, переступали с ноги на ногу. Создавалось впечатление, будто они совершили нечто противозаконное.
Один пытался набрать какой-то номер на своем мобильном телефоне. Ничего не получалось — пальцы, замерзшим птенцом трясогузки, тряслись и предательски промахивались мимо нужных клавиш.
Не стесняясь окружающих, что-то говорил самому себе дрожащим голосом. Набрал номер и, спустя мгновение, в отчаянии бросил телефон об асфальт. От аппарата отскочили задняя стенка и аккумулятор. На экране образовалась трещина.
Очевидно абонент находился вне зоны доступа.
Милиционер озадаченно посмотрел на него.
— Э, родное сердце, ты чего там? Хорош уже придуриваться.
Парень стал собирать телефон по частям.
Остальные, засунув руки в карманы или скрестив их на груди, молча наблюдали.
Впрочем, чем они могли помочь?
Я еще раз вытащил папку, проверил дату, убедился в наличии печатей и подписей.
Засунул обратно в сумку.
Сделал два шага, остановился. Достал бумаги и начал просматривать их по новой.
Да, все в порядке. Все в порядке.
А вот и дверь.
Когда я возвращаюсь домой пустынными ночными улицами, еле слышно ступая по снегу, крадусь мимо Волковского кладбища, и мне то и дело слышатся слышатся чьи-то холодные медленные шаги за спиной, или когда я заплываю далеко-далеко в море и осознаю, что подо мной — кубометры воды, сквозь которые, кажется, проступает матово-черное туловище гигантского первобытного монстра, неспешно бороздящего вдоль своих владений, я всегда вспоминаю картину Рене Магритта «Голос ветров».
Это атавистическая, инстинктивная боязнь чего-то несуществующего. Это страх в виде первого импульса, голого двоичного сигнала, еще не обработанного мозгом и не осмысленного логическим аппаратом.
Магритт был одним из первых, кто осознанно проник в эту область.
«Древний ужас» Леона Бакста — это, скорее, подвиг человеческой интуиции, чистой воды нерасшифрованное бессознательное.
Бельгиец же отчетливо понимал, куда идет.
У входа в здание стоял турникет, похожий на элемент исполинской мясорубки, а рядом, в миниатюрной кабинке, дежурил Демон Максвелла — симпатичная молодая девушка с ярко накрашенными в красный цвет губами, впускавшая и выпускавшая людей из злополучного заведения. Войти мог каждый, а вот выйти разрешалось только обладателем соответствующей справки, подтверждавшей, что военкомат в тебе более не заинтересован.
Мне сразу стало как-то легче. Так всегда происходит, стоит лишь встретить кого-нибудь красивого. Именно поэтому, вероятно, авиакомпании набирают стюардесс по внешним данным — смотришь на них, и не верится, что они, такие молодые и обворожительные, могут разбиться.
Бог сохранит.
Хотя, конечно, самолеты — это отдельный разговор. Все не так просто.
22 марта 1994 года под Междуреченском упал самолет А310 авиакомпании «Аэрофлот». Погибли все находившиеся на борту 75 человек. Причина — командир экипажа Ярослав Кудринский позволил сесть в кресло пилота своему пятнадцатилетнему сыну, в результате действий которого правый крен вскоре достиг 45 градусов, самолет стал терять скорость и перешел в «сваливание».
20 октября 1986 года — катастрофа Ту134А авиакомпании «Аэрофлот» под Куйбышевым. Из 94 пассажиров и членов экипажа выжило только 24 человека. Причина — командир корабля Александр Клюев поспорил со вторым пилотом, что сможет приземлить самолет вслепую, ориентируясь на показания приборов и команды диспетчера. Во время посадки шасси надломились, фюзеляж протащило по взлетно-посадочной полосе более трехсот метров, после чего самолет распался на две части и загорелся.
Бог хранит красоту от всего, кроме дураков.
Турникеты — нововведение. Раньше каждый, кто по тем или иным признакам чувствовал приближающуюся опасность, мог легко сбежать на волю.
Барабан провернулся, раздался неприятный скрип, что-то щелкнуло, застрекотало, девушка-вахтер строго кивнула, и я оказался внутри военкомата.
Дороги назад уже не было.
Прошел к кабинету № 26а.
Если верить информации на стенде, именно там оформляют отсрочки по учебе.
На лавке перед входом сидело несколько человек.
— Кто последний?
Никто не ответил. Не все даже повернули лицо в мою сторону. Я подождал еще немного, после чего взялся за дверную ручку.
— Куда идешь, э, не видишь — очередь? — обратил, наконец, внимание один из парней, коренастый дагестанец в спортивной майке с надписью «Сочи 2014. Россия — страна возможностей».
— Я же спрашивал — кто последний?
— Я последний, не видишь?
Сейчас главное не думать об армии как таковой. Не думать и не нервничать. Вот, например, можно рассмотреть поближе плакат на стене.
«На страже Отечества». Фотографии. Путин в армейской форме изучает какую-то карту. Путин деловито обследует подлодку. Путин проводит рабочую встречу с министром обороны Ивановым. Путин — бравый пилот истребителя. Путин общается с солистками черноморского ансамбля «Графская пристань». Путин наблюдает за военным парадом на Красной площади.
Россия — страна возможностей. Что тут еще скажешь?
— Следующий!
Нет, надо гнать подальше эти мысли. Путин и армия. Армия и Путин.
Полтора месяца я реконструировал свое прошлое. Исписал больше ста страниц. Изъял из памяти давно забытые факты, которые, как мне теперь кажется, определили чуть ли не всю дальнейшую судьбу.
Во имя чего?
Неужели детство было только лишь для того, чтобы я потом о нем рассказал?
— Следующий!
Как теперь воспринимать друзей? Мало-помалу они превратились в персонажей.
Гербарий, ставший единственным заменителем природы в камере-одиночке. Засохший лист — молекула древесного ДНК. Опальный генетик, апологет буржуазной лженауки высаживает в своей голове лес, под пологом которого он ступал когда-то давным-давно, еще совсем ребенком.
Чернолобый сорокопут-каннибал, соорудивший фамильный склеп у себя на дереве. Острые шипы со следами засохшей крови. Перья и кости — страшным напоминанием на земле.
Кто вправе судить их?
Дмитрий Быков. Квартал: прохождение
- Дмитрий Быков. Квартал: прохождение. — М.: Редакция Елены Шубиной, 2013. — 448 с.
От автора
Главный герой этой книги — вы, читатель.
Это первая такая книга в истории человечества.
Только от вас зависит, насколько убедительно выстроится
сюжет, как будет обстоять дело с эмоциями и смыслом.Это не рассказ о действиях и взглядах каких-то никому не нужных и, может, давно умерших, а то и никогда не
существовавших людей. Это рассказ о том, что будете делать вы, здесь и сейчас, в эти три месяца.И если вы все сделаете хорошо, это будут хорошие
три месяца и хорошая книга.Стартовые условия неважны, а финишные я уже предусмотрел.
Скажу сразу: это нужно не мне, а вам.
Все, что было нужно мне, я уже сделал.
Я посягаю всего на три месяца вашей жизни — один
квартал с 15 июля по 15 октября.Вы можете начать практику в любой другой день, но
результат не гарантирован. Проще говоря, его не будет.Отклонения от рекомендаций допустимы только в том
случае, если вы хотите обессмыслить всю затею. Прохождение не требует никаких специальных жертв, физической подготовки и особенных талантов. Все, что нужно
для строгого выполнения рекомендаций, вы приобретете
по ходу. Ни один совет не опережает ваших возможностей. Ничего невыполнимого в книге нет.Главный бич детективщиков — стремление читателя
непременно заглянуть в конец и узнать, кто убил герцогиню. За двести лет бурного развития детектив справился с этой опасностью: техничные писатели научились громоздить в финальном монологе сыщика (до прибытия полиции 40 минут, и есть время объяснить собравшимся, почему скрутили именно садовника) такое
количество имен и обстоятельств, что без внимательного чтения 347 пропущенных страниц читатель ногу сломит. Все обошлось бы, Руперт, но вы не учли того, что
в кармане у Пэйлин были не только ключи. Там был еще
и триграм. Как?! Ведь я отдала его Шарлотте! Ха-ха.
Поймите, Лайза, никакой Шарлотты не было в природе.
Это переодетый Эверетт. Не может быть, я спал с ней!
Мало ли с кем вы спали, Уилкс. Вы спали и с Холли, а между тем это был я. Какая Холли, черт побери? И самое главное: откуда в финале вдруг является садовник — когда
действие перенеслось на верхнюю палубу «Королевы-
бабушки»?! Уметь надо, дорогие друзья, и я умею. Не стану грозить вам смешными карами — вы можете хоть
сейчас заглянуть на последнюю страницу и узнать конечный пункт нашего прохождения, и, если завтра вы
сломаете ногу, это не будет иметь ровно никакой связи
с вашим нынешним нетерпением. Просто нетерпеливые
люди часто ломают ноги, хотя иногда им везет. Заглядывайте куда хотите, листайте книгу в любом порядке —
она построена так, что понять ее логику, и то не наверняка, может только тот, кто проделает все прохождение
от начала до конца. Ведь чтение прохождения к любому
квесту ничего не скажет вам о квесте, хотя часть удовольствия вы себе испортите.Я не заставляю, не соблазняю и не уговариваю. Следовать или не следовать рекомендациям «Квартала» — ваше личное дело. Прохождение не потребует от вас ни денежных трат, ни подвигов. Оно совместимо с работой — если только вы не дежурите круглосуточно — и с любыми
семейными обязанностями. В паре особо оговоренных
случаев вам потребуется на день-другой сменить местожительство, но учтите, что при тщательном соблюдении
всех предыдущих инструкций это необходимо для вашей
же безопасности. Можете проверить, но не советую.После 17 августа, 9 сентября и 3 октября в вашей жизни могут произойти значительные изменения, которые
приготовят вас к финальной перемене. Если после 9 сентября ничего не изменится, вы нарушили какую-то из инструкций. 15 июля следующего года можно начать сначала. Продолжать бессмысленно: вреда не будет, но и толку
тоже.Действия, рекомендуемые «Кварталом», могут показаться вам абсурдными. Но они ничуть не абсурднее, чем
кликанье мышью сначала на плохо нарисованного полицейского, а потом на масленку, чтобы полицейский поскользнулся на масле и не сумел схватить кривоногую
Арабеллу, которая ускользает в щель между мирами, что-
бы пронести в зловещую Монструозию спасительный артефакт в виде черных сатиновых трусов. А ведь подобным
занятиям вы посвятили не один час и притом без всякой
надежды на обогащение.Я обещаю вам только одно: полное прохождение
«Квартала» гарантирует вам богатство, независимость
и счастливые личностные перемены. Смешно гоняться за
ребенком с ведром черной икры, умоляя попробовать ложечку. Глядишь, втянется, и что тогда делать?Желаю удачи.
ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ ПОНАДОБЯТСЯ ВАМ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИГРЫ
1. Бесполезная вещь, которая вам дорога.
2. Полезная вещь, которая вам не нужна.
3. Вещь, которую вы давно собирались выбросить.
4. Вещь, которую вы купили не позднее, чем три месяца
назад.
5. Вещь, которая напоминает вам о детстве.
6. Вещь, которая вдвое больше пачки сигарет.
7. Вещь, которая вдвое меньше пачки сигарет.
8. Вещь размером с пачку сигарет.
9. Вещь, которая не принадлежит вам по праву.
10. Вещь, о приобретении которой вы жалеете.
11. Мягкая игрушка.
12. Вещь, которая появилась у вас неизвестно откуда (вы
не помните ее происхождения).
13. Вещь, которую приятно взять в руки.
14. Вещь, которую держал в руках близкий человек.
15. Вещь, связанная с вашей ошибкой (напоминающая
о ней).
16. Головоломка.
17. Смешная вещь.
18. Книга на иностранном языке.
19. Фотография незнакомой местности.
20. Прядь волос.
21. Вещь, напоминающая часть человеческого тела.
22. Компактная вещь белого цвета.
23. Купюра.
24. Зеркало.
25. Драгоценность (Украшение).
26. Вещь, принадлежавшая умершему.
27. Вещь, которую вам подарил неприятный человек.
28. Вещь, похожая на вас.
29. Поводок для собаки.
30. Политическая карта мира.
31. Карта звездного неба.
Если у вас нет вещи, подходящей под какое-нибудь из
описаний, ее можно попросить у кого-то, можно украсть,
но не советую покупать. Нарушая эти условия, вы не обманете никого, кроме себя. Некоторые предметы могут
совмещать в себе несколько нужных качеств, например,
вам может быть дорога мягкая игрушка меньше сигаретной пачки, которая напоминает вам о детстве. В таком
случае выберите то качество предмета, которое в нем выражено сильнее всего.ВНИМАНИЕ! Все предметы должны быть подготовлены до 15 июля. Храните их в надежном месте и не перепутайте.

Квартал. Прохождение
Андрею и Алисе
15
Июля
Перепечатайте на компьютере следующий текст.
Июльские вечера полны невыносимой грусти. Три-четыре
дня в середине июля — пауза, все застыло на вершине, как
черно-белые ночные облака все еще светлой ночью. Это те
самые облака, которые медленно-медленно переходят границу над ружьем часового, пока, набегавшись на даче, спит
девочка Светлана, выставив из-под одеяла ноги, искусанные
комарами, исхлестанные травой.Тихи июльские ночи, даже собаки не брешут. Пик лета,
с которого начинается спуск вниз. Этот спуск едва обозначается, как первая звезда около девяти вечера: играешь
в бадминтон, задираешь голову, чтобы отбить волан, и видишь, как в серо-фиолетовом небе мерцает голубая точка.
И с соседнего участка пахнет цветущим табаком. Вот тогда
и понимаешь, что ничего этого не будет больше никогда.На тихом июльском закате обязательно видишь в небе
паруса. Мне всегда казалось, что за домами нашего квартала, на котором тогда обрывалась Москва, — порт, гавань,
краны, прибытие и убытие небесного флота, и даже сейчас,
когда за нашими домами бесконечные новые улицы и никаких колхозных полей, я там вижу эти корабли. Часов в пять-
шесть там закипают все цвета тревоги в спектре от алого до
лимонного, полощутся, плещутся, прощаются. Когда-нибудь
я улечу в этом направлении, и это будет гораздо раньше,
чем вы все думаете.В этой паузе всегда ходят по горизонту низкие тучи,
в них поблескивает, иногда они проливаются дождем, а иногда уходят, погромыхав. Наши горизонты обложены тучами,
мы вышли из безоблачной, молочно-зеленой, туманной
и нежной поры. Теперь все будет всерьез. Кончилась акварель: июльское небо написано маслом. Совсем немного до
августовской резкости, когда вода и небо из густо-синих
станут свинцовыми. Жара и ливни — вот наше время. Все
нервничают, мужчины предполагают худшее, женщины истеричны и податливы, а потом еще более истеричны.Мы начинаем, когда уже случилось все самое летнее —
отцвела сирень, черемуха, жасмин, я уж не говорю про вишни и яблони, которые цветут всего неделю; вот уже и липой
не пахнет, все определилось, завязалось и плодоносит; мы
начинаем на переломе от глупой юности к скучной зрелости или, если хотите, от юной свежести к зрелой мудрости,
но это неправда. Мы начинаем, когда закончилось все самое
лучшее, и нам предстоит все самое интересное: старость,
смерть, бессмертие.16
Июля
Сегодня вы должны составить план Квартала.
Квартал — место, где вы живете. Если вы живете в сельской местности, это ваша деревня или село. Если в городе — все совсем просто: это ваша улица от перекрестка
до перекрестка, квадрат, ограниченный двумя улицами
и двумя переулками, со всеми кафе, магазинами, тайными
ходами и скверами, которые там расположены. Как вы
разместите эти названия на карте Квартала, ваше личное
дело. Названия, которые вы им дадите, — тоже. Как пользоваться этими названиями — показано в небольшом пособии под названием «Маршрут».В Квартале должны быть:
1.
Улица (переулок) благих начинаний, вызывающая у вас добрые чувства. Она же Квадрат счастья. Ведь вы давно здесь
живете. Здесь должно быть место, которое вам нравится, которое вызывает чувство защищенности, блаженства, освобождения. Может быть, вы когда-то здесь впервые прочли
интересную книжку, а может, почему-то эта улица напоминает вам Париж, Барселону, Сидней, сколько там еще на свете прекрасных мест, испорченных пошляками. Но в Париж
и Барселону пошляки ездят и пачкают их своими сальными
травелогами — что-нибудь типа «Необходимость путешествий» или «Невозможность путешествий», про то, как они
открыли для себя Гауди или закрыли Ван Гога. А на эту вашу улицу они не приедут никогда, и это гораздо более настоящий Париж, чем тот, в который вы рано или поздно попадете. Или уже попали — и все поняли.
2.
Точка, где вы всегда чувствуете опасность. Такая точка
обязана быть в любом Квартале. Откуда берется это чувство — я сам не скажу. Может, когда-то вас тут чуть не
переехал мотоцикл, а может, здесь вас подстерегал в детстве отвратительный тип, вымогавший деньги. Но чаще
всего это иррационально. Бороться с этой точкой мы не
будем, потому что иррациональное чувство опасности
чаще всего правильное.Иногда — довольно часто — эта точка может оказаться
в одно время опасной, а в другое благоприятной. Скажем,
на закате она опасная, а на рассвете, напротив, благоприятная. Ночью она вообще невыносимая, а днем просто противная. Тогда у нее должны быть два названия. Кстати, если эта точка действительно амбивалентна — то есть иногда благоприятна, а иногда нет, — вы относитесь к группе
«Б», и для вас будут дополнительные упражнения.
3.
Улица, которую вы торопитесь поскорее пройти, потому
что на ней одолевают неприятные чувства или воспоминания. Возможно, вы еще эту улицу не определили. Тогда она должна у вас определиться в ходе упражнений.
Вам все равно сегодня обходить Квартал, вот и заметите.
Может быть, она просто сулит вам физические неудобства, там идет стройка, и приходится делать крюк, а может, у вас одышка, и там неприятно идти в гору, а потом
под гору. Короче, это улица скуки, неприятных размышлений, стыда за прошлое. Такая улица есть всегда. Иногда это связано с неприятным, угрюмым домом, стоящим
на ней, а может, там находится ваша бывшая школа. Не
путайте это место с точкой опасности: скука — совсем
другое дело.
4.
Точка (сквер, перекресток), где с вами обязательно произойдет что-то важное, скорее хорошее. Еще не произошло. Но
произойдет обязательно. Мы всегда чувствуем эти места рядом с домом: может быть, возвращаясь из школы (с работы),
мы думали, что встретим там единственную любовь, абсолютное взаимопонимание. А может быть, именно на этой
улице мы хотели бы услышать телефонный звонок о присуждении нам Нобелевской премии — то есть именно там
хорошо обозреть пейзаж и удовлетворенно сказать: я всегда
это знал. А может быть, мы просто чувствуем, что здесь,
в этом доме, родится ребенок, который спасет мир. Такое
тоже бывает. У меня, например, такой перекресток есть,
и именно на нем планируются особенно важные действия.
Если у вас еще нет такой точки, обойдите Квартал еще раз
и хорошо подумайте. Не прислушайтесь к себе, это чаще
всего бесполезно, — а просто подумайте. 16 июля — отличный день, чтобы хорошо подумать.
5.
Улица, на которой всегда приходят хорошие мысли, творческие решения, просто удачные строчки. Если она находится вне вашего Квартала, в другой части города, —
не страшно. Просто включите ее в Квартал. Необязательно ведь ограничиваться окрестностями дома. В конце
концов, весь мир — наш Квартал. Назовите ее как хотите, но так, чтобы в ее названии была отражена эта главная
особенность — стимулировать творческие способности.
Подчеркиваю, это не улица Удачных Финансовых Решений или Выгодных Вложений. Это улица, на которой вы
чувствуете внезапную способность перерасти себя, получить откуда-то прекрасные стихи или точный поступок.
Лучше, конечно, чтобы она была поближе к дому — удобней. А то вдруг она за границей? Как вы будете туда летать, чтобы выполнить задания, относящиеся к ней?
6.
Улица, ассоциирующаяся с любовью или ее ожиданием,
на которой вам чаще всего встречаются влюбленные. Или
сквер. Или угол. Но именно там ближе к весне появляются парочки, на которые вы смотрите с завистью, или сами
вы там назначаете встречи под часами, или просто в этой
точке Квартала вас всегда томит мысль о любви, о том,
что настоящая жизнь проходит мимо вас, и это ваш личный выбор. Возможно, это просто улица, где много сирени, или арка, где особенно удобно целоваться.
7.
Улица дождя, то есть именно та часть Квартала, которая
всплывает в вашей памяти при слове «дождь». Первая
ассоциация с дождем. Место, где хорошо от него прятаться, или точка, где вы по-настоящему промокли, или
подворотня, где увидели собаку, прячущуюся от дождя,
и подобрали ее или просто прошли мимо. Иногда никаких личных ассоциаций нет — а просто эта часть Квартала всегда представляется вам мокрой, с дробящимися
отражениями, с фонарем, из которого хлещут струи, как
из душа.
8.
Место, где дети катаются со снежной (ледяной) горки. Такое место обязательно есть в любом Квартале, потому что
в любом Квартале есть дети, а дети не могут без горки.
Она может быть металлической, деревянной, искусственной — а может быть холмом вполне естественного происхождения, просто с него хорошо съезжать на попе.
9.
Недоступная точка. Место, где вы никогда не бывали. Это
может быть посольство, куда никого не пускают, или двор
закрытого учреждения, или просто смрадная помойка, куда никто не заходит. Или, что вероятней всего, вы просто
ходите всю жизнь мимо этого угла, а туда никогда не заглядывали, потому что времени не было или страшно. В любом Квартале есть точка, мимо которой вы ходите, даже если
прожили тут всю жизнь. Найдите это место, спросите себя,
почему вы никогда не заходили сюда, и дайте ему название
Атлантического переулка, от слова «Атлантида». В остальных названиях вы свободны, но это — обязательное.
10.
Место, которое изменилось сильнее всего. Это может быть
улица, а может быть один дом. В любом случае это точка,
которая за последние два-три года претерпела наиболее
радикальные изменения. Или построили дом, или снесли,
или был елочный базар, а стало место торговли арбузами,
или был прелестный магазин сувениров и смешных игрушек, а стал отвратительный, промасленный магазин запчастей. Или был сквер с песочницей, а стала стройплощадка, и скоро здесь вырастет новый банк, уже заранее
отравляющий всю атмосферу на 100 метров в диаметре.Точка перемен, одним словом. Такая есть почти в каждом
Квартале. Например, было дешевое студенческое кафе,
закрыли, сделали китайский ресторан, снесли, построили
спа-салон, закрыли, открыли отделение сбербанка, закрыли, теперь вообще ничего нет. А потому что не надо
закрывать студенческое кафе, люди там радовались, а теперь им радоваться негде, и в силу их обиды и разочарования быть пусту месту сему.Карту надо начертить на ватмане, чтобы было красиво. Как пользоваться Кварталом — лучше всего это уме-
ют подростки, наделенные воображением, — рассказано
в следующем фрагменте.
Михаил Аркадьев. Лингвистическая катастрофа
II
(ЕРЕТИЧЕСКИЙ) 1
Поскольку она воспринимает в себя Божественного Логоса и определяется им, душа мира есть человечество — божественное человечество Христа — тело Христово, или София.
Вл. Соловьев
София есть первозданное естество твари, творческая Любовь Божия, «которая излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 5); поэтому-то истинным Я обоженного, «сердцем» его является именно Любовь Божия, подобно как и Сущность Божества — внутри-Троичная Любовь.
П. Флоренский
Der Himmel lacht! Die Erde jubiliert!
Der Hülle Macht in Ewigkeit verliert.
(неизвестный немецкий поэт XVIII века,
подражающий Соломону Франку)
Смеется мир, ликуют небеса!
Днесь ада пир — лишь вечности роса.
(Перевод Н. Эскиной)
Тварный мир (космос) и его всеединство, рассматриваемое с точки зрения вечно сущего бытия Господня, Святой Троицы и абсолютной Вечности Ее пребывания, есть множество бесконечно малых величин, которое является элементом самого себя2.
Другими словами, мир сам есть бесконечно малая величина, погруженная в невечерний свет бытия Христова. В смирении «знающего незнания» мы полагаем, что для Б-га творение есть миг принадлежащей Ему вечности, а следовательно, не может быть вне Его. Соборное единство тварного мира — проблема не Б-га, но человека. Высвобождение сознания из плена времени, умение воспринять временной континуум как бесконечно малую частицу вечности — труднейшая человеческая проблема. Мгновение онтологически равно вечности. Вечность целокупно содержится в каждой своей частице, о чем не раз говорили святые отцы, богословы и философы. Оппозиция времени и вечности — человеческая оппозиция. Безусловным существованием обладает лишь вечность, Единый Б-г. Время — трагическая иллюзия Мира, данная ему через человека с его способностью к дискурсивному мышлению.
Философское познание, противопоставляющее себя познанию религиозному, не учитывает того, что метафизика (философская онтология и связанная с ней гносеология) есть умозрение, не отделенное еще от бытия, данного нам в акте веры. Сам вопрос о реальности может встать только в момент отчуждения человека от мира. Это отчуждение осуществляется в умозрении, в момент объективации, то есть в момент предстояния мира перед рассудком для рассмотрения, анализа и вопрошания. Бытие Божие, надмирное и сверхсущее, принципиально не поддается объективации, и отчуждение его происходит не в человеческом умозрении, а в человеческой душе. Вопрос о реальности бытия логически приложим только к явленной нам вселенной, поскольку человек полагает познаваемыми ее причинные и структурные закономерности, и абсолютно не приложим к непознаваемому бытию Божьему. Но противоречие здесь кажущееся. В абсолютной глубине мир так же непознаваем аналитическим мышлением, как и Б-г. В этой глубине уже нет ни причинных, ни структурно-эйдетических закономерностей. Для аналитического мышления там нет ничего. Если человеческое мышление было бы только аналитическим, дискретным (то есть если бы человек обладал мышлением вычислительной машины), то это глубинное бытие так и осталось бы ничем, пустотой. Более того, сама эта проблема перед человеком не стояла бы. Мы обладаем живым, не только дискурсивным сознанием, то есть обладаем опытом, связывающим внутреннее бытие человека с внутренним бытием предмета. Последний перестает здесь быть предметом-объектом, отделенным от познающего, но превращается в источник несказанного бытийственного света, а его включенность в причинный поток и его структура-эйдос становятся символами этого неопределимого божественного света. Познание предстает в его забытом значении неизреченной радости слияния познаваемого с познающим. «Адам познал Еву, жену свою», — сказано в Книге Бытия. Именно это познание имеет в виду святой Иоанн-Богослов, когда говорит: «В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал» (Ин 1, 10).
В живом погружении в глубину бытия предмета, в сердечном и духовном поиске источника этого бытия мы обретаем связь с безбрежной небесной высотой Божественной сущности. В сверхпредельной глубине вещи мы получаем, через бесконечно малую «точечную» величину ее сущностного центра, мистическую связь со светоносным бытием Божиим. В глубине, освобожденной и от аналитического уровня причинных связей, и от синтетического уровня внутреннего эйдоса (структуры) предмета, в той глубине, где бытие очищается от каких бы то ни было внешних по отношению к себе определений и вследствие этого обретает неопределимость и несказанность, — именно здесь мы обретаем точку истечения в мир премудрости Господнего творческого света, поддерживающего тварный мир в его структурном и функциональном существовании.
Сейчас, в момент предельного отчуждения человека от вселенной, теряя Б-га живого, мы теряем и вселенную. В начале пути мы были бессознательно причастны и природе, и животворящей ее софийной Премудрости. Теперь, убивая Б-га в себе, мы убиваем и жизнь космоса, и его дыхание, и его свет. Все погружается в океан бессмысленного круговращения материи. Бессмысленного не потому, что мы перестаем усматривать закономерности или структуры, а потому, что теряется живое предощущение и переживание внутреннего бытия творения как органической, так и неорганической его материи. Природа теряет свою наполненность и освещенность жизнью (которая вовсе не есть наблюдаемая нами протоплазма, но сущность и душа) и превращается для нас в бессмысленный океан двигающейся материи. На поверхности и в глубине этого океана могут возникать островки форм, подражающих живому, но тут же теряющих свою оформленность и погружающихся вновь в пучину бескачественного, иллюзорного, не обладающего реальностью, ложного бытия 3.
Существование человека само по себе полагается и ощущается нами как вселенская этическая проблема. Это проблема взаимодействия, взаимоотношения (что и является собственно этической сферой) существа, причастного положительному всеединству тварного космоса, его софийности, но, благодаря своему сознанию, отчуждаемого от этого единства. Итак, повторим, это проблема взаимодействия человека и самого космоса, которому он, с одной стороны, сущностно принадлежит, а с другой, выброшен из него и отчужден. Цельность, единство и софийность космоса как творения Божия как бы раскалывается, расщепляется изнутри самим бытием человека. Это расщепление мира, процесс его бесконечной индивидуации и объективации (Н. Бердяев), происходит внутри человеческого сознания как его феномен, но может переживаться и переживается как беда космоса в целом, его болезнь. Другими словами, существование человека — это драма жизни сознания внутри космоса и одновременно драма жизни космоса, обретшего сознание. Драма, которая так часто становится трагедией, а в плане бытия человечества может трагедией и завершиться. Человек нами рассматривается как носитель сознания в мире. Вся данная нам история человека — это не что иное, как проявление, отражение в исторической ткани перипетий этого несения бытием креста сознания.
Даже христианское мышление с его стремлением к всеобъемлющей любви и милосердию с громадным трудом и с непомерным сопротивлением вбирает в себя простую мысль со всеми ее бесконечными следствиями, мысль и глубинную интуицию того, что без человека как носителя сознания вселенная есть цельный соборный организм, где вся тварь в своей абсолютной невинности радостным и всеединым своим бытием славит Господа Вседержителя. Собор и Церковь Христова изначально даны во вселенной, бытие которой было бы просто невозможно без этого. Время поглощается вечностью. Вечность содержит в себе время во всей его полноте.
В сознании человека, повторим — даже христианина, происходит нечто обратное. Сознание не может выбраться из плена времени, из плена «прежде» и «потом». Переживание вечности постоянно теряется в наплывах временных представлений. Это замутнение образа вечного мешает человеку выйти к милосердному пониманию того, что и с человеком софийность и соборность мира остается нетленной и нетронутой. Своей телесностью, своей микрокосмической сущностью человек полностью причастен единству и софийности творения. Но сознание его, его сознательное бытие претерпевает перипетии отчуждения, объективации и индивидуации. Именно это переживается человеком как зло.
Этическая проблема, проблема соборности и Царства Божьего на земле — это проблема человека как существа, несущего крест, но, в конце концов, и высшую радость сознания. Эта этическая проблема связи человека с миром, пронизанным Божьей любовью, без которой мир — ничто. Обрести Б-га, не решив эту проблему, можно, и в истории христианства мы имеем постоянное обращение к трансцендентному без решения проблем этики имманентной. Более того, часто любовь и мистическая связь с Б-гом сочеталась в человеке с неспособностью любить, прощать мир и человека. Осуществление Царства Божия, если на это вообще будет воля Господня, возможно только при рождении в сердце каждого человека того огня милующего, о котором святой отец Исаак Сирин говорит:
Возгорение сердца о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. <…>
А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о желающих Ему вред ежечасно приносить молитву, чтобы сохранились они и были помилованы; а также о естестве пресмыкающихся молиться с великой жалостью, какая без меры возбуждается в сердце до уподобления в сём Богу4.
Только абсолютная, бесконечная и безусловная любовь Христова может восстановить в человеке (следовательно, и в мире, стоящем перед человеческим зрением) «положительное всеединство» (В. Соловьев), которое дано в Бытии изначально и бесконечно, но не дано изначально в сознании человека. В области философского осмысления мира человеческое мышление должно наконец прийти к пределу умозрительной способности, к чистому умозрению или абсолютному скепсису. Последний, в силу своей абсолютности, становится основой применения в философском умозрении всеобщего принципа относительности. Таким образом, все потенциально бесконечное множество онтологических структур человеческого мышления приобретает вид релятивного ряда, данного нам в чистом умозрении. Обретение целостной картины Вселен-ной необходимо будет основываться на применении второго основополагающего принципа чистого философского умозрения — принципа дополнительности всех возможных феноменологических структур в человеческом сознании. Принцип относительности предполагает в качестве предела абсолютность сверхсистемы, следовательно, значимость каждой из возможных моделей бытия, с которой человек обретает познающую связь в акте живой веры (то есть принятие условных аксиоматических границ данной модели).
Человеческое мышление, сознательно или бессознательно ограничивающее себя одной из моделей-точек всего бытийственного континуума, на самом деле ограничивает себя только в познании потенциальной бесконечной множественности Вселенной, но ни в коей мере не в познании трансцендентного и всепронизывающего бытия Божьего, ибо у Б-га обителей много, бесконечно много. Выход в трансценденцию возможен в любой точке бытия, обретение же цельного единства Вселенной в умозрении, обретение «цельного знания», к которому стремился В. Соловьев, возможно только при релятивной установке умозрения и использовании во всей полноте принципа дополнительности онтологических структур. Такая установка мышления возможна только на той поздней поре цивилизации, когда процесс отчуждения умозрительной способности от той или иной картины бытия приходит к своему пределу. В этой точке, в силу ее предельности, начинается обратный процесс заполнения абсолютной пустоты умозрения. Последнее обретает возможность восприятия безусловно цельной в ее неизмеримой множественности жизни Вселенной во всей ее полноте и насыщенности.
Тварное бытие несет в себе потенцию сознания и, следовательно, в пределе чистого умозрения собственной бытийственности. Эта потенция проходит длительный процесс актуализации, процесс по своей сущности драматический и полный страдания. Драматизм этот скрыт до той поры, когда он наконец
становится явленной вселенской драмой существования сознания в мире. Носителем этой драмы становится человек. Именно в человеке осуществляется переход через ту грань, которая отделяет мышление, еще погруженное в безбрежное море бытия мира, еще не вычлененное из него, еще пульсирующее в его глубине как его малая частица, и сознание, сделавшее первый шаг к самоотделению от целокупности жизни, к обретению самого себя как формы существования, обладающей собственными имманентными законами развертывания. Соборность вселенского сознания предполагает бесконечное множество и личностей, и форм сознания, и все актуальное множество вселенных внутри человека. Здесь корень и возможность соборной и абсолютной любви.
Шестов, положивший жизнь на борьбу с умозрением, на самом деле боролся не с умозрением, хотя был уверен в обратном. Умозрение (то есть «чистый разум») ни в чем не виновато, так как в пределе оно абсолютно бескорыстно. Умозрение служит соборному, вселенскому сознанию. В действительности Шестов боролся с поздней формой имманентной религиозности, с тем, что Ницше называл «идолами разума». Эта поздняя форма идолопоклонства связывает гносеологически ориентированного человека Нового времени с определенным уровнем явленного бытия. Именно с этой структурой, структурой собственного сознания, боролся Шестов, полагая, что борется с эллинским умозрением. Умозрение и откровение, Афины и Иерусалим, не могут противостоять, так как направлены на разные уровни бытия. Вечность не может противостоять времени, так как содержит его в себе. Проблема в человеческом сознании, которое постоянно замутняет в себе представление о безусловной сущности Вечного.
Духовное умозрение приходит к полной неопределимости той или иной степени удаленности или близости предмета к сверхнасыщенному бытию Божьему, ибо при полной и абсолютной безусловности, несказанности и непомерности Его мы не имеем ни малейшей возможности соизмерить нечто с тем, что не поддается никакому соизмерению. В мистическом умозрении, духовными очами нашего глубинного и живого ума, преодолевающего любые соблазны неснятых антиномий и противоположений, мы можем ощутить несказанным и неопределимым образом пульсацию бытийственных плотностей и божественных энергий в сотворенном мире. Познаваемая нами сложная иерархическая структура мира снимается, растворяется и поглощается в простоте и бесконечной радости и любви Господа нашего Отца, Сына Его и Духа Святого, который есть всеблагая любовь, или софийность, пронизывающая мир до самых неисповедимых его границ и делающая виртуальную элементарную частицу столь же значимой, как и галактические скопления в безднах Вселенной.
Писано во имя Отца, Сына и Святого Духа
в лето Христово 1981
Михаил Аркадьев — пианист, композитор, приглашенный дирижер российских и зарубежных симфонических оркестров; музыкальный теоретик (разработал концепцию «незвучащей» основы как базового элемента ритмической системы новоевропейской музыки), философ.
Заслуженный артист РФ, доктор искусствоведения.
Примечания
1 Я решил опубликовать этот фрагмент не только в качестве свидетельства важной стадии моего личного экзистенциального опыта, но и как пример того, что М. Элиаде называл человеческим религиозным опытом и творчеством как таковым. Эта часть моей философской исповеди, как мне кажется, является также свидетельством человеческого движения от вечных вопросов к вечным ответам и обратно. «Еретическим» отрывок назван потому, что с православной точки зрения эти видения слишком «монофизичны»: интуиция тварного мира здесь почти растворяется в бесконечности божественного.
2 Чувствуется влияние раннего Флоренского, с его любовью к математическим теоретико-множественным аллюзиям. См. Флоренский П. «О типах возрастания» (http://www.bo¬goslov.ru/bv/text/170953/index.html).
3 Явный след образа мыслящего океана в «Солярисе» С. Лема—А. Тарковского.
4 Цит. по: http://www.hesychasm.ru/library/isaaksr/txt47.htm.
Станисловас Добровольскис и Юлюс Саснаускас. Из богословия сквериков и деревушек
- Из богословия сквериков и деревушек / Станисловас Добровольскис; Юлюс Саснаускас. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2013. — 240 с.
Станисловас Добровольскис
О пустых словах
14 марта 1962
Изо дня в день мир все больше задумывается о том, как сделать книги поменьше весом. Смотрите, сколько места занимает библиотека в миллион томов, сколько нужно помещений и полок, чтоб поставить эти нескончаемые томики. Придумывают самые разные проекты, чтобы заменить бумагу другим материалом, полегче.
Это, конечно, проблема, но она тонет в море разнообразных доктрин и мнений, которые заключены в этих книгах. Когда видишь этот океан, просятся на язык слова нечистого духа: «…легион имя мне, потому что нас много»1 .
Даже если вы не притрагиваетесь к философским трактатам, если ваши головы свободны от цитат и имен, вы же все равно устаете от множества слов!..
Попробуй сосчитать все, что слышал в течение одного дня: упреки, сплетни, анекдоты, наставления, а сколько было совсем пустых слов! И чем больше мы слышим, тем грустнее на сердце. Наверное, об этом Кьеркегор сказал, что самая большая глупость — говорить, а не молчать.
Тяжесть чужих слов не так страшна, как пустота тех, которые произнес ты сам. Ах, это мое пустословие! Сколько бы я отдал, чтоб вернуть словесных воробьев, которые клюнули кого-то в сердце!
Юлюс Саснаускас
Заповедь малым сим
Ин 13, 31—33а, 34–35
Однажды взяв в руки Новый Завет, ты должен освоиться с мыслью, что о любви там будет сказано столько, что хватит на три сериала. Это волшебное словечко не сходит с уст святого Иоанна, он даже в глубокой старости, согласно одной легенде, ни о чем другом не хотел ни говорить, ни слышать. Все Священное Писание не раз именуемо Господним посланием любви, и это не фариcейство. «Deus caritas est», — торжественно процитировал в начале своей первой энциклики новый Папа2 , лев богословия, дав понять, что и для Церкви, и для него лично нет ничего важнее любви.
Такие вещи пронзают, как шпага, даже в наше время. Какая нежная, чувствительная душа не клюнет на строчки о Боге, который есть любовь? Найти, узнать Которого можно только любя. Или, бывает, прочтешь о том, что первых учеников Христа определяли по тому, как они любили друг друга, и мчишься в церковь искать того же. Пусть не всегда находишь, пусть там сбивают с толку иные черты верующих, все же долго еще дрожит сердечко, согретое каждым словом о любви, снисшедшей с вышних.
«Почему я боюсь любить?» — так называлась книга американского иезуита, когда-то знаменовавшая мой духовный перелом и прозрение. Там, где были одни сухие знания, религиозные практики, становящиеся рутиной, вдруг появился мощный, всепобеждающий мотив любви. Я молил Бога о милости навечно остаться в любви. Влюбиться до сумасшествия. Удивлялся, почему на уроках Первого Причастия прямо не говорят, в чем суть Христова учения. Втемяшивают тебе какие-то мелочи, информацию технического свойства, вместо того чтобы начать с единственного условия, которое Иисус поставил перед своими учениками: «Любите друг друга».
Склоняя и так и эдак это слово, я со временем понял, что вдохновенный иезуит немного подкузьмил своим читателям. Мне редко приходилось встречать людей, которые боялись бы и избегали любви. Напротив, и верующие, и неверующие искали, жаждали, тосковали, требовали, молили о ней, земной ли, небесной, или об обеих сразу, открыто или втайне, больше всего боясь как раз противоположного — не любить или не быть любимыми.
Как-то раз в одном затрапезном городском кафе мне пришлось наблюдать сидящую за соседним столиком немолодую уже пару. Это был самый настоящий апофеоз любви. Она, наверное, была старше, со смиренно-горестным (сейчас такие редки) лицом советской мадонны. Сама женская просветленность и нежность, ничего там, за столиком, не видящие, кроме того, кто сидел напротив. А он, хорошо откормленный жеребец, весело и беззаботно галдел, все что-то жевал, прихлебывал пиво, озирался по сторонам, дымил сигаретой. Не знаю, слышал ли он, о чем молили эти расширенные глаза: «Люби меня, люби меня, люби меня! Любой ценой, во что бы то ни стало». Было даже страшновато, несмотря на красоту этих глаз, глядеть на нее, словно я был на сокровеннейшей исповеди. Окончания этой сцены я так и не дождался. Женщина, скорее всего, расплатилась за его напитки с закусками и за свой нетронутый кофе. Быть может, ей все-таки досталась выпрошенная или выкупленная ночь любви. А может, как в стихах: остались девочке «лишь гвозди, гвозди, гвозди, гвозди…»3 Такова участь всех слишком сильно, слишком глубоко влюбленных.
В дальнейшем этот эпизод служил мне своеобразным указанием, что все в этом мире совершается только любовью и через любовь. Если возможно стремиться к ней ценою такого смирения и самопожертвования, как же тогда не поверить, что все мы вышли из любви, существуем благодаря ей и исполняемся только в ней? Неразрывный круг, провозглашающий наше начало и нашу цель.
Воистину неверно, что люди боятся любви. Нет ничего проще, чем завоевать чье-то сердце цитатами, что, любя, мы остаемся в Боге и Он остается в нас. Глядишь, совершая обряд бракосочетания, когда в ход идут стихи из Песни Песней, а священник заливается — щебечет о великом таинстве любви, даже те, для кого церковь — пустое место, стоят размякшие от удовольствия, и, чего доброго, многим из них приходит в голову, что Бог — это совсем неплохо, если Он так горячо поддерживает любящих или даже говорит их голосами.
Тут, конечно, просится поправка, что не всё то любовь, что мы называем этим именем. И что, тем более, возвышенная любовь, знакомая нам по священным книгам, гораздо больше полного собачьей преданности взора, следящего за любимым, или свадебных сластей. Древние греки, говорят, различали минимум три вида любви, от земной до высочайшей и самой совершенной. Нынче серьезные, ревностные духовники все любовные трели в церкви тут же с отвращением причисляют к популизму и заигрыванию с прихожанами. Поэтому даже гимн любви апостола Павла с трудом входит в проповедь — думаешь, что он неизбежно вызовет у слушателей положительные эмоции и поднимет престиж христианства, а это слишком просто.
Евангельский призыв любить, провозглашенный новой и самой главной заповедью, и впрямь не может быть легким и дешевым «припевом». Сие обстоятельство подтвердили судьбы святых и не столь святых людей; все, что с ними сделала и куда завела любовь. Меньше всего тут помогают попытки вроде льюисовской4 : прежде всего выяснить, что недостойно определения благословенной Господом любви.
Едва только возникало недовольство тем, что Иисус, повелев любить друг друга, обрек нас на слюнявость и банальности, все вверх ногами опрокидывала какая-нибудь новая история. Организованные попытки нашей институции демонстрировать единую, целенаправленную и правильную, «здравую» любовь к ближнему обычно не выходят за пределы элементарной благотворительности, как христианской, так и нехристианской. Куда надежнее и бесспорнее те свидетельства, что появляются, когда остаешься вдвоем с Господом. Когда сцена этого мира удаляется, отъезжает. Кто же, если не Он, тогда мог бы вложить нам в уста слова любви? Только слова любви, как будто в жизни больше ничего и нет. В уста святой Терезочке Младенца Иисуса или кому-нибудь в Вильнюсе, где, казалось бы, приличествует поклоняться только успеху и процветанию.
Библия полна похвальных слов любви. Настолько, что начинает балансировать на грани сериалов. Но — чу! — риск надоесть, или повториться, или повеять пошлостью в мире Духа Божьего еще не значит, что время переходить на другие рельсы. Всесилия любви когда-нибудь испугаются те, кто не знал, что такое униженно глядеть на возлюбленного. Или Возлюбленного.
Об авторах
Отец Станисловас Добровольскис (1918–2005) родился в городке Радвилишкис, учился
в иезуитской гимназии в Каунасе, в 1936 году стал меньшим братом Станисловасом в монастыре капуцинов. Во время немецкой оккупации спасал еврейских детей. Рукоположен в 1944-м, начал служить и стал известным проповедником, за что был арестован и на десять лет заключен в лагерь, потом сослан в Воркуту. О. Станисловас вернулся из ссылки в 1957 году. О его проповедях снова пошла молва — и тут же начались преследования со стороны властей, пока в 1966-м его не направили в дальний приход, где практически не было паствы, — Пабярже. Отец Станисловас создал вокруг себя уникальное пространство, полное возрожденных к новой жизни старинных предметов, которые он собирал по всей Литве. Там и сейчас можно увидеть церковную одежду, фонари для процессий, кованые кресты, деревянную литовскую скульптуру, старинные молитвенники и светильники. В конце 1960-х к нему началось паломничество: приезжали верующие со всей Литвы и из других республик Советского Союза.После объявления независимости Литвы отцу Станисловасу предложили восстановить разрушенный францисканский монастырь в Дотнуве. С 1990 года он десять лет ремонтировал его с помощью добровольцев, а восстановив, в 2002 году вернулся в свой любимый приход — Пабярже, — где жил до смерти.
Еще в советское время почитатели отца Станисловаса записали его проповеди и выпустили в самиздате сборник «С нами говорит отец Станисловас: 1985–1987 гг.». В 1994 г. вышла и не раз переиздавалась книга «О любви и служении», собранная из еженедельных публикаций С. Добровольскиса в газете «Правда» («Tiesa») и интервью с ним.
Юлюс Саснаускас родился в Вильнюсе. С шестнадцати лет участвовал в изготовлении и распространении подпольной литературы, после окончания школы решил поступать в Каунасскую семинарию, но КГБ отправил его на службу в советскую армию. После возвращения Юлюс занялся правозащитной деятельностью, за что в двадцать лет был арестован, осужден и сослан на пять лет в Томскую область. В 1986-м он вернулся в Литву и вступил в тайный францисканский орден, в 1992 году закончил Каунасскую семинарию. В 1994 году брат Юлюс уехал в Канаду, во францисканский монастырь, где был рукоположен. В 1997-м стал настоятелем храма Святого Бернарда и Святого Франциска в Вильнюсе, с 2001 года и по сей день служит в этом храме. Отец Юлюс — директор и редактор католической радиопередачи «Малая студия», много пишет для католического сайта «Бернардинцы».
У о. Юлюса Саснаускаса вышло пять книг: «Еще раз — Сын Человеческий: Слова и о словах» (1999), «Дневники Бернардинцев» (2002), «Акробатика Благодати: Из богословия сквериков и улочек» (2006), «Postilės »5 (2009), «Уловимое и неуловимое» (2013). Несколько его очерков-проповедей напечатаны по-русски — в журналах «Истина и жизнь» (2009), «Вещь» (Пермь, 2012).
Примечания
1 Мк 5, 9.
2 Папа Бенедикт XVI (Йозеф Алоиз Ратцингер, род. 1927) — Папа Римский с 2005 по 2013 гг.
3 Так заканчивается стихотворение о несчастной любви «Продавщица из маленькой лавочки» литовского поэта Г. Х. Радаускаса в сборнике «Стрела в небесах» (1950).
4 К. С. Льюис писал об этом в трактате «Любовь».
5 От лат. post illa — после сих; простейшая форма проповеди, аналог беседы в православной традиции.
Саша Филипенко. Бывший сын
- Саша Филипенко. Бывший сын. — М.: Время, 2014. — 208 с.
Моей бабушке
Заканчивалась весна. Стрелки часов двигались к половине девятого. Как низколетящие самолеты, садилось солнце.
Редкие мосты укрывали загнанные в трубы реки. Возрастала
влажность, испарялся пот. В городе, который больше напоминал сифилитика, таял асфальт. От жары. Срывались акробаты.Струнами тянулись провода. По маршрутам ходили пустые троллейбусы. Все верхние пуговицы были расстегнуты.
Выгорали вещи. В магазинах как никогда хорошо продавалась вода. Духота стояла в арках и переулках. Как говорил
великий писатель, земля выпрашивала дождя. Проявлялся
первый загар, и старожилы даже перед камерой не могли
вспомнить таких погод.Франциск остановился. Утер лоб. Двумя пальцами ухватил маятник метронома и прислушался: в ванной комнате
исправно работала стиральная машина, в кухне как всегда
фонила радиоточка. Давали «балет о станках». Флейты с радостью уступали мелодию кларнету, как ливень в землю бил барабан. Играли уверенно и пафосно, впрочем, как и подобает оркестру Гостелерадио — без надрыва и скидок на слабый состав. Поставив виолончель на ребро, Франциск подошел к окну. Метроном вновь заработал. За стеной бабушка
болтала по телефону. Второй час. Во дворе рубились в футбол. «Темнеет, — подумал Циск. — Если поделились ровно,
меня уже не возьмут».Не расходились будто бы специально. Франциск постоянно слышал один и тот же призыв: «Назад! Назад!». Судя
по всему, одна из команд испытывала проблемы в обороне.
Кто-то все время проваливался, кто-то обрезал. «Скорее всего, — думал Франциск, — Вара и Пашка проигрывают». Пытаясь разглядеть играющих, Циск думал о том, что только
он мог повторить чудо, которое тремя днями ранее сотворили «Красные дьяволы».Как старик, тяжело дышал магнитофон. Пленка наматывала звук. Циск нажал на черный квадрат. Аппарат заглох.
Теперь оставалось всего ничего: перемотать ленту, включить фонограмму и незаметно выйти в коридор. Проверенный фокус. Циск пользовался им десятки раз. Магнитофон
исполнял — бабушка верила.
Все шло по плану: Франциск сидел у входной двери,
ключи были найдены, шнурки завязаны, как вдруг — предательски громко хрустнуло колено. Остановился веер. На
мгновенье повисла тишина. Бабушка извинилась перед собеседницей и обратилась к внуку:
— Ты куда-то уходишь? Я, по-моему, ничего не просила, — Франциск не ответил, но бабушка и не ждала ответа. — Тебе должно быть совестно обманывать близких!То, что ты записал себя на магнитофон — похвально! Во-
первых, ты наконец доиграл этюд до конца, чем автор мог
бы гордиться! И во-вторых, теперь ты сможешь услышать
фальшь. Это очень полезно, мой дорогой!— Ба, ну почему я не могу пойти?
— Потому что!
— Ба, ну хватит причитать! Там уже все заканчивают!
Стемнеет через полчаса. Я хоть в квадрат поиграю…— Хочешь стать уличным музыкантом? Удачи!
— Из-за дворового футбола уличными музыкантами не
становятся! А вот от музыки с ума сходят! Так я пойду?— Нет! У тебя через несколько дней экзамен! Ты и так на
грани отчисления!— Он все равно после педсовета. После педсовета не от-
числят! К тому же вдруг я блесну?!— Я в этом очень сомневаюсь! Марш в комнату!
— Ба, но такая погода!
— Погода и вправду прекрасная! Ни дать ни взять! И с каждым днем, мой дорогой, она будет становиться все лучше.
Сдашь экзамены — насладишься!— А если со мной что-нибудь случится? Вдруг это вообще
мой последний шанс погулять?— Мне казалось, ты повзрослел, нет? Я смела полагать,
что этот аргумент надоел даже тебе! Возвращайся, пожалуйста, к себе и не волнуйся — дома с тобой ничего не случится! Помнишь, как великий поэт написал: «Не выходи из комнаты — не совершай ошибку!»?— Он, кстати, был тунеядцем! Это даже государство признало!
— С каких пор ты веришь государству? Марш к себе!
Франциск цокнул, отшвырнул кроссовки и вернулся
в комнату. Хлопнул дверью и завалился на кровать. Его переполняли юношеская злость и обида. «Старая ведьма опять
завела свою шарманку! Образование… Будущее… Коровам
хвосты крутить… Что она вообще может знать о моем будущем? Что вообще кто-нибудь может знать о будущем, если
две недели назад парень из параллели умер прямо во время
урока?! Остановилось сердце. Какой смысл во всех этих занятиях? Какой смысл во всех этих двухголосных диктантах
и цепочках трезвучий? Кому нужны эти экзамены по специальности и фортепьяно, кому сдался этот долбаный оркестр
три раза в неделю, если можно просто так, за пять минут до
перемены, отдать концы?!»— Ты лежа собираешься играть? — приоткрыв дверь,
спросила бабушка.— Сейчас все равно начнет стучать соседка.
— Иди уже, только береги руки!
Судный день случался каждый год. Так повелось. В последних числах мая в присутствии обессиленных и зареванных родителей сияющий и толстый директор объявлял фамилии тех, с кем больше не по пути:— Машеров, Калиновский, Костюшко — отчислены!
С седьмым «б» вопрос закрыт, переходим к следующим.Каждый год в конце весны педагогический совет (в лице директора лицея) приходил к одной и той же священной мысли:
— Ковчегу знаний всех не утащить, товарищи! Отстающим — за борт! Отстающим до мира знаний не догрести!
Утопающим предлагается барахтаться в других местах!Закончив лингвистические изыскания, директор лицея,
которого за огромный живот прозвали Бугром, подытоживал:— Уважаемые родители, мы, к счастью или сожалению,
второгодничество не исповедуем. Я это вам всем и всегда
прямо говорил! Людмила Николаевна, прикройте дверь,
там дети опять лезут!Виновников торжества в читальный зал не пускали. На
всех не хватило бы места, не всем хватило бы слов. Чтобы
напуганные лицеисты не толпились возле дверей, директор
придумал простой и, как ему казалось, чрезвычайно изобретательный ход. Каждый год в день педагогического совета
в школу приглашали гостя. Как пить дать — ветерана. Обязательно в орденах, желательно с тростью. На сцену актового
зала выносили стол, вазу и три гвоздики. Живые или искусственные (как получалось). Затем на сцену поднимался сам
ветеран. Лицеисты аплодировали и комментировали: «Смотри, песок на ступеньках остался… Сейчас начнет, пердун
старый, басни задвигать… отставной козы барабанщик!».Рядом с ветераном садилась завуч по воспитательной работе: «Выбачайце калi ласка — бегла праз увесь будынак!».
Ветеран понимающе кивал, кашлял, поправлял трофейный
галстук и начинал очень тихий, идеологически выверенный рассказ о войне. Несмотря на то, что истории о доблести и чести быстро усыпляли лицеистов, новых развлечений
директор не искал. Он относился к той категории тренеров,
которые в течение всей карьеры использовали лишь одну
расстановку. «Зачем выдумывать что-то новое? Кому нужны другие кандидаты? Людмила Николаевна, а давайте пригласим этого… ну как его… ну который в прошлом году приходил…»Действительно, новых кандидатов никто не искал. Как
результат: многие лицеисты небезосновательно полагали,
что партизан в стране вообще один. Этот партизан только
и делал, что целыми днями бродил из школы в школу и пудрил детям мозги.Когда вечер подходил к концу, завуч поднимала глаза
к портрету первого президента молодой республики и с удовольствием подытоживала:— Ну что, дети? Раньше, слава богу, был отец всех народов, теперь, слава богу, будет батька! Так что война нам не
грозит, не переживайте! — сказав эти архиважные и нужные слова, завуч вскакивала и убегала в сторону читального
зала. Ветеран смущенно улыбался и уходил.В тот горячий майский день все должно было пройти по
давно отработанному сценарию. Позолоченные слова о доблести, позабытые стихи о чести. «Мы сражались за Родину,
за ваше будущее, нас никто не уговаривал, не пугал, никаких заградотрядов не было, мы всегда мечтали воевать!»В тот фатально жаркий майский день ни у артиста, ни
у многочисленных зрителей не должно было возникнуть
проблем с коммуникацией. Ветеран понимал, что отнимает
у детей улицу, дети понимали, что ветерана нужно уважать,
потому что если бы не он, то непонятно, что сейчас вообще
было бы. Вполуха слушая приветственные слова, Франциск
раскрашивал спинку впереди стоящего кресла. Его лучший друг Стасик Круковский старательно оттирал пятно
на джинсах. Рядом шептались, щипались и передавали записки. Кто-то доделывал последнюю в году работу по сольфеджио, кто-то отчаянно изображал храп. Одним словом,
встреча проходила в привычной и дружеской атмосфере, но
вдруг зал превратился в слух. Лицеисты притихли. Внезапно
ветеран сказал то, что не имел права говорить.
Образовательная машина дала сбой. Кто-то ошибся. Кто-
то недоглядел. Недоглядели крупно! Не заметили бревно.
В чужом глазу. В лицей пригласили «неправильного» человека. Только теперь все увидели, что он пришел без орденов и начал рассказ о другой, не пафосной, но только своей
войне.— Ребята, я вам сразу хочу сказать: я не воевал с германтами. Видите, у меня и наград-то нет. Мне их не вручали. Я не ветеран в общепринятом смысле этого слова. Я не
знаю, стоит ли мне вообще продолжать?
Испуганная завуч утвердительно кивнула вавилонской
башней на голове.— Ну тогда, если можно, я продолжу. Меня не зовут на
парады. Да я бы и сам, без сомнений, не пошел. Мне как-то
даже странно, что ваш учитель истории Валерий Семенович
меня пригласил. Он попросил меня рассказать о том, как все
было… А как все было? Херово все было, ребята!
Зал онемел. Потерял голос. Стих. Абсолютный штиль.
Ковчег искусств остановился. Сломалась мачта — поник парус. Дети перестали дурачиться. Франциск перестал рисовать. Пятно исчезло. Стас огляделся по сторонам: ни одной
волны по рядам, ни одного движения. Замолчали даже те,
кто обладал патологической способностью болтать.— Мы воевали против всех. В это теперь никто не верит.
Теперь говорят, что такого не могло быть, но было, было, ребята, хотя многие считают меня сумасшедшим. Грубо говоря, было так, ребята: по утрам мы воевали против полицаев, по вечерам против красных. Да-да, против всех. У нас не
было священной освободительной войны. Мы не двигались
с востока на запад или наоборот. Нет. Мы стояли здесь. На
месте. На своей земле. Стояли, понимаете, ребята? Мы не
бросались на дзоты. Не жертвовали собой ради вождя. Нет,
ребята, у нас ничего этого не было! Я не могу рассказать вам
ничего из того, что рассказывают в фильмах о войне, потому что война наша была совсем другая. Война наша была
грязная, мерзкая и похабная, потому что война эта, ребята,
была по сути гражданская. Кто-нибудь в зале знает, чем отличается гражданская война от обычной?— Да-а-а-а-а, — послышалось с последних рядов. — Это
когда свои своих мочат.— Правильно, ребята. Это самая страшная была война.
Потому что врагами были не только германты, но и свои…
Но и свои, понимаете? Лично я никогда никого не винил.
Когда начинается война, тебе всегда предоставляется шанс
выбрать сторону или остаться в стороне, или хотя бы попытаться остаться в стороне. Я вам, ребята, так скажу: если,
не дай бог, когда-нибудь начнется война, вы сядьте и хорошенько подумайте: за кого вам воевать и воевать ли вообще! Решать будут большие дяди, которым самолетами будут
поставлять свежие фрукты, а погибнете вы — очень быстро
и всего один раз погибнете. Поверьте мне, я видел, как погибают люди — не бывает у них вторых жизней. Поэтому
всегда, всегда-всегда думайте! Хорошо думайте! Много!— Чё-то я не понял! Так вы что, все-таки за германтов
валили? — послышалось с последних рядов.— Нет, ребята, не за германтов. Нет! Но знаете, я всегда
как рассуждал: если тебе близки их идеалы, если ты ненавидишь красных, если веришь обещаниям сумасшедшего
хлюпика — валяй в полицаи, а почему бы и нет? Занимай
их сторону, если ты только веришь! К тому же, у них очень
красивая форма была! Мне, честно говоря, всегда очень нравилась их форма. Им же ее очень известный модельер шил.
Я всегда думал, что они хорошо, во всяком случае гораздо
лучше нас, выглядят. Но это единственное, что мне в них
нравилось. Все остальное, ребята, я ненавидел! Они хотели
нас переделать, а это самое страшное. Многое можно вытерпеть, пережить, но одного, ребята, допускать нельзя. Нельзя
допускать, чтобы вас переделывали в кого-то другого, понимаете?— Ну началось…
— Кобрин! — со злостью выкрикнула завуч.
— А что так сразу Кобрин?! Меня, может, тут вообще нет!
— Выходит, ребята, я должен был пойти к красным?! Действительно, почему бы мне, простому местному парню, не
погибнуть за красных? Они сидят в своих городах, отправляют поэтов и музыкантов в эвакуацию, расстреливают моих
родителей за то, что те говорят на своем языке… Действительно, почему бы мне не сражаться за их вождя? За старшего брата?! Почему бы мне не отдать жизнь за безумца, который
не может поделить карту континента с таким же идиотом,
как он?! Действительно, если ты веришь, то почему бы и нет?
Но я, ребята, не верил! Никогда не верил!— Кому же вы верили? — с нелепой улыбкой спросила
завуч.— Никому! Ни одним, ни другим. Я верил только в свой
дом. В свою землю. В небо над моей головой. Я верил в то,
что только я могу и должен решать, где и как мне жить.— И что же вы сделали? Дезертировали?!
— С вашей колокольни, думаю, это называется именно
так. Да. Я ушел в лес…— Струсили, значит? — с ехидным смешком, рассчитывая на поддержу последних рядов, спросила завуч.
— Германты принимали меня за партизана, партизаны
и красные — за полицая. Я же говорю, так я и воевал: утром
с одними, вечером с другими. Если вы называете это трусостью, хорошо, я струсил.Зал зашумел. Лицеисты стали что-то объяснять друг другу, доказывать, спорить.
— Вы что, один против всех валили?
— Нет, конечно! Нас было много. Очень многие так поступили, но об этом теперь не принято говорить. Победили
не мы. А рассказывать про войну положено только победителям. Моя жизнь, моя судьба, есть одно перманентное отступление. Таких, как я, как бы нет. Я провел несколько лет,
скрываясь в лесах, в домах католиков и униатов. В сорок шестом я, как и многие мои товарищи, уехал на хутор и жил там один около двадцати лет. Потом стал иногда выбираться в город, но лишь в девяносто первом, спустя сорок шесть
лет после войны, увидев над столицей наш флаг, я понял,
что мы победили.— Недолго вы радовались, — тихо, сквозь зубы, так, чтобы услышал только ветеран, процедила завуч.
Встреча c ветераном оказалась самой длинной за всю
историю лицея. Несмотря на то, что завуч всячески пыталась ее прервать, дети не отпускали гостя. В течение двух
с лишним часов лицеисты пытали ветерана. Они спрашивали, вскрикивали и восклицали, требовали и удивлялись,
оценивали и не верили собственным ушам. Он рассказывал,
и они не зевали, потому что ветеран выдавал секрет. Ветеран рассказывал то, что никто никогда не рассказывал. Он
приоткрывал запретную дверь — и дети не могли не пойти за ним. Когда встреча закончилась, Франциск с друзьями
решили подняться в свое секретное место — туалет на четвертом этаже.