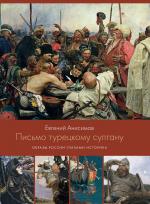- Милан Кундера. Искусство романа: Эссе / Пер. с фр. А.Смирновой. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. — 224 с.
1
В 1935 году, за три года до смерти, Эдмунд
Гуссерль прочел в Вене и Праге знаменитые лекции о кризисе европейского гуманизма. Прилагательное «европейский» означало для него духовную идентичность, которая распространяется и за
пределами географической Европы (например,
в Америку) и появилась одновременно с древнегреческой философией. По его мнению, она (то есть
философия, а не идентичность) впервые в Истории захватила мир (мир в его единстве), поставив
перед ним вопросы, требующие ответов. Она задавала вопросы не для того, чтобы удовлетворить
те или иные практические потребности, а потому
что «человеком овладела страсть к познанию».Кризис, о котором говорил Гуссерль, представлялся ему столь глубоким, что он задавался вопросом, способна ли Европа его пережить. Истоки этого кризиса приходились, по его мнению, на
начало Нового времени, он видел их еще у Галилея и Декарта, в ограниченности европейских наук, которые свели весь мир к простому объекту
технического и математического исследования
и исключили из своего поля зрения конкретный
мир жизни, die Lebenswelt, как он его называл.Развитие науки втиснуло человека в узкие
рамки специализированных дисциплин. Чем больше продвигался он в своем познании, тем больше
терял из виду и мир в его единстве, и себя самого,
погружаясь в то, что Хайдеггер, ученик Гуссерля,
обозначил красивой, почти магической формулировкой «забвение бытия».
Возведенный некогда Декартом в ранг «хозяина и повелителя природы», человек становится
обыкновенной вещью для неких сил (таких как
техника, политика, история), которые его превосходят, обходят, овладевают им самим. Для этих сил
его конкретное существо, его «мир жизни» (die
Lebenswelt) не имеет никакой цены, никакого интереса: он намеренно забыт, затемнен.
2
Я полагаю, однако, что суровый взгляд, направленный на Новое время, было бы наивно считать
простым осуждением. Я бы сказал скорее, что два
великих философа обнажили двойственность этой
эпохи, которая является и вырождением, и прогрессом одновременно и, как все, свойственное человеку, в своем рождении содержит зародыш кончины. Эта двойственность нисколько не уменьшает, на мой взгляд, значения последних четырех
веков истории Европы, к которым я ощущаю тем
бóльшую причастность, что лично я не философ,
а романист. В самом деле, основоположником
Нового времени является не только Декарт, но
и Сервантес.
Возможно, именно Сервантеса оба сторонника
феноменологической философии не стали брать
в расчет, вынося приговор Новому времени. Я хочу
сказать этим следующее: если философия и науки действительно позабыли о человеческом бытии, то совершенно очевидно, что именно с Сервантесом сложилось великое европейское искусство, которое есть не что иное, как исследование
этого самого позабытого бытия.В самом деле, все великие экзистенциальные
темы, которые Хайдеггер анализирует в своей работе «Бытие и время», считая их забытыми всей
предшествующей европейской философией, были
обнажены, раскрыты, освещены четырьмя веками
европейского романа. Роман по-своему, следуя
своей собственной логике, один за другим раскрыл
различные аспекты существования: с современниками Сервантеса он задается вопросом, чтó есть
приключение; с Сэмюэлом Ричардсоном принимается постигать «то, что происходит внутри»,
обнажать потаенную жизнь чувств; с Бальзаком
обнаруживает врастание человека в Историю; с
Флобером исследует terra по сю пору incognita повседневности; с Толстым начинает интересоваться вторжением иррационального в поведение человека и принимаемые им решения. Он зондирует
время: неуловимое мгновение прошлого с Марселем Прустом; неуловимое мгновение настоящего с Джеймсом Джойсом. Он вместе с Томасом
Манном изучает роль мифов, которые, явившись
из глубин времен, управляют нашими поступками. Et cetera, et cetera.Роман постоянно и преданно сопровождает
человека с самого зарождения Нового времени. «Страсть к познанию» (которую Гуссерль считает
сущностью европейской духовности) овладела им
для того, чтобы он проник в конкретную жизнь
человека и защитил ее от «забвения бытия»; чтобы свет был постоянно направлен именно на «мир
жизни». Именно в таком смысле я понимаю и разделяю упорство, с каким Герман Брох повторял:
единственное право романа на существование —
раскрыть то, что может раскрыть один только роман. Роман, который не раскрывает ни одного доселе не изведанного элемента бытия, аморален.
Познание — единственная мораль романа.Я бы еще добавил следующее: роман — это детище Европы; его открытия, хотя и осуществленные на разных языках, принадлежат всей Европе.
Преемственность открытий (а не накопление ранее написанного) составляет историю европейского романа. Только в наднациональном контексте
ценность одного произведения (то есть значимость
открытого им) может быть в полной мере услышана и понята.
3
Когда Господь неспешно покидал то самое место, откуда Он прежде управлял Вселенной и ее
системой ценностей, отделил зло от добра и придал смысл всему, Дон Кихот вышел из дому и не
смог узнать мир. Он, этот самый мир, в отсутствие
Высшего Судии внезапно предстал в устрашающей
двойственности; единая божественная Истина распалась на сотни относительных истин, которые
люди разделили между собой. Так родился мир Нового времени и вместе с ним, по его образу и подобию, роман.Осознать вместе с Декартом «мыслящее „я“»
как основу всего, остаться в одиночестве Вселенной — вот позиция, которую Гегель считал героической, и совершенно справедливо.Осознать вместе с Сервантесом мир как двойственность, столкнуться не с одной абсолютной
Истиной, а с множеством относительных истин,
которые противоречат одна другой (истины, помещенные внутри «воображаемых „я“», именуемых
персонажами), следовательно, овладеть мудростью сомнения как единственной несомненной ценностью — требует не меньшей силы.В чем смысл великого романа Сервантеса? Этой
теме посвящены многочисленные исследования.
Некоторые предпочитают видеть в романе рационалистическую критику сумбурного идеализма
Дон Кихота. Другие находят в нем прославление
этого идеализма. Оба толкования ошибочны, поскольку стремятся отыскать в основе романа не
вопрос, а ответ, нравственное решение.Человек мечтает о мире, где добро и зло были
бы четко различимы, потому что в нем живет врожденное, неискоренимое стремление судить, прежде
чем понять. На этом стремлении основаны религии и идеологии. Они могут соединиться с романом
только в том случае, если его многозначный язык
способен выразить их неоспоримые, догматические
рассуждения. Они требуют, чтобы кто-то был прав:
либо Анна Каренина жертва ограниченного деспота, либо Каренин жертва безнравственной женщины; либо невиновный К. раздавлен несправедливым трибуналом, либо трибунал олицетворяет
Божественное правосудие, перед лицом которого
К. виновен.В этом «либо — либо» заключается неспособность принять относительность, присущую всему
человеческому, неспособность смириться с отсутствием Высшего Судии. Из-за этой неспособности
мудрость романа (мудрость сомнения) трудно принять и осознать.
4
Дон Кихот выехал навстречу миру, широко
распахнутому перед ним. Он мог свободно проникнуть в него и вернуться домой, когда захочет.
Первые европейские романы представляют собой
путешествия по миру, который кажется бескрайним. Начало романа «Жак-фаталист» застает обоих героев в середине пути; нам неизвестно ни откуда они пришли, ни куда направляются. Они находятся во времени, лишенном начала и конца,
в пространстве, лишенном границ, посреди Европы, для которой будущее нескончаемо.
Через полвека после Дидро, у Бальзака далекий горизонт исчезает, подобно пейзажу, исчезающему за современными строениями, которые
олицетворяют социальные институты: полицию,
правосудие, мир финансов и мир преступлений,
армию, государство. Времена Бальзака уже не ведали блаженной праздности Сервантеса или Дидро. Они очутились в поезде, именуемом Историей.
Попасть в него легко, сойти трудно. Но в поезде
этом нет ничего пугающего, напротив, он не лишен привлекательности; всем своим пассажирам он
сулит приключения, а вместе с ними и маршальский жезл.Еще позже, для Эммы Бовари горизонт сужается до такой степени, что становится похож на
ограду. Приключения остаются по ту сторону, а
ностальгия становится невыносимой. В тоске повседневности мечты и грезы приобретают особую
значимость. На смену утраченной бесконечности
внешнего мира приходит бесконечность души.
Расцветает великая иллюзия незаменимости и уникальности отдельной личности, одна из прекраснейших европейских иллюзий.Но мечта о бесконечности души утрачивает свое
очарование в тот момент, когда История или то,
что от нее осталось, сверхчеловеческая сила всемогущего общества, овладевает человеком. Она
отныне не сулит ему маршальского жезла, разве
что должность землемера. К. перед трибуналом,
К. перед замком. Что он может? Не слишком много. Может ли он мечтать, как когда-то Эмма Бовари? Нет, западня, в которую он угодил в силу
обстоятельств, слишком ужасна, она, словно вытяжная труба, высасывает все его мысли и чувства:
он может думать только о своем судебном процессе, только о своей должности землемера. Бес конечность души, если таковая имеется, превратилась в аппендикс, почти ненужный человеку
отросток.
5
Путь романа вырисовывается как история, параллельная Новому времени. Когда я оборачиваюсь, намереваясь охватить его взглядом, этот
путь представляется мне до странности коротким
и уже завершенным. Не правда ли, сам Дон Кихот,
пропутешествовав три столетия, вернулся в деревню, переодетый землемером? Когда-то он уехал,
чтобы самому выбирать себе приключения, а теперь, в деревне у подножия замка, у него выбора
нет, приключение ему навязано: убогая тяжба с канцелярией замка из-за ошибки в досье. Что же спустя три столетия произошло с приключением, первой серьезной темой романа? не превратилось ли
оно в пародию на самое себя? Что все это значит?
Что путь романа завершается парадоксом?Да, можно подумать, так оно и есть. И такой парадокс не один, их много. «Приключения бравого солдата Швейка», пожалуй, последний великий народный роман. Не правда ли странно, что
этот комический роман оказывается военным романом, действие которого разворачивается в
армейском тылу и на фронте? Что же сделалось
с войной и ее ужасами, если они стали темой для
смеха?У Гомера, у Толстого смысл войны был вполне
понятен: сражались за прекрасную Елену или за
Россию. Швейк и его товарищи направляются на
фронт, сами не зная зачем и, что еще более поразительно, не особенно этим интересуясь.Но какова же побудительная причина войны,
если это не Елена и не родина? Обычная сила,
желающая утвердиться в качестве силы? «Воля
к воле», о которой позднее скажет Хайдеггер?
А разве не она с давних пор стояла за всеми войнами? Разумеется, она. Но на этот раз, у Гашека,
она даже не пытается спрятаться за хоть сколько-нибудь разумными доводами. Никто не верит пропагандистской болтовне, даже те, кто ее сочиняет.
Сила обнажена, столь же обнажена, как и в романах Кафки. В самом деле, трибунал не получит никакой выгоды, казнив К., да и замку тоже нет выгоды преследовать землемера. Почему же вчера
Германия, сегодня Россия стремятся господствовать над миром? Чтобы стать богаче? Счастливее?
Нет. Агрессивность силы абсолютно бескорыстна и лишена всякой мотивации; для нее значима
лишь собственная воля; она есть верх иррационального.Таким образом, Кафка и Гашек ставят нас перед огромным парадоксом: в период, именуемый
Новым временем, картезианский разум одну за
другой постепенно разрушал все ценности, унаследованные от Средних веков. Но в момент окончательной победы разума именно иррациональное
(сила, для которой значима лишь собственная воля) захватывает мировые подмостки, потому что
больше не остается никакой системы всеми признанных ценностей, могущей стать для него препятствием.Этот парадокс, мастерски обнаженный в «Лунатиках» Германа Броха, один из тех, которые я
назвал бы конечными. Есть и другие. Например:
Новое время лелеяло мечту о человечестве, разделенном на множество цивилизаций, которое в
один прекрасный день должно обрести единство
и вместе с ним вечный мир. Сегодня история планеты составляет наконец неделимое целое, но это
единство, к которому человечество так давно стремилось, воплощается и укрепляется непрерывной войной, то и дело возникающей в разных
местах. Единство человечества означает вот что:
никто не может никуда вырваться.
6
Лекции Гуссерля, в которых он говорил о кризисе Европы и возможности исчезновения европейцев как народа, стали его философским завещанием. Он прочел их в двух столицах Центральной Европы. Это совпадение имеет глубокий смысл:
в самом деле, именно в этой самой Центральной
Европе впервые в современной истории Запад смог
увидеть гибель Запада или, если точнее, отсечение части его самого, когда Варшава, Будапешт и
Прага оказались поглощены Советской империей. Истоки этого несчастья следует искать в Первой мировой войне, которая, будучи развязана империей Габсбургов, привела к гибели этой самой
империи и окончательно расшатала ослабленную Европу.Последние мирные времена, когда человеку приходилось бороться только с чудовищами в собственной душе, времена Джойса и Пруста, миновали.
В романах Кафки, Гашека, Музиля, Броха чудовище является извне и именуется Историей; она больше не похожа на путь любителей приключений; она обезличена, непредсказуема, неисчислима, невразумительна — и никто не в силах спастись от нее. Это тот самый миг (тотчас же после
войны 1914 года), когда плеяда великих романистов Центральной Европы заметила, уловила, постигла конечные парадоксы Нового времени.Но не стоит воспринимать их романы как социальные и политические пророчества, словно это
какой-нибудь опередивший свое время Оруэлл!
То, что сказал нам Оруэлл, могло было быть сказано точно так же (или даже еще лучше) в эссе или
памфлете. Зато эти романисты раскрывают «то,
что может раскрыть только роман»: они показывают, как в условиях «конечных парадоксов» все
экзистенциальные категории внезапно меняют
смысл: что есть приключение, если свобода действия
К. не более чем иллюзия? Что есть будущее, если
интеллектуалы из романа «Человек без свойств»
даже не догадываются о войне, которая уже назавтра сметет их жизни? Что есть преступление,
если Хугенау из романа Броха не только не сожалеет о совершенном им убийстве, но вообще его
не помнит? И если местом действия единственного комического романа этой эпохи, романа Гашека,
является война, что же такое случилось с комическим? Где различие между частным и публичным,
если даже в постели К., когда тот занимается любовью, находятся двое посыльных из замка? И что
в таком случае есть одиночество? Бремя, тревога,
проклятие, как нам пытались внушить, или, напротив, величайшая ценность, которую угнетает
вездесущий коллективный дух?Периоды истории романа весьма длительны
(они не имеют ничего общего с назойливыми переменами моды) и характеризуются тем или иным
аспектом бытия, который роман исследует в первую очередь. Так, возможности, таящиеся во флоберовском постижении повседневности, полностью
раскроются лишь семьдесят лет спустя, в исполинском творении Джеймса Джойса. Период, которому пятьдесят лет назад положила начало плеяда романистов Центральной Европы (период
конечных парадоксов), как мне представляется,
далеко не завершен.
7
О конце романа говорили уже давно и много:
в особенности футуристы, сюрреалисты, почти
все авангардисты. Они видели, как роман исчезает на пути прогресса, уступая дорогу совершенно
новому будущему, уступая дорогу искусству, не похожему ни на что существовавшее прежде. Роман
должен был быть погребен во имя торжества исторической справедливости, как нищета, правящие
классы, устаревшие модели автомобилей или цилиндры.
Однако, если Сервантес — основатель Нового
времени, конец его наследия должен был бы означать не только промежуточный этап в истории
литературных форм; он знаменовал бы конец самого Нового времени. Вот почему безмятежная
улыбка, с которой произносят некрологи роману, представляется мне излишне легкомысленной.
Легкомысленной, потому что я уже видел и пережил смерть романа, жестокую смерть (и орудиями убийства были запреты, цензура, идеологический гнет) в мире, в котором провел значительную
часть своей жизни и который обычно называют
тоталитарным. Поэтому со всей очевидностью обнаружилось вот что: роман обречен на гибель;
обречен так же, как Запад в Новое время. Будучи
моделью этого мира, в основе которого лежит относительность и двойственность всего, что связано
с человеческим существованием, роман несовместим с тоталитарным миром. Эта несовместимость
гораздо глубже той, что отделяет диссидента от
аппаратчика, борца за права человека от палача,
потому что она не просто политическая или нравственная, но онтологическая. Это означает следующее: мир, основанный на единственной Истине,
и мир романа — двойственный и относительный —
устроены совершенно по-разному. Тоталитарная
Истина исключает относительность, сомнение, вопрос и, следовательно, никогда не сможет соединиться с тем, что я называю духом романа.Но разве в коммунистической России не издавали сотни и тысячи романов огромными тиражами и с большим успехом? Да, но эти романы
больше не имеют никакого отношения к постижению бытия. Они не открывают никакой новой
частицы существования; они всего лишь подтверждают уже сказанное; мало того: именно в подтверждении уже сказанного (того, что нужно сказать) и
заключается смысл их существования, их заслуга, их полезность в обществе, к которому они принадлежат. Ничего не открывая, они больше не
участвуют в преемственности открытий, которую я называю историей романа; они располагаются вне этой истории, или скажем так: это романы после завершения истории романа.Уже более полувека в русской империи сталинизма история романа остановилась. Выходит,
смерть романа — это отнюдь не фантазия. Она уже
произошла. И мы знаем теперь, как умирает роман:
он не исчезает — останавливается его история —
после нее остается лишь период повторов, когда
роман воспроизводит свою форму, лишенную
духа. Получается, это потаенная смерть, которая
приходит незаметно и никого не поражает.
8
Но, может быть, приближение романа к завершению пути продиктовано его собственной внутренней логикой? Разве он не исчерпал все свои
возможности, свой познавательный потенциал и
формы? Мне приходилось слышать, как историю
романа сравнивают с историей давно выработанных угольных шахт. Но, возможно, она больше
похожа на кладбище упущенных возможностей,
неуслышанных призывов. Существует четыре призыва, к воздействию которых я особенно восприимчив.Зов игры. — «Тристрам Шенди» Лоренса Стерна
и «Жак-фаталист» Дени Дидро сегодня представляются мне двумя самыми великими романами
XVIII века, двумя романами, задуманными как
грандиозная игра. Это два высших образца легкости, которые не удалось превзойти ни до, ни после. В дальнейшем роман оказался накрепко скован требованием правдоподобия, реалистическим
декором, неукоснительным соблюдением хронологии. Он не использовал возможности, которые
заключали в себе два этих шедевра, которые могли бы наметить другую эволюцию романа, отличную от всем известной (да-да, можно вообразить
себе совсем другую историю европейского романа…).Зов мечты. — Уснувшее в XIX веке воображение оказалось внезапно разбужено Францем Кафкой, которому удалось то, к чему впоследствии
стремились сюрреалисты, но чего так и не смогли
достичь: слияние мечты и реальности. Это важнейшее открытие — не столько завершение некой эволюции, сколько неожиданная возможность,
которая наводит на мысль, что роман есть то пространство, где воображение может расцвести, как
во сне, и роман способен преодолеть казавшийся
прежде незыблемым императив правдоподобия.Зов мысли. — Музиль и Брох вывели на сцену
романа высочайший сияющий разум. Причем не
для того, чтобы превратить роман в философскую
концепцию, а чтобы на основе повествования выявить все средства, рациональные и иррациональные, нарративные и медитативные, способные прояснить суть человека; сделать из романа наивысший синтез всего духовного. Стал ли их подвиг
завершением истории романа, или, скорее, это
приглашение к долгому путешествию?Зов времени. — Период конечных парадоксов
побуждает романиста не ограничивать тему времени прустовской проблемой персональной памяти,
а раздвинуть ее до тайны коллективного времени,
времени Европы, той Европы, которая оборачивается, чтобы разглядеть собственное прошлое, чтобы подвести итог, чтобы осознать свою историю,
как старик, одним взглядом охватывающий прожитую жизнь. Отсюда желание преодолеть временные границы индивидуальной жизни, в которые роман был заключен до сих пор, и впустить в
его пространство множество исторических эпох
(Брох, Арагон и Фуэнтес уже пытались это сделать).Но я не хочу предсказывать будущие пути романа, о которых ничего не знаю; я хочу сказать лишь
одно: если роман и в самом деле должен исчезнуть, то не потому, что силы его на исходе, а потому, что мир вокруг больше не является его миром.
Рубрика: Отрывки
Кормак Маккарти. Содом и гоморра
- Кормак Маккарти. Содом и Гоморра: Города окрестностей: Роман / Пер. с англ. В. Бошняка. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. — 384 с.
I
Остановившись в дверях, они затопали сапогами
и затрясли шляпами, сбивая капли дождя, вытерли мокрые лица. На улице дождь плясал на стальных крышах машин, припаркованных вдоль тротуара, и так хлестал
по лужам, что в их кипении красный неон вывесок мешался с зеленым.— Черт подери, я прям что чуть ли не утоп наполовину, — сказал Билли. Еще разок взмахнул промокшей шляпой. — А где же наш главный американский
ковбой?— Да он-то вперед нас уже там.
— Что ж, зайдем. А то он всех пухленьких симпампушек себе заберет.
Сидевшие в потрепанном дезабилье на потрепанных
кушетках потрепанные проститутки подняли взгляды.
В помещении было немноголюдно. Еще немного потопав сапогами, мужчины прошли к бару и там, сбив
шляпы на затылок и поставив по сапогу на перекладину над вымощенной кафелем сточной канавкой, остановились в ожидании, пока бармен нальет им виски.
В расходящихся клубах дыма, подсвеченного кроваво-
красным, сразу взялись за стопки, подняли и, будто поприветствовав кивком какого-то четвертого, ныне отсутствующего приятеля, опрокинули их себе в глотку,
после чего вновь поставили на стойку и вытерли губы
о запястье. Дернув подбородком в направлении бармена, Трой округло обвел пальцем пустые стопки. Бармен кивнул.— Слушай, Джон-Грейди, у тебя вид как у той крысы, что еле вылезла из воды на причал.
— Да я и чувствую себя примерно так же.
Бармен налил им еще виски.
— В жизни не видывал такого проливного дождя.
А не вдарить ли нам по пиву? Три пива сюда.— А ты из тутошних милашек кого-нибудь уже наметил?
Малый покачал головой.
— Ну, кто из них тебе глянется, а, Трой?
— Да я вроде тебя. Коли уж пришел сюда за жирной
женщинкой, так только такую и подавай. Вот серьезно
тебе говорю, братан: когда вобьешь себе в башку насчет
жирной женщинки, так уж ничто другое даром не надь.— Это я тебя понимаю. Но и ты уж кого-нибудь выбирай давай, Джон-Грейди.
Малый развернулся, обвел взглядом сидящих в другом конце зала проституток.
— Как насчет той здоровенной бабищи в зелененькой пижамке?
— Хорош мою девчонку ему сватать, — сказал
Трой. — А то, глядишь, из-за тебя тут драка через минуту начнется.— Ладно тебе. Вон она — как раз на нас смотрит.
— Да они там все на нас смотрят.
— Ладно тебе. Говорю же, ты ей понравился.
— Не-е, Джона-Грейди она с себя враз скинет.
— Ну да! Такого ковбоя поди-ка скинь. Ковбой к ей
так прилепится — прям банный лист. А что скажешь
насчет вон той? Ну, которая вроде как синенькой занавеской обмотана.— Не слушай его, Джон-Грейди. У ней такая рожа,
будто она горела и огонь с нее сбивали граблями. Это я к тому, что та блондинка с краю — она вроде как больше в твоем вкусе.Билли качнул головой и потянулся за стопкой виски:
— Ну что вы ему объясняете? Он все равно в женщинах ничего не понимает, это ж математический
факт!— Ничего! Главно, держись за старого папика, —
сказал Трой. — Он те познакомит кое с кем, у кого есть
за что подержаться. Вот Парэм — тот наоборот: говорит, что с такой, которую мужику не поднять, и связываться не следует. Говорит, вдруг пожар в доме случится.— Или в конюшне.
— Или в конюшне.
— А помнишь, как мы привели сюда Клайда Стэппа?
— Ну еще бы! Вот уж кто разбирается. Выбрал себе девушку с та-акими довесками!
— Они с Джей Си сунули тогда старухе-бандерше
пару долларов, и та пустила их к двери подглядывать.
Собирались еще и пофоткать, но одолел смех, и это дело сорвалось.— Мы говорим Клайду: слышь, ты был похож на
бабуина, который трахает футбольный мяч. Он так
разъярился, думали, придется его держать. А как насчет
вон той, в красном?— Не слушай его, Джон-Грейди.
— Прикинь, сколько это фунтов мяса выйдет на
каждый доллар. Куда ему! Разве он способен вникнуть
в такие сложности?— Да ладно вам. Идите приступайте к делу, — сказал Джон-Грейди.
— Ты-то себе тоже выбери.
— Не надо за меня беспокоиться.
— Ну видал, что ты наделал, Трой! Только и добился, что засмущал парня — Джей Си потом всем рассказывал, что Клайд в ту
шлюху старую влюбился и хотел забрать ее с собой,
но они были приехавши туда в пикапе, и пришлось посылать за грузовиком-шаландой. Но к тому времени,
когда приехал грузовик, Клайд протрезвел и разлюбил
ее, так что теперь Джей Си клянется, что ни в жисть
больше не станет брать его с собой в бордели. Говорит,
тот вел себя неподобающим мужчине, безответственным образом.— Да ладно вам. Идите приступайте к делу, — сказал Джон-Грейди.
Из коридора, ведущего к дверям, слышался шум
дождя, колотящего по железу крыши. Он заказал еще
порцию виски и стоял, медленно поворачивая стопку
на полированном дереве стойки и следя за происходящим сзади по отражению в желтоватых стеклах полок
старого, чуть ли не антикварного буфета. Одна из проституток подошла, взяла его за руку и попросила купить ей что-нибудь выпить, но он ответил в том смысле, что просто ждет друзей. Через некоторое время Трой
вернулся, сел к бару на табурет и заказал еще виски.
Сидел, сложив руки на прилавке, и смотрел серьезно,
будто он в церкви. Вынул из нагрудного кармана сигарету.— Не знаю, Джон-Грейди.
— Чего ты не знаешь?
— Н-не знаю.
Бармен налил ему виски.
— Ему тоже налейте.
Бармен налил.
Подошла другая проститутка, тоже взяла Джона-
Грейди за руку. Пудра на ее лице была треснутая, будто штукатурка.— Скажи ей, что у тебя триппер, — сказал Трой.
Джон-Грейди заговорил с ней по-испански. Она все
тянула его за руку— Билли когда-то сказал здесь это одной. А та ответила, что это ничего, потому что у нее тоже.
Он прикурил от зажигалки «зиппо третий полк»
и, положив зажигалку на пачку сигарет, выпустил дым
на полированный прилавок; покосился на Джона-
Грейди. Проститутка заняла прежнее место на кушетке, а Джон-Грейди во все глаза уставился на что-то
в зеркале буфетных полок. Трой обернулся поглядеть,
на что он смотрит. На подлокотнике кушетки, сложив
руки на коленях и опустив глаза, сидела молоденькая
девушка — самое большее семнадцати лет, а то и меньше. Сидит, мнет в пальцах подол цветастого платьица,
будто школьница. Подняла взгляд, посмотрела на них.
Длинные черные волосы упали ей на плечо, и она медленно отвела их ладонью.— А она ничего, скажи? — проговорил Трой.
Джон-Грейди кивнул.— Так и давай, бери ее.
— Не надо за меня беспокоиться.
— Да черт тя дери, ну давай же!
— А вот и он.
Билли подошел к стойке, надел шляпу.
— Хочешь, чтобы я ее взял? — сказал Трой.
— Захочу — возьму.
— Otra vez 1, — сказал Билли.
Он тоже обернулся, окинул взглядом комнату.
— Ну же! — сказал Трой. — Давай! Мы тебя подождем.
— Это вы на ту девчушку смотрите? Бьюсь об заклад, ей нет и пятнадцати.
— Ну так а я про что? — сказал Трой.
— Возьми ту, которую только что поимел я. Скачет
пятью аллюрами, или я вообще не наездник.Бармен налил им по стопке виски.
— Она сюда вот-вот вернется.
— Не надо за меня беспокоиться.
Билли бросил взгляд на Троя. Потом повернулся,
поднял стопку и посмотрел на просвет — как стоит в
ней налитая до краев красноватая жидкость; поднял,
выпил и, достав из кармана рубашки деньги, дернул
подбородком в сторону наблюдающего за его действиями бармена.— Все готовы? — спросил он.
— Да вроде.
— Пошли куда-нибудь, поедим. По-моему, дождь
перестает. Что-то я его уже не слышу.Прошли по Игнасио Мехиа до Хуарес-авеню. По сточным канавам неслась сероватая вода, а на мокрых
мостовых кровавыми лужами растекались огни баров
и сувенирных лавочек. Владельцы лавок наперебой
зазывали к себе, отовсюду выскакивали и хватали за
рукав уличные торговцы, предлагая бижутерию и одеяла-серапе. Перейдя Хуарес-авеню, двинулись дальше
по Мехиа к «Наполеону», где сели за столик у окна. Подошедший официант в ливрее метелочкой обмахнул
испятнанную белую скатерть.— Caballeros? — проговорил он.
Они ели жареное мясо, пили кофе и слушали рассказы Троя о войне, потом курили и смотрели, как древние желтые такси вброд пробираются по залитым водой мостовым. По Хуарес-авеню дошли до моста через
Рио-Гранде.Трамваи уже не ходили, улицы были почти свободны — как от торговцев, так и от транспорта. Сияющие
во влажном свете фонарей рельсы бежали к пропускному пункту и дальше, где, впечатанные в мост, напоминали гигантские хирургические зажимы, скрепляющие эти чуждые друг другу хрупкие миры; тучи в небе тем временем сдвинулись и, уже не накрывая горы
Франклина, ушли на юг, по направлению к темным силуэтам горных хребтов Мексики, ясно прорисовавшихся на фоне звездного неба. Мужчины перешли мост, по
очереди протиснулись через турникет и оказались —
слегка пьяные, в небрежно заломленных шляпах — уже
в Эль-Пасо (штат Техас), на улице Саут-Эль-Пасострит.
Когда Джон-Грейди разбудил его, было еще темно.
Джон-Грейди был уже одет, успел наведаться на кухню, пообщался с лошадьми и стоял теперь с чашкой кофе в руке, откинув к косяку дерюжную занавесь дверного проема, ведущего в спальную клетушку Билли.— Эй, ковбой, — позвал он.
Билли застонал.
— Пора идти. Зимой отоспишься.
— Ч-черт.
— Пошли. Ты уже чуть не четыре часа прохлаждаешься.
Билли сел, сбросил ноги на пол и сгорбился, обхватив голову руками.
— Не понимаю, как ты можешь так долго дрыхнуть.
— Черт тебя возьми, тебе по утрам будто кто шилом
в зад тычет. А где положенный мне кофе?— Вот еще, буду я тебе кофе носить. Давай подымай
зад. Жрачка на столе.Протянув руку, Билли снял с гвоздя над постелью
шляпу, надел, выровнял.— О’кей, — сказал он. — Я встал.
По центральному проходу конюшни Джон-Грейди
двинулся к выходу во двор — тому, который в сторону
дома. Пока шел, кони в денниках приветствовали его
ржаньем. Знаю, отвечал он им, ваше, ваше время. В торце конюшни, пройдя мимо соломенного жгута, длинной плетью свисавшего с сеновала, он допил остатки
кофе, выплеснул гущу, подпрыгнул, в прыжке хлопнул
ладонью по жгуту и, оставив его раскачиваться, вышел вон.Все были за столом, ели, когда Билли толкнул дверь
и вошел. За ним вошла Сокорро, взяла поднос с крекерами, понесла к печи, там, переложив на противень,
сунула в духовку и, почти сразу вынув из нее горячие
крекеры, ссыпала их на поднос и подала к столу. На столе стояла миска с омлетом, другая с овсянкой, сосиски на тарелке и в плошке соус; помимо этого соленья
в мисках, салат пико-де-гальо, масло и мед. Умыв над
раковиной лицо, Билли принял от Сокорро полотенце, вытерся и, положив полотенце на прилавок, шагнул
через свободное место на скамье к столу; уселся, потянулся за омлетом. Оторвавшись от газеты, Орен наделил его долгим взглядом и продолжил чтение.Ложкой наложив себе омлета, Билли поставил миску и потянулся за сосисками.
— Доброе утро, Орен, — сказал он. — Доброе утро,
Джей Си.Джей Си оторвал взгляд от тарелки:
— А ты опять, что ли, всю ночь медведей пугал?
— Ну было дело, пугал, — сказал Билли. Протянув
руку, взял с подноса крекер, вновь прикрыл поднос
салфеткой, потянулся за маслом.— А ну-ка, дай я на твои глазки погляжу, — сказал
Джей Си.
— Да все у меня с глазами нормально. Передай-ка
мне лучше сальсу.Он густо покрыл свой омлет острым соусом.
— Огонь надо выжигать огнем. Правильно я говорю, Джон-Грейди?В кухню вошел старик в брюках со спущенными
подтяжками и рубашке из тех старинных, к которым
воротнички пристегивались, но на нем она была без воротничка и сверху расстегнутая. Он только что брился: на его шее и мочке уха виднелись следы крема для
бритья. Джон-Грейди пододвинул ему стул.— Садитесь, мистер Джонсон, — сказал он. — Вот
сюда. Я-то уже все.Он встал с тарелкой в руке, хотел отнести ее в раковину, но старик сделал знак, чтобы парень сел на место, а сам прошел дальше, к плите.
— Сядь, сядь, не надо, — сказал он. — Мне только
чашку кофе.Сокорро сняла одну из белых фарфоровых кружек
с крюка под буфетной полкой, налила и, повернув ее
ручкой от себя, подала старику, который взял кружку,
кивнул и пошел назад через кухню. У стола остановился, дважды большой ложкой зачерпнул из сахарницы
песка, бросил в кружку и ушел, на ходу помешивая
ложкой. Джон-Грейди поставил свою чашку и тарелку около раковины, взял с прилавка бадейку с ланчем
и вышел следом.— Что это с ним? — сказал Джей Си.
— Да ничего, все нормально, — сказал Билли.
— Я, в смысле, с Джоном-Грейди.
— Я понял, о ком ты.
Орен сложил газеты и бросил на стол.
— Так. Вот этого лучше даже не начинать, — сказал
он. — Трой, ты готов?— Я готов.
Они встали из-за стола и вышли. Билли продолжал
сидеть, ковыряя в зубах. Бросил взгляд на Джея Си.— Ты чем с утра намерен заняться?
— Еду в город со стариком.
Билли кивнул. Снаружи во дворе завели грузовик.
— Ладно, — сказал Билли. — Уже, кажись, достаточно рассвело.
Встал, подошел к прилавку, взял свой бидончик
с завтраком и вышел. Джей Си протянул руку, взял
газетуЗа рулем урчащего на холостых грузовика был
Джон-Грейди. Билли сел с ним рядом, поставил бидончик с завтраком в ноги, закрыл дверцу и повернулся к водителю.— Что ж, — сказал он. — Ты готов сегодня наработать точно на те деньги, что платят за день?
Джон-Грейди врубил передачу, и они покатили от
дома прочь.— От зари до зари повкалываешь, и божий доллар
твой, — сказал Билли. — Люблю такую жизнь. Ты эту
жизнь любишь, сынок? Я люблю эту жизнь. Ты ведь
тоже ее любишь, правда же? Но уж как я ее люблю, так
это ж — господи! Вот люблю, и все.Он полез в нагрудный карман рубашки, достал из
лежавшей там пачки сигарету, поднес огонек зажигалки и сидел курил, пока они катили по дороге, там и сям
перечеркнутой длинными утренними тенями столбов,
кольев изгороди и деревьев. Белое солнце в пыльном
лобовом стекле слепило глаза. Коровы стояли вдоль
забора и мычали вслед грузовику; Билли их внимательно рассматривал.— Коровы, — сказал он.
Полдничали на травяном склоне среди рыжих глинистых откосов в десяти милях к югу от центральной
усадьбы ранчо. Потом Билли лег, сунув под голову
свернутую куртку, шляпой накрыл глаза. Выглянув
из-под шляпы, прищурился на серые осыпи отрогов
гор Гваделупес в восьмидесяти милях к западу.— Ненавижу сюда наведываться, — сказал он. — Чертова здешняя земля не способна удержать даже столб
забора.Джон-Грейди сидел по-турецки, жевал травинку.
В два дцати милях южнее виднелась полоса живой зелени, вьющаяся вдоль русла Рио-Гранде. А перед ней —
огороженные серые поля. За трактором, волочащим по
серым осенним бороздам хлопкового поля культиватор, тянулся хвост серой пыли.— Мистер Джонсон говорит, министерство обороны посылало сюда людей с приказом обследовать
семь штатов Юго-Запада, найти, где самые тощие земли, и доложить. И вроде ранчо Мэка оказалось как раз
в их середке.Билли поглядел на Джона-Грейди и снова устремил
взгляд к горам.— Как думаешь, это правда? — спросил Джон-
Грейди.— Хрен знает.
— Джей Си говорит, старик Джонсон дурнеет и дурнеет, прям совсем спятил.
— Да он и спятимши поумней будет, чем Джей Си
в самом блеске разума, так что Джей Си-то уж молчал бы.— Ты думаешь?
— Со стариком все нормально. Просто старый, да
и все тут.— Джей Си говорит, он слегка двинулся с тех пор,
как умерла его дочь.— Ну-у… Так это и нормально, как же иначе-то?
Она для него много значила.
— Да-а.
— Может, нам Делберта спросить? Что думает насчет этого Делберт.
— А Делберт не такой дурак, как кажется, кстати
говоря.— Ну, будем надеяться. Между прочим, за стариком всегда водились некоторые странности, да и сейчас водятся. А вот места тут изменились. И никогда уж
прежними не будут. Может, мы все слегка спятивши.
Думаю, если у всех крыша съедет одновременно, никто и не заметит, правда же?Наклонясь вперед, Джон-Грейди сплюнул сквозь
зубы и опять сунул в рот травинку.— Вижу, тебе она понравилась, верно?
— Чертовски. Она была со мной так нежна, как
никто.В четверти мили восточнее из кустов вышел койот
и потрусил куда-то вдоль гривки.— О! Смотри, видал сукина сына? — сказал Билли.
— Ну-ка, где там мое ружье.
— Да он уйдет прежде, чем ты успеешь приподнять зад.
Пробежав вдоль гривки, койот остановился, оглянулся и вниз по склону нырнул куда-то опять в кусты.
— Как думаешь, что он тут делает среди бела дня?
— Вот и он небось точно так же недоумевает насчет
тебя.— Думаешь, он нас видел?
— Судя по тому, как он очертя голову ломанулся
в колючки, вряд ли он совсем-то уж слепой.Джон-Грейди не сводил с того места глаз, ждал, что
койот появится снова, но тот так и не появился.— Самое странное, — вновь заговорил Билли, — что,
когда она заболела, я как раз собирался уволиться. Готов был опять куда-нибудь податься. Причем после ее
смерти у меня сделалось еще меньше причин оставаться, а я вот тем не менее остался.— Ну, ты, может, решил, что Мэку теперь без тебя
никуда.— Да ну к черту!
— Сколько ей было?
— Не знаю. Под сорок. Может, чуточку за. По ним
это разве поймешь?— Как думаешь, он с этим справится?
— Кто, Мэк?
— Ну.
— Нет. Такую женщину разве забудешь! Да он и не
из тех, кто забывает. Нет, не из тех.Он сел, надел шляпу, выровнял.
— Ну, ты готов, братишка?
— Вроде.
Он с усилием встал, взял бидон с ланчем и, отряхнув сиденье штанов ладонью, нагнулся за курткой.
Посмотрел на Джона-Грейди:
— Как-то раз один старый ковбой сказал мне, что
он ни в жисть не видывал, чтобы из женщины, выросшей в доме, где сортир внутри, получилось бы что-нибудь путное. Вот и она тоже в роскоши не купалась.
Старина Джонсон всегда был простым ковбоем, а за
это дело сам знаешь, сколько платят. Мэк познакомился с ней на церковном ужине в Лас-Крусес, ей тогда
было семнадцать, и тут уж не отнять и не прибавить.
Нет, ему через это не переступить. Ни теперь, ни вскорости, и никогда.Когда вернулись, уже стемнело. Покрутив ручку,
Билли поднял дверное стекло и продолжал сидеть, глядя на дом.— Устал я как последняя скотина, — сказал он.
— Хочешь все бросить в кузове?
— Нет, ну лебедку-то надо выгрузить. Может пойти дождь. Ведь может? Да еще там этот ящик со скрепами. Заржавеют, на хрен.
— За ящиком я слазаю.
Джон Грейди потащил из кузова ящик. В конюшенном проходе вспыхнул свет. У выключателя стоял Билли, встряхивал руку, словно градусник.
— Ну каждый раз! Стоит мне этой заразы коснуться — бьет током.
— Это из-за гвоздей в подметках.
— Так почему ж меня тогда не по ногам бьет?
— Это я без понятия.
Лебедку повесили на гвоздь, а ящик со скрепами
поставили на поперечный брус стены у самой двери.
В денниках наперебой ржали лошади.Джон Грейди двинулся по конюшенному проходу
и, дойдя до последнего бокса, хлопнул ладонью по двери денника. И в тот же миг раздался такой удар по доскам стены напротив, будто там что-то взорвалось. Пыль
сразу же пронизал лучик света. Джон бросил взгляд
на Билли, усмехнулся.— Ни хрен-нас-се! — вырвалось у Билли. — Он же
теперь на улицу ногу сможет высунуть!
Анисимов Е. В. «Письмо турецкому султану. Образы России глазами историка»
С недавних пор 4 ноября мы отмечаем День народного единства, а точнее не ходим на работу и учебу, имея веское, но не вполне понятное основание. Что празднуем-то? «Прочтение» публикует отрывок из новой книги историка Е. В. Анисимова «Письмо турецкому султану. Образы России глазами историка», которая вот-вот появится в продаже. Надеемся, рассказ о памятнике Ивана Мартоса «Гражданину Минину и князю Пожарскому» прольет свет на наш загадочный праздник.
«Безумное молчание» — так назвал современник то страшное cостояние всеобщего отчаяния и разброда, которое царило в России осенью 1611 года.
Тогда казалось, что пришел час русской национальной катастрофы: поляки сожгли Москву и превратили Кремль в свою
неприступную крепость; шведы захватили Великий Новгород;
центральная власть рухнула; страна развалилась на части. От
города к городу бродили шайки поляков и казаков и грабили
беззащитных жителей, убивая каждого, кто им сопротивлялся.
По обочинам дорог лениво ходили обожравшиеся мертвечиной
волки — всюду лежали трупы умерших от голода и убитых разбойниками людей. Казалось, что страна идет к своей окончательной гибели. Но все же в глубине народного сознания всегда теплятся здравый смысл, вера и мужество. Известно, что в
те моменты, когда уже отступать некуда, русский человек вдруг
понимает, что всем порядочным людям нужно объединиться,
принести, как высокопарно говорили в прошлом, жертву на
алтарь Отечества. Но известно также, что бывает проще в порыве человеколюбия или во имя святой веры отдать жизнь, чем
пожертвовать на общее дело с трудом накопленные, полушка к
полушке, деньги или имущество. А именно этой жертвы стране, где до сих пор общественные деньги проваливаются в бездонные карманы ворья у власти, требовалось более всего.
И вот осенью 1611 года в Нижнем Новгороде нашелся человек — мясник Кузьма Захарович Минин по прозвищу Сухорук, — который уловил и выразил всеобщее народное чувство, с паперти церкви Рождества Иоанна Предтечи призвав сограждан обложить себя добровольным налогом на новую рать «для очищения Московского государства». Он говорил землякам: «Захотим помочь Московскому государству, так не жалеть нам имения своего, не жалеть ничего, дворы продавать,
жен и детей закладывать, бить челом тому, кто бы вступился
за истинную православную веру и был у нас начальником».
Зная честность Кузьмы, горожане выбрали его старостой
и начали приносить ему деньги и ценные вещи. Художник-реалист К. Е. Маковский в своей картине «Воззвание Минина» (1896) воспроизвел это грандиозное, беспорядочное, в русском стиле, с суетой, стоящей столбом пылью и кричащими
галками историческое событие. Но мало в таком деле хорошо
говорить и не воровать! Минин оказался человеком исключительных организаторских способностей: он создал войско и
пригласил возглавить его князя Дмитрия Михайловича Пожарского — воина опытного, хладнокровного, накануне тяжело раненного в бою с поляками. Несмотря на ранение, он
согласился стать во главе Нижегородского ополчения, сказал,
что «рад за православную веру страдать до смерти». Вскоре
собранное ополчение двинулось в поход и заняло Ярославль.
Минин оказался прав: к ополчению стали присоединяться
отряды других городов, возник «Совет всей земли» — будущая
новая власть. Позже ученые объяснили причину начавшейся цепной реакции сопротивления. В каждом городе исстрадавшиеся от грабежей и убийств люди стали объединяться, везде
появлялся «свой Минин», нанимавший на собранные общественные деньги «своего Пожарского» для защиты города,
посада. Начались тяжелые бои с поляками, освобождение
Москвы, потом пришли победа, выборы нового царя — словом,
«земля спасла Россию».
Но, как всегда бывает, с победой число героев-освободителей возрастает многократно, а истинных героев награждают,
а потом оттесняют на вторые роли. И когда Пожарский вступил в местнический спор с боярином Лыковым, некогда служившим полякам, и проиграл его, то князя, как менее знатного, «выдали головой» Лыкову. В простой телеге Пожарского
привезли на двор боярина, и тот, под гогот дворни, потешался
над опозоренным спасителем России…
Ныне в Оружейной палате Московского Кремля среди сказочных сокровищ можно увидеть две с виду неказистые сабли — у одной даже надломана рукоять. И все же это одна из
бесценных реликвий России — это оружие Минина и Пожарского. Любопытно, что при неказистом виде сабель их клинки
из дамасской стали. На клинке Минина написано: «Сделал
мастер Ахмед из Каира», на клинке Пожарского: «Ковал персидский мастер Нури».
А на Красной площади с 1818 года стоит памятник Минину и Пожарскому работы Ивана Петровича Мартоса (1754—
1835). На нем надпись: «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная РОССİЯ. Лҧта 1818». Как известно,
Мартос, безусловный «классик», был верен господствовавшей тогда псевдоантичной эстетике. Как и все другие его монументы (вспомним памятники Ломоносову в Архангельске
или Ришелье в Одессе), памятник Минину и Пожарскому выдержан в классическом стиле.
Если можно понять жалость архангелогородцев к почти голому великому помору, стоящему посредине северного города, то античные одежды Минина и Пожарского все-таки даны
более-менее условно. И хитон Минина можно при желании
принять за традиционную русскую рубаху простолюдина, а
плащ раненого Пожарского — за простыню болящего воина.
История не запечатлела внешности Минина, и лицо статуи,
его изображающей, может показаться кому грозным ликом
Зевса, а кому физиономией постриженного в скобку русского мужика. «Античная» пластика горделивых поз и благородных жестов героев (более всего выразителен жест правой
руки Минина, будто очертивший своим движением всю обширную Россию) как нельзя лучше соответствует величию
подвига во имя Отечества, который и прославляет монумент.
Идея создания памятника Минину и Пожарскому родилась в Нижнем Новгороде в начале XIX века, деньги для него
собирались по подписке. Был объявлен конкурс на лучший
проект, на котором победил Мартос, предложивший памятник
с фигурами народных героев и без символов самодержавия.
Так случилось, что период работы скульптора над памятником пришелся на новое великое потрясение — Отечественную
войну 1812 года. Опять, как и в 1612 году, народ поднялся против неприятеля, а власть опять стушевалась, оставив арену
борьбы народу. Героический дух 1812 года определенно витал
над петербургской мастерской Мартоса, где более десяти лет
скульптор трудился над созданием памятника. На горельефе
лицевой стороны постамента, посвященной теме народа, приносящего жертву Отечеству, Мартос изобразил себя в виде старика, отдающего России двух своих сыновей. Действительно,
оба его сына воевали в 1812 году против Наполеона, и один из
них погиб во время Заграничного похода русской армии 1813—
1814 годов.
Памятник, бережно доставленный по воде из Петербурга
в старую, тогда еще лежавшую в руинах столицу, был поставлен на Красной площади (в советское время он, чтобы не
мешать парадам, «переехал» ближе к собору Василия Блаженного), быстро полюбился москвичам, стал естественной
достопримечательностью столицы наряду с Лобным местом,
Василием Блаженным, Спасской башней.
Только одно огорчало: было обидно за Нижний Новгород,
откуда пошла инициатива ополчения, а потом и идея создания
монумента. Нижегородцы, более других достойные памятника, несколько лет собиравшие на него деньги, так ничего и не
получили… Очевидная несправедливость была исправлена
вездесущим Зурабом Церетели, сделавшим в 2005 году копию
памятника Мартоса. И теперь копия эта стоит в Нижнем Новгороде, у церкви Рождества, откуда на всю Россию прозвучал
клич Минина. А справедливее было бы подлинник поставить
на берегу Волги, а копию отправить в Москву.
Олег Жиганков. Григорий Распутин. Правда и ложь
Глава 1
Детство и юность
«Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть».
Евангелие от Луки, 17:21
«Я мечтал о Боге… Душа моя рвалась в даль… »
Г. Е. Распутин «Записки опытного странника»
Григорий Ефимович Распутин родился 9 (по новому стилю — 21) января 1869 года в селе Покровском Тю¬менского уезда Тобольской губернии, в шестидесяти верстах от Тюмени. Тюменский краевед В.Л.Смирнов нашел и метрические книги слободы Покровской, «где в части первой „О родившихся“ рукой священ¬ника Николая Титова записано: »9 января 1869 года у крестьянина Слободы Покровской Ефима Яковлевича Распутина и его жены Анны Васильевны вероисповедания православного родился сын Григорий»»1.
В материалах переписи населения от 1 января 1887 года была обнаружена строка: «…Якова Васильева Распутина второй сын Ефим 44-х лет, дочь его Феодосия 12-ти лет, Ефима сын Григорий 17-ти лет…»2
Предки Григория Ефимовича пришли в Сибирь в числе первых пионеров. Долгое время они носили фамилию Изосимовы по имени того самого Изосима, что переселился из Вологодской земли за Урал. Распутиными же стали называться два сына Насона Изосимова — Яков и Филипп и соответственно их потомки: «Двор, а в нем живет крестьянин Филипп Насонов сын Роспутин, сказал себе от роду 30 лет, у него жена Парасковья 28 лет, дети у него сыновья Митрофан 7 лет, Федосей 6 лет». Ко времени рождения Григория около половины жителей села Покровского звались Распутины.
Автор статьи о происхождении рода Распутиных С.Князев пишет: «Версий происхождения прозвища Распута существует несколько: а) распута — беспутный, непутевый человек; б) распута, распутье — раздорожье, развилина или же перекресток, пересечка дорог; в) старинная поговорка „Пустили дурака на распутье“ наводит на мысль, что с таким именем мог быть просто нерешительный человек; г) распутица — бездорожье, осенне-весенняя грязь, а значит, ребенок, появившийся на свет в ту пору, мог получить имя Распута»3.
Григорию Ефимовичу действительно выпало жить на распутье исторических дорог — ему суждено было стать свидетелем и участником того трагического выбора, который был сделан на этом распутье.
В своем капитальном труде, посвященном исследованию жизни Распутина, А. Н. Варламов пишет о семье, в которой появился на свет Григорий: «Дети Анны и Ефима умирали один за другим. Сначала в 1863 году, прожив несколько месяцев, умерла дочь Евдокия, год спустя еще одна девочка, тоже названная Евдокией. Третью дочку назвали Гликерией, но прожила она всего несколько месяцев. 17 августа 1867 года родился сын Андрей, оказавшийся, как и его сестры, не жильцом. Наконец в 1869-м родился пятый ребенок — Григорий. Имя дали по святцам в честь святителя Григория Нисского, известного своими проповедями против любодеяния, а также высказываниями о сакральной природе имени Божьего… Крестными его стали дядя Матвей Яковлевич Распутин и девица Агафья Ивановна Алемасова»4.
Несмотря на все имеющиеся документы, клевета о рождении Распутина продолжает дезинформировать публику. Так, например, одна ведущая кинокомпания поставила художественный фильм о Распутине, в котором говорится, что Григорий был сыном проститутки цыганки и беглого каторжника. Зритель проглотил и смотрит дальше. Это лишь один из примеров того, как ложь о Григории Распутине внедряется в сознание людей.
Распутина часто изображают чуть ли не великаном, монстром, обладавшим железным здоровьем и способным есть стекла и гвозди. На самом деле Григорий рос слабым и болезненным ребенком. Позднее он писал о своем детстве в автобиографическом сочинении, названном им «Житие опытного странника»: «Вся жизнь моя была болезни. <…> Медицина мне не помогала, со мной ночами бывало, как с маленьким: мочился в постели»5.
«Всякую весну я по сорок ночей не спал. Сон будто как забытье, так и проводил все время с 15 лет до 28 лет. Вот что тем более толкнуло меня на новую жизнь»6.
Но при этом уже в детском возрасте все его помышления отличались от обычного хода мыслей простого обывателя. В том же «Житии» Григорий Ефимович пишет: «В 15 лет в моем селе в летнюю пору, когда солнышко тепло грело, а птицы пели райские песни, я ходил по дорожке и не смел идти по середине ее… Я мечтал о Боге… Душа моя рвалась в даль… Не раз, мечтая так, я плакал и сам не знал, откуда слезы и зачем они. Постарше, с товарищами, подолгу беседовал о Боге, о приходе, о птицах… Я верил в хорошее, в доброе… и часто сиживал я со стариками, слушая их рассказы о житии святых, о великих подвигах, о больших делах, о царе Грозном и многомилостивом… Так прошла моя юность. В каком-то созерцании, в каком-то сне… И потом, когда жизнь коснулась, дотронулась до меня, я бежал куда-нибудь в угол и тайно молился… Неудовлетворен я был. На многое ответа не находил… И грустно было… И стал я попивать…».
С детства Григорий начал осознавать силу своей молитвы, проявившуюся в отношении как животных, так и людей. Вот как пишет об этом его дочь Матрена: „От деда я знаю о необыкновенной способности отца обращаться с домашними животными. Стоя рядом с норовистым конем, он мог, положив ему на шею ладонь, тихо произнести несколько слов, и животное тут же успокаивалось. А когда он смотрел, как доят, корова становилась совершенно смирной.
Как-то за обедом дед сказал, что захромала лошадь, возможно, растянула сухожилие под коленом. Услыхав это, отец молча встал из-за стола и отправился на конюшню. Дед пошел следом и увидел, как сын несколько секунд постоял возле лошади в сосредоточении, потом подошел к задней ноге и положил ладонь прямо на подколенное сухожилие, хотя прежде никогда даже не слышал этого слова. Он стоял, слегка откинув назад голову, потом, словно решив, что исцеление совершилось, отступил на шаг, погладил лошадь и сказал: „Теперь тебе лучше“.
После того случая отец стал вроде ветеринара-чудотворца и лечил всех животных в хозяйстве. Вскоре
его «практика» распространилась на всех животных
Покровского. Потом он начал лечить и людей. «Бог помогал»7.
Он жил в миру. Что это значит? Обратимся к его «Житию»: «…Был с миром, то есть любил мир и то, что в мире. И был справедлив, и искал утешения с мирской точки зрения. Много в обозах ходил, много ямшичил, и рыбу ловил, и пашню пахал. Действительно это все хорошо для крестьянина! Много скорбей было мне: где бы какая сделалась ошибка, будто как я, а я вовсе ни при чем. В артелях переносил разные насмешки. Пахал усердно и мало спал, а все же таки в сердце помышлял, как бы чего найти, как люди спасаются».
«Несомненно в жизни Распутина, простого крестьянина Тобольской губернии, имело место какое-то большое и глубокое душевное переживание, совершенно изменившее его психику и заставившее обратиться ко Христу»8, — писал следователь Чрезвычайной комиссии при Временном правительстве В.М.Руднев. В чем заключалось это переживание, и было ли это одно переживание или целый ряд — сказать на сегодняшний день сложно. Но можно довериться воспоминаниям Матрены Распутиной, которая так писала про обращение отца: «В четырнадцать лет отца захватило Святое Писание. Отца не учили читать и писать, как почти всех деревенских детей. Грамоту он не без труда освоил только взрослым, в Петербурге. Но у него была необыкновенная память, он мог цитировать огромные куски из Писания, всего один раз услышав их. Отец рассказывал мне, что первыми поразившими его словами из Писания были: „Не придет Царствие
Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, оно там. Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть“.
Слова священника так поразили отца, что он бросился в лес, опасаясь, как бы окружающие не увидели, что с ним происходит нечто невообразимое. Он рассказывал, что именно тогда почувствовал Бога. Он рассуждал: „Если Царство Божие, а стало быть, и сам Бог, находится внутри каждого существа, то и звери не лишены его? И если Царство Божие есть рай, то этот рай — внутри нас? Почему же отец Павел говорит о рае так, словно тот где-то на небе?“
Слова эти означали — и не могли означать ничего иного: Бог — в нем, Григории Распутине. И чтобы найти его, следует обратиться внутрь себя. И правда, если Царство Божие — в человеке, то разве грешно рассуждать о нем, рассуждая о Боге? И если в церкви об этом не говорят, что ж, надо искать истину и за ее пределами.
Отец рассказывал, что как только он понял это, покой снизошел на него. Он увидел свет. Кто-то написал бы в этом месте: „Ему показалось, что он увидел свет“. Но только не я. Я твердо знаю, что свет был. По словам отца, он молился в ту минуту с таким пылом, как никогда в жизни»9.
В этих простых словах заключается истина, достойная благоговейного созерцания. Григорий не мог верить во что-то наполовину. Если он верил, то верил до конца. И если любил, то любил до конца. И, поверив, что в нем находится Царствие Божие, а сам он является тем храмом, в котором обитает Святой Дух, Григорий начинает жить в соответствии с тем, во что уверовал.
Что же касается беспутной и греховной юности Григория, сопровождавшейся конокрадством и оргиями, то это не более чем позднейшие измышления газетчиков. Алексей Николаевич Варламов пишет: «Матрена Распутина в своей книге утверждает, что отец ее с младых лет был настолько прозорлив, что несколько раз «прозревал» чужие кражи и потому лично для себя саму возможность воровства исключал: ему казалось, что другие так же это «видят», как и он. Сомнению подвергает достоверность свидетельских показаний о воровстве Григория и американский православный исследователь Ричард Бэттс, автор, пожалуй, самого лучшего на сегодняшний день англоязычного исследования о Распутине «Пшеница и плевелы»»10.
О. А. Платонов сообщает: «Позднее недобросовестные журналисты будут писать, что к этому (паломничеству. — О. Ж.) его подтолкнул случай, когда якобы он был схвачен с поличным то ли на воровстве лошадей, то ли чего-то другого. Внимательное изучение архивных документов свидетельствует, что случай этот полностью выдуман. Мы просмотрели все показания о нем, которые давались во время расследования в Тобольской консистории. Ни один, даже самый враждебно настроенный к Распутину свидетель (а их было немало) не обвинил его в воровстве или конокрадстве. Не подтверждает этого „случая“ и проведенный в июне 1991 года опрос около 40 самых пожилых людей села Покровского… Никто из них не мог вспомнить, чтобы когда-то родители им рассказывали о воровстве Распутина»11.
Тем не менее вполне возможно, что уже в ту пору Григорий испытал несправедливость и жестокость. Он пишет о том, что однажды его несправедливо обвинили в воровстве лошадей и сильно побили, но в скором времени следствие нашло виновных, которые и были высланы в Восточную Сибирь. Григория же никто не тронул и всякие обвинения с него были сняты.
Его односельчанин Картавцев показывал на допросе, как, подозревая Григория в конокрадстве, он «ударил его колом и так сильно, что у него из носа потекла кровь ручьем… Сначала я думал, что убил его, но он стал шевелиться… И я повез его в волостное правление. Он не хотел идти… но я ударил его несколько раз кулаком по лицу, после чего он сам пошел в волость… После побоев сделался он каким-то странным
и глуповатым«12.
«Видно, — комментирует Эдвард Радзинский, — когда удар колом грозил погубить его, когда кровь залила лицо, Григорий испытал нечто… Избитый юноша ощутил в своей душе странную радость, то, что сам он потом назовет „радостью смирения, радостью страдания, поношения“… „Поношение — душе радость“, — объяснял он через много лет Жуковской»13.
Возможно, что этот удар колом и явился причиной той большой шишки на голове Распутина, которую он прикрывал волосами. Возможно и то, что этот удар оказался провиденциальным, нечаянно произведшем какие-то перемены в работе мозга Григория. Подобные случаи известны. Нечто схожее произошло несколькими десятилетиями ранее в Америке с девочкой по имени Елена Хармон: один из одноклассников запустил в нее тяжелым камнем и нанес тяжелые повреждения ее мозгу. С тех пор она уже не могла учиться в школе, но ее религиозные чувства только обострились14.
«Это сущая неправда, что писали в газетах, будто бы мой покойный отец был за что-либо судим. Ничего подобного не было. Правда, дедушка Ефим Яковлевич был однажды арестован за несвоевременный платеж податей, как вообще это делалось в прежние времена с крестьянами. Может быть, по этому поводу и сплели газеты небылицу про отца»15, — говорила Матрена Распутина на следствии.
Но вернемся к будням. В молодости, когда он много болел, «очень трудно это было все перенесть, а делать нужно было, но все-таки Господь помогал работать, и никого не нанимал, трудился сам, ночи с пашней мало спал».
И тем не менее, как справедливо замечает Варламов, одна помощница у него была — это его возлюбленная жена: «Об этой женщине почти все, кто ее знал, отзывались всегда очень хорошо. Распутин женился восемнадцати с небольшим лет 2 февраля 1887 года. Жена была старше его на три года, работяща, терпелива, покорна Богу, мужу и свекру со свекровью. Она родила семерых детей, из которых трое первых умерли, трое следующих выжили, и последняя девочка также умерла — история для своего времени типичная»16.
Григорий Ефимович встретил свою суженую на плясках, которые он так любил. Вот как об этом пишет Матрена Распутина: «Она была высокой и статной, любила плясать не меньше, чем он. Наблюдавшие за ними односельчане решили, что они — красивая пара. Ее русые волосы резко контрастировали с его каштановой непокорной шевелюрой, она была почти такого же высокого роста, как и он. Ее звали Прасковья Федоровна Дубровина, Параша. Моя мама…
Мама была доброй, основательной, сейчас бы сказали — уравновешенной. На три года старше отца. Начало семейной жизни было счастливым. Отец с
усердием, какое раньше замечалось за ним не всегда, работал по хозяйству. Потом пришла беда — первенец прожил всего несколько месяцев. Смерть мальчика подействовала на отца даже сильнее, чем на мать. Он воспринял потерю сына как знак, которого так долго ждал. Но не мог и предположить, что этот знак будет таким страшным.
Его преследовала одна мысль: смерть ребенка — наказание за то, что он так безоглядно „тешил плоть“ и так мало думал о Боге. Он молился. И молитвы утешали боль. Прасковья Федоровна сделала все, что могла, чтобы смягчить горечь от смерти сына. Через год родился второй сын, Дмитрий, а потом — с промежутком в два года — дочери Матрена, или Мария, как я люблю, чтоб меня называли, и Варя. Отец затеял строительство нового дома, большего по размерам, чем дом деда, на одном дворе. Это был двухэтажный дом, самый большой в Покровском»17.
Примечания
1 Смирнов В.Л. Неизвестное о Распутине. Тюмень, 1999.
2 Князев С. Распутины из села Покровского и их корни в Коми крае//Генеалогический вестник. 2001. № 5.
3 Чернышев А. В. Кое-что о распутиниаде и издательской конъюнктуре наших дней (1990-1991 годы). Религия и Церковь в Сибири // Сб. научных статей и докумен¬тальных материалов. Тюмень, 1990. Вып. 2. С. 55.
4 Там же. С. 9.
5 Распутин Г.Е. Житие опытного странника. http:// omolenko.com/biblio/rasputin.htm (1/21/2013).
6 Распутин Г. Е. Житие опытного странника. Распутина М.Г. Распутин. Почему? М., 2000. С. 29-30.
7 Руднев В.М. Правда о русской царской семье и темных силах. Российский архив (История отечества в свиде¬тельствах и документах ХУШ-ХХ вв.). Вып. VIII. С. 150.
8 Распутина М.Г. Распутин. Почему? С. 32.
9 Варламов А.Н. Григорий Распутин-Новый. С. 11-12.
10 Платонов О. А. Терновый венец России. Пролог царе¬убийства. Жизнь и смерть Григория Распутина. С. 49.
11 Радзинский Э. С. Распутин: жизнь и смерть. М. С. 35.
13 Там же. С. 36.
14 Со временем она стала известна за свой пророческий дар, который до сих пор широко обсуждается в разных кругах и который принимается миллионами христиан по всему миру. В замужестве имя этой женщины — Елена Уайт.
15 Соколов Н.А. Предварительное следствие. С. 189.
16 Варламов А.Н. Григорий Распутин-Новый. С. 14.
17 Распутина М. Г. Распутин. Почему? С. 34.
Мариэтта Чудакова. Не для взрослых. Время читать!
- Издательство «Время»; 2012 г.
О сильных чувствах
1
«— Детеныш человека! Смотри!
Как раз напротив волка, держась за низкую
ветку, стоял голый коричневый малыш, только
что научившийся ходить, самая мяконькая
и самая усеянная ямочками крошка, которая
когда-либо попадала ночью в волчье логово.Он посмотрел прямо в лицо Отцу Волку и засмеялся.
— Это человечий детеныш? — спросила Мать
Волчица. — Я никогда не видела их. Дай-ка его сюда.Волк, привыкший переносить собственных
детенышей, в случае необходимости может взять
в рот яйцо, не разбив его, а потому, хотя челюсти
зверя схватили ребенка за спинку, ни один зуб не
оцарапал кожи. Отец Волк осторожно положил
его между своими детенышами.— Какой маленький! Совсем голенький! И какой
смелый, — мягко сказала Мать Волчица. Ребенок
растаскивал волчат, чтобы подобраться поближе
к ее теплой шкуре. — Ай, да он кормится вместе
с остальными! Вот это человечий детеныш! Ну-ка,
скажи, была ли когда-нибудь в мире волчица, которая могла похвастаться тем, что между ее волчатами живет детеныш человека?— Я слышал, что такие вещи случались время
от времени, только не в нашей стае и не в наши
дни, — ответил Отец Волк. — На нем совсем нет
шерсти, и я мог бы убить его одним прикосновением лапы. Но взгляни: он смотрит и не боится».Тут в пещеру пробует протиснуться тигр Шер
Хан, который требует свою добычу. «Клянусь убитым мною Быком, должен ли я стоять, сунув нос
в вашу собачью конуру, ради того, что принадлежит мне по праву. Это говорю я, Шер Хан.Рев тигра наполнил пещеру громовыми раскатами. Мать Волчица стряхнула с себя детенышей
и кинулась вперед; ее глаза, блестевшие в темноте, как две зеленые луны, глядели прямо в пылающие глаза Шер Хана.— Говоришь ты, а отвечаю я, Ракша (Демон).
Человечий детеныш — мой, Лунгри! Да, мой. Он
не будет убит. Он будет жить, бегать вместе со
Стаей, охотиться со Стаей и, в конце концов,
убьет тебя, преследователь маленьких голых детенышей, поедатель лягушек и убийца рыб! И он
будет охотиться на тебя! А теперь убирайся или,
клянусь убитым мною Самбхуром (я не ем умирающего от голода скота), ты, паленое животное,
отправишься к своей матери, хромая хуже, чем
в день своего рождения! Уходи!Отец Волк посмотрел на нее с изумлением. Он
почти позабыл те дни, когда завоевал Мать Волчицу в честном бою с пятью другими волками;
тогда она бегала в Стае, и ее называли Демоном
не из одной любезности…»И Шер Хан со страшным ворчанием отступил,
детеныш остался у волков с четырьмя их волчатами, и вскоре Стая принимает его в свои ряды…Кто-то читал про Маугли в большом сокращении — для совсем маленьких. Кто-то видел мультфильм. Но я советую взять в руки «Книгу Джунглей» и «Вторую Книгу Джунглей» и прочесть
наконец все подряд. Сплошные столкновения
воль и решимостей, силы и хитрости. Лучше
любого телебоевика.
2
Детство английского писателя Редьярда Киплинга было довольно тяжелым. В то время Британия была империей — то есть владела пространствами, весьма удаленными от своих границ: недаром подчеркивалось, что над Британской империей никогда не заходит солнце…
А самолетов еще не было. И если британцам,
работающим в Индии, надо было отослать детей
на время на родину — то это были месяцы плавания
и, возможно, годы разлуки. Увы, за все на свете
надо платить, в том числе и за владение колониями.Несколько счастливых лет маленький Киплинг
провел в Индии с родителями. Все знают, что
такое наши самые ранние впечатления — они навсегда остаются самыми яркими. А потом его
с сестрой отправили «на воспитание» к дальним
родственникам. А в какой ад могли в старой доброй Англии превратить — из лучших, разумеется,
чувств, — процесс воспитания, об этом читайте
у Диккенса, хотя бы в романе «Домби и сын»
(надеюсь, мы к нему как-нибудь обратимся). Но
и Киплинг высказался об этом с достаточно едкой
определенностью — в автобиографическом рассказе «Мэ-э, паршивая отца…», который кончается приездом матери, но измученный издевательствами тетки и своего кузена — ее сына, бедный
Панч (он же Паршивая Овца) не сразу оттаивает…Забавный рассказ «Поправка Тодса» рассказывает о шестилетнем англичанине Тодсе, который
живет в Индии и свободно не только говорит, но
и думает на местном наречии — а при разговоре
мысленно переводит на английский язык, «как
делают многие дети из английских семей, живущих в Индии» (и сам Киплинг, живший в детстве
на попечении слуг-индийцев и заговоривший сначала на хинди, а только потом — на английском).Наслушавшись на базаре, как обсуждается
новый билль (закон) об аренде земли, шестилетний Тодс смело вмешивается в разговор гостей —
правительственных чиновников. И обстоятельно
пересказывает мнение своих старших друзей-индусов — они считают глупым каждые пять лет
подтверждать свое решение арендовать эту
землю: нужно делать это каждые пятнадцать лет.
«Через пятнадцать лет мой сын станет мужчиной,
а я уже буду в пепел превращен; мой сын возьмет
себе землю… а потом и у него сын родится и через
пятнадцать лет тоже станет мужчиной. Зачем
каждые пять лет писать бумаги?» …Тут Тодс заметил, что гости слушают его, и замолчал.…— Тодс! Отправляйся спать! — сказал ему отец.
Тодс подобрал полы халата и ушел.
А советник хлопнул ладонью по столу.
— Черт побери! — сказал он. — Мальчонка прав.
Короткий срок аренды — слабое место всего проекта.Он скоро ушел, обдумывая слова Тодса.
…По базарам же скоро разнеслась весть, что это
Тодс поднял вопрос о пересмотре сроков аренды по
новому биллю. Если бы мама Тодса не вмешалась, он
ужасно объелся бы фруктами, фисташковыми орехами, кабульским виноградом и миндалем, потому
что веранда его дома вдруг оказалась заставлена
корзинами, полными всех этих лакомств«.Может быть, кому-то это покажется странным —
такой разумный и инициативный мальчик в столь раннем возрасте. Сам Киплинг ничего странного
в этом не видел — первый сборник его стихов под
названием «Школьная лирика» вышел в свет, когда
автору было шестнадцать лет. (Есть и такие, которые в эти годы, как всем хорошо известно, ни
о какой серьезной деятельности и не задумываются — только развлекаются.) И когда Киплинг
пишет про выросшего Маугли — он явно вспоминает себя и свои мечты в этом возрасте: «На второй
год после великого боя с деканским Рыжим Псом
и смерти Акелы Маугли должно было исполниться
семнадцать лет. Но он казался старше, так как
много двигался, хорошо ел и, едва почувствовав
себя разгоряченным или запыленным, тотчас же
купался; благодаря всему этому он стал сильнее
и выше, чем обыкновенные юноши его возраста.
Когда он осматривал древесные дороги, он мог
полчаса висеть на высокой ветке, держась за нее
одной рукой; мог на бегу остановить молодого
оленя и, схватив его за голову, откинуть прочь; мог
даже сбить с ног крупного синеватого кабана из
Северных Болот».Внутри «Книги Джунглей» вы обнаружите и знаменитый рассказ «Рикки-Тикки-Тави» — рассказ
о мужестве и верности. Речь не о людях — о маленьком зверьке мангусте, который не знает страха
и бросается в бой с любой змеей, в том числе со
смертельно ядовитой коброй. Люди выловили захлебнувшегося было зверька из канавы, обсушили и привели в чувство — и он стал верен семье
и в первую очередь маленькому Тедди.На веранде «за ранним завтраком сидели Тедди,
его отец и мать. Но Рикки-Тикки сразу увидел, что
они ничего не едят. Они не двигались, окаменев,
и лица их побелели. На циновке возле стула Тедди
лежала свернувшаяся Нагайна, и ее голова была на
таком расстоянии, что она в любую секунду могла
укусить голую ножку мальчика. Кобра покачивалась вперед и назад, распевая торжественную
песню.— Сын большого человека, убившего Нага, —
шипела она, — не двигайся! Я еще не готова. Погоди немножко. Не двигайтесь, все вы трое. Если вы
пошевелитесь, я ударю, если вы не пошевелитесь,
я тоже ударю. О глупые люди, которые убили
моего Нага!Тедди не сводил глаз с отца, а его отец мог только шептать:
— Сиди неподвижно, Тедди. Ты не должен шевелиться. Тедди, не шевелись.
Рикки-Тикки поднялся на веранду и воскликнул:
— Повернись, Нагайна, повернись и начни бой».
И вскоре начинается бой крохотного зверька
с огромной по сравнению с ним коброй — бой,
о котором, надеюсь, вы прочтете сами.
3
Те, кто постарше, должны обязательно прочитать совсем другие — трагические — рассказы о колониальном мире конца ХIХ — начала ХХ века.
Тут надо помнить поэтическую формулировку,
которую Киплинг ввел в мировой культурный оборот, — неважно, верна эта формулировка или нет,
но все используют ее уже почти век:О, Запад есть Запад, Восток есть Восток,
и с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей
на Страшный Господень суд.
И один из самых трагических его рассказов
о любви с многозначительным названием «За чертой» начинается словами, которые сразу покажут
нам, как далек сегодняшний мир от тогдашнего, где,
скажем так, расстояние между Западом и Востоком
было много длиннее сегодняшнего. Не забудем еще,
что речь — об Индии, где люди от рождения делились на касты, и члены самой низшей касты — неприкасаемых — не только не должны были дотрагиваться до людей другой касты, но даже тень от них
оскверняла человека, на которого случайно падала…Вот как начинается этот при всем при том
замечательный рассказ: «При всех обстоятельствах человек должен держаться своей касты,
своей расы и своего племени. Пусть белый прилепится к белому, а черный к черному. …Вот история человека, который ступил за надежные пределы добропорядочности и тяжко за это поплатился». И сегодня, конечно, отличия между Западом и Востоком порою очень и очень велики. Но
все же границы совсем не таковы, как обозначены они Киплингом. И во всех городах мира
можно встретить чернокожую красавицу рядом
с совершенно белым джентльменом — и на лицах
обоих будет написано счастье.Не так было в Индии времени Киплинга. В рассказе описан тайный роман англичанина с пятнадцатилетней вдовой (!) Бизезой, страстно его
полюбившей. И вот она узнает, что возлюбленный встречается с англичанкой — и обвиняет «его
в неверности. Никаких полутонов для нее не
существовало, и говорила она напрямик. Триджего смеялся, а Бизеза топала ножкой, нежной, как
цветок бархатца, и такой маленькой, что она умещалась в мужской ладони». Она требовала, чтоб
он немедленно порвал с «чужой мем-сахиб». А он
объяснял ей, «что она не понимает точки зрения
людей с Запада на такие вещи. Бизеза выпрямилась и тихо сказала:— Не понимаю. И знаю только одно — для меня
худо, что ты, сахиб, стал мне дороже моего собственного сердца. Ты ведь англичанин, а я просто
чернокожая девушка. — Кожа ее была светлее
золотого слитка на монетном дворе. — И вдова
чернокожего мужчины. — Потом, зарыдав, добавила: — Но клянусь своей душой и душой моей
матери, я тебя люблю. И что бы ни случилось со
мной, тебя зло не коснется».А что случилось с ней — вы прочтете сами.
Обидно будет не прочесть именно в юности — об
этом, а также и о сильных человеческих чувствах,
с подлинным художественным блеском описанных в рассказах «Бабья Погибель», «Миссис
Батерст», да и в других.Об авторе
Знаменитый историк литературы ХХ века, известный знаток творчества Михаила Булгакова, а также автор увлекательного
детектива для подростков «Дела и ужасы Жени Осинкиной» рассказывает о книгах, которые во что бы то ни стало надо прочесть именно до 16 лет — ни в коем случае не позже! Читатели полюбили ее «Полки», на которых выставлены лучшие книги мировой литературы. И теперь три «Полки» составили один том.
Светлана Алексиевич. Время секонд хэнд
- Светлана Алексиевич. Время секонд хэнд. Голоса Утопии. — М.: Время, 2013.
Из уличного шума и разговоров
На кухне (1991–2001)
Про то, как пришла любовь, а под окнами танки
«Я была влюблена, ни о чем другом не могла больше думать. Жила исключительно этим. И вот мама утром будит: „Танки под окнами! Кажется, переворот!“. Я сквозь
сон: „Мама, это учения“. Фиг вам! Под окнами стояли
настоящие танки, я никогда не видела танки так близко. По телевизору шел балет „Лебединое озеро“… Прибежала мамина подруга, она очень волновалась, что
задолжала партийные взносы за несколько месяцев. Говорила, что у них в школе стоял бюст Ленина, она его
вынесла в подсобку, а теперь — что с ним делать? Все
сразу стало на свои места: этого нельзя и того нельзя.
Диктор зачитывала Заявление о введение чрезвычайного положения… Мамина подруга при каждом слове
вздрагивала: „Боже мой! Боже мой!“ Отец плевался в телевизор…Позвонила Олегу… „Едем к Белому дому?“ — „Едем!“
Приколола значок с Горбачевым. Нарезала бутербродов.
В метро люди были неразговорчивые, все ждали беды.
Всюду танки… танки… На броне сидели не убийцы,
а испуганные пацаны с виноватыми лицами. Старушки
кормили их вареными яйцами и блинами. На душе стало
легче, когда возле Белого дома я увидела десятки тысяч
людей! Настроение у всех великолепное. Ощущение, что
мы все можем. Скандировали: „Ельцин, Ельцин! Ельцин!“. Уже формировались отряды самообороны. Записывали только молодых, а пожилым отказывали, и они были недовольны. Какой-то старик возмущался: „У меня коммунисты жизнь украли! Дайте хотя бы умереть красиво!“ — „Папаша, отойдите…“ Сейчас говорят, что мы хотели защитить капитализм… Неправда! Я защищала социализм, но ка кой-то другой… не советский… И я его защитила! Я так думала. Мы все так думали… Через три дня танки уходили из Москвы, это уже были добрые танки. Победа! И мы целовались, целовались…»Сижу на кухне у моих московских знакомых. Тут собралась большая компания: друзья, родственники из провинции. Вспомнили, что завтра очередная годовщина
августовского путча.— Завтра — праздник…
— А что праздновать-то? Трагедия. Народ проиграл.
— Под музыку Чайковского совдепию похоронили…
— Первое, что я сделала, взяла деньги и побежала
в магазины. Знала, чем бы оно ни кончилось, а цены вырастут.— Обрадовался: Горби уберут! Надоел уже этот болтун.
— Революция была декоративная. Спектакль для народа. Помню полное безразличие, с кем не заговоришь.Выжидали.
— А я позвонил на работу — и пошел делать революцию. Выгреб из буфета все ножи, которые были дома. Понимал, что война… нужно оружие…
— Я был за коммунизм! У нас в семье — все коммунисты. Вместо колыбельных мама пела нам революционные песни. И внукам сейчас поет. «Ты что, с ума сошла?» — Говорю. А она: «Я других песен не знаю». И дед был большевик… и бабка…
— Вы еще скажите, что коммунизм — красивая сказочка. У моего отца родители исчезли в лагерях Мордовии.
— Я пошел к Белому дому вместе с родителями. Папа сказал: «Пойдем. А то колбасы и хороших книг не будет никогда». Разбирали брусчатку и строили баррикады.— Сейчас народ протрезвел, и отношение к коммунистам меняется. Можно не скрывать… Я работал в райкоме комсомола. В первый день все комсомольские билеты, чистые бланки и значки забрал домой и спрятал
в подвале, потом картошку некуда было складывать.
Я не знал, зачем они мне нужны, но представил, как
придут отпечатывать и все это уничтожать, а это были
дорогие для меня символы.— Мы могли пойти убивать друг друга… Бог спас!
— Наша дочь лежала в роддоме. Я пришла к ней,
а она: «Мам, революция будет? Гражданская война начнется?».— Ну а я окончил военное училище. Служил в Москве. Дали бы нам приказ кого-то арестовать, то, без
всяких сомнений, мы бы этот приказ выполнили. Многие бы выполнили его с усердием. Надоела неразбериха
в стране. Все раньше было четко и ясно, все по предписанию. Был порядок. Военные любят так жить. Вообще
люди любят так жить.— Я боюсь свободы, придет пьяный мужик и спалит
дачу.— Какие, братцы, идеи? Жизнь коротка. Давайте выпьем!
19 августа 2001 года — десятилетний юбилей августовского путча. Я в Иркутске — столице Сибири. Беру несколько блиц-интервью на улицах города.
Вопрос:
— Что было бы, если бы ГКЧП победил?
Ответы:
— Сохранили бы великую страну…
— Посмотрите на Китай, где коммунисты у власти. Китай стал второй экономикой в мире…
— Горбачева и Ельцина судили бы как изменников Родины.
— Залили бы страну кровью… И забили бы людьми
концлагеря.— Не предали бы социализм. Не разделились бы на богатых и бедных.
— Не было бы никакой войны в Чечне.
— Никто не смел бы говорить, что Гитлера победили американцы.
— Я сам стоял у Белого дома. И у меня чувство, что
меня обманули.— Что было бы, если бы путч победил? А он и победил! Памятник Дзержинскому свергли, а Лубянка осталась. Строим капитализм под руководством КГБ.
— Моя жизнь не изменилась бы…
Про то, как вещи
уравнялись с идеями и словами«Мир рассыпался на десятки разноцветных кусочков.
Как нам хотелось, чтобы серые советские будни скорее
превратились в сладкие картинки из американского
кино! О том, как мы стояли у Белого дома, уже мало кто
вспоминал… Те три дня потрясли мир, но не потрясли
нас… Две тысячи человек митингуют, а остальные едут
мимо и смотрят на них как на идиотов. Много пили,
у нас всегда много пьют, но тогда особенно много пили.
Общество замерло: куда двинемся? То ли будет капитализм, то ли будет хороший социализм? Капиталисты
жирные, страшные — это нам внушили с детства… (Смеется.)Страна покрылась банками и торговыми палатками. Появились совсем другие вещи. Не топорные сапоги и старушечьи платья, а вещи, о которых мы всегда мечтали: джинсы, дубленки… женское белье и хорошая посуда… Все цветное, красивое. Наши советские вещи были серые, аскетичные, они были похожи на военные. Библиотеки и театры опустели. Их заменили базары и коммерческие магазины. Все захотели быть счастливыми, получить счастье сейчас. Как дети, открывали для себя новый мир… Перестали падать в обморок
в супермаркете… Знакомый парень занялся бизнесом.
Рассказывал мне: первый раз привез тысячу банок растворимого кофе — расхватали за пару дней, купил сто
пылесосов — тоже в момент размели. Куртки, свитера,
всякая мелочь — только давай! Все переодевались, переобувались. Меняли технику и мебель. Ремонтировали
дачи… Захотели делать красивые заборчики и крыши…
Начнем иногда с друзьями вспоминать, так со смеху
умираем… Дикари! Совершенно нищие были люди. Всему надо было учиться… В советское время разрешалось
иметь много книг, но не дорогую машину и дом. И мы
учились хорошо одеваться, вкусно готовить, утром пить
сок и йогурт… Я до этого презирала деньги, потому что
не знала, что это такое. В нашей семье нельзя было говорить о деньгах. Стыдно. Мы выросли в стране, в которой
деньги, можно сказать, отсутствовали. Я, как все, получала свои сто двадцать рублей — и мне хватало. Деньги
пришли с перестройкой. С Гайдаром. Настоящие деньги. Вместо «Наше будущее — коммунизм» всюду висели
растяжки «Покупайте! Покупайте!» Хочешь — путешествуй. Можешь увидеть Париж… Или Испанию… Фиеста… бой быков… Я об этом читала у Хемингуэя, читала и понимала, что никогда этого не увижу. Книги были вместо жизни… Так кончились наши ночные бдения
на кухнях и начались заработки, приработки. Деньги
стали синонимом свободы. Это волновало всех. Самые
сильные и агрессивные занялись бизнесом. О Ленине
и Сталине забыли. Так мы спаслись от гражданской войны, а то опять бы были «белые» и «красные». «Наши» —
«не наши». Вместо крови — вещи… Жизнь! Выбрали
красивую жизнь. Никто не хотел красиво умирать, все
хотели красиво жить. Другое дело, что пряников на всех
не хватило…»«Советское время… У Слова был священный, магический статус. И по инерции на интеллигентских кухнях еще говорили о Пастернаке, варили суп, не выпуская
из рук Астафьева и Быкова, но жизнь все время доказывала, что это уже неважно. Слова ничего не значат. В девяносто первом… Мы положили нашу маму в больницу с тяжелой пневмонией, и она вернулась оттуда героиней, у нее рот там не закрывался. Рассказывала о Сталине, об убийстве Кирова, о Бухарине… Ее готовы были слушать день и ночь. Люди тогда хотели, чтобы им
открыли глаза. А недавно она снова попала в больницу, и сколько там была, столько молчала. Лет пять прошло всего-то, и реальность уже распределила роли иначе. Героиней на этот раз была жена крупного бизнесмена… Онемели все от ее рассказов… Какой у нее дом — триста квадратных метров! Сколько прислуги: кухарка, нянька, водитель, садовник… Отдыхать с мужем ездят в Европу… Музеи — понятно, а бутики… Бутики! Одно кольцо столько-то карат, а другое… А подвески… золотые клипсы… Полный аншлаг! О ГУЛАГе или о чем-то таком ни слова. Ну было и было. Что теперь спорить со стариками?Я заходила по привычке в букинистический — там
спокойно стояли все двести томов «Всемирки» и «Библиотека приключений», та самая — оранжевая, которой я бредила. Смотрела на корешки и долго вдыхала
этот запах. Лежали горы книг! Интеллигенты распродавали свои библиотеки. Публика, конечно, обеднела, но не из-за этого книги выносили из дома, не только из-за денег — книги разочаровали. Полное разочарование. Стало уже неприлично задавать вопрос: «А что ты сейчас читаешь?» В жизни слишком многое изменилось, а в книгах этого нет. Русские романы не учат, как добиться успеха в жизни. Как стать богатым… Обломов лежит на диване, а герои Чехова все время пьют
чай и жалуются на жизнь… (Молчит.) Не дай бог жить в эпоху перемен — говорят китайцы. Мало кто из нас сохранился таким, каким был. Куда-то исчезли приличные люди. Всюду локти и зубы…» «Если о девяностых… Я бы не сказал, что это было красивое время, оно было отвратительное. Произошел переворот в умах на сто восемьдесят градусов… Кто-то не выдержал и сошел с ума, больницы для душевнобольных были переполнены. Я навещал там своего друга: один кричит: «Я — Сталин! Я — Сталин!», а другой: «Я — Березовский! Я — Березовский». Их целое отделение —
сталиных и березовских. На улицах все время стреляли. Убили огромное количество людей. Каждый день шли разборки. Урвать. Успеть. Пока другие не успели. Кого-то разорили, кого-то посадили. С трона — в подвал. А с другой стороны, кайф — все происходит на твоих глазах…В банках стояли очереди людей, желающих начать свое дело: открыть булочную, продавать электронику… Я тоже был в этой очереди. И меня удивило, как нас много. Какая-то тетка в вязаном берете, мальчик в спортивной курточке, здоровенный мужик, смахивающий на зэка… Семьдесят с лишним лет учили: не в деньгах счастье, все лучшее в жизни человек получает бесплатно. Любовь, например. Но стоило с трибуны произнести: торгуйте, богатейте — всё забыли. Все советские книжки забыли. Эти люди совсем не были похожи на тех, с кем я сидел до утра и бренчал на гитаре. Три аккорда с грехом пополам я выучил. Единственное, что их объединяло с «кухонными» людьми, так это то, что им тоже надоели кумачовые флаги и вся эта мишура: комсомольские собрания, политзанятия… Социализм считал человека глупеньким…
Я очень хорошо знаю, что такое мечта. Все детство я просил купить мне велосипед, и мне его не купили. Бедно жили. В школе я фарцевал джинсами, в институте — советской военной формой плюс символикой разной. Иностранцы покупали. Обычная фарца. В советское время за это сажали на срок от трех до пяти лет. Отец бегал за мной с ремнем и кричал: «Спекулянт! Я под Москвой кровь проливал, а вырастил такое говнецо!».
Вчера преступление, сегодня — бизнес. В одном месте купил гвозди, в другом набойки — упаковал в полиэтиленовый мешок и продал как новый товар. Принес домой деньги. Накупил всего, полный холодильник. Родители ждали, что за мной придут и арестуют. (Хохочет.) Торговал бытовой техникой. Скороварками, пароварками… Пригонял из Германии машину с прицепом этого добра. Все шло валом… У меня в кабинете стояла коробка из-под компьютера, полная денег, я только так понимал, что это деньги. Берешь, берешь из этой коробки, а там все не кончается. Уже вроде все
купил: тачку, квартиру… часы «Ролекс»… Помню это опьянение… Ты можешь исполнить все свои желания, тайные фантазии. Я много узнал о себе: во-первых, что у меня нет вкуса, а во-вторых, что я закомплексован. Не умею с деньгами обращаться. Я не знал, что большие деньги должны работать, они не могут лежать. Деньги — такое же испытание для человека, как власть, как любовь… Мечтал… И я поехал в Монако. В казино Монте-Карло проиграл огромные деньги,
очень много. Меня несло… Я был рабом своей коробки. Есть там деньги или нет? Сколько их? Их должно быть больше и больше. Меня перестало интересовать то, что интересовало раньше. Политика… митинги… Умер Сахаров. Я пошел с ним попрощаться. Сотни тысяч людей… Все плакали, и я плакал. А тут недавно читаю о нем в газете: «Умер великий юродивый России». И я подумал, что он вовремя умер. Вернулся из Америки Солженицын, все бросились в нему. Но он не понимал нас, а мы его. Иностранец. Он приехал в Россию, а за окном Чикаго…Кем бы я был, если бы не перестройка? ИТР с жалкой зарплатой… (Смеется.) А сейчас у меня своя глазная клиника. Несколько сотен человек зависят от меня со своими семьями, дедушками, бабушками. Вы копаетесь в себе, рефлектируете, а у меня этой проблемы нет. Я работаю день и ночь. Закупил новейшее оборудование, отправил хирургов во Францию на стажировку. Но я не
альтруист, я хорошо зарабатываю. Всего добился сам…
У меня было только триста долларов в кармане… Начинал бизнес с парт нерами, от которых вы бы в обморок упали, если бы они сейчас зашли в комнату. Гориллы! Лютый взгляд! Теперь их уже нет, они исчезли, как динозавры. Ходил в бронежилете, в меня стреляли. Если
кто-то ест колбасу хуже, чем я, меня это не интересует. Вы же все хотели, чтобы был капитализм. Мечтали! Не кричите, что вас обманули…»О книге
Завершающая, пятая книга знаменитого художественно-документального цикла Светланы Алексиевич «Голоса Утопии». «У коммунизма был безумный план, — рассказывает автор, — переделать „старого“ человека, ветхого Адама. И это получилось… Может быть, единственное, что получилось. За семьдесят с лишним лет в лаборатории марксизма-ленинизма вывели отдельный человеческий тип — homo soveticus. Одни считают, что это трагический персонаж, другие называют его „совком“. Мне кажется, я знаю этого человека, он мне хорошо знаком, я рядом с ним, бок о бок прожила много лет. Он — это я. Это мои знакомые, друзья, родители».
Монологи, вошедшие в книгу, десять лет записывались в поездках по всему бывшему Советскому Союзу.
Об авторе
Светлана Алексиевич — один из самых известных в мире русскоязычных авторов, лауреат двух десятков престижнейших международных премий, в том числе — Премии мира союза немецких издателей и книготорговцев (2013). Книги Светланы Алексеевич переведены на 35 языков, по ним снято 24 фильма, два из которых номинированы на «Оскар», поставлены спектакли и пишутся научные исследования. Новая ее книга, открывающая собрание в пяти томах, вышла одновременно на трех языках во Франции, Германии и Швеции и немедленно собрала сотни отзывов в европейских СМИ.
Евгений Анисимов. Письмо турецкому султану. Образы России глазами историка
В издательстве «Арка» выходит книга профессора, ведущего научного сотрудника Санкт-Петербургского Института истории РАН Евгения Анисимова «Письмо турецкому султану. Образы России глазами историка».
Острый взгляд знатока — известного ученого, педагога и блестящего рассказчика Евгения Викторовича Анисимова, автора множества книг — направлен на этот раз в сторону исторической живописи. Рассматривая как знаменитые, так и менее известные живописные полотна этого жанра: работы И. Репина, В. Сурикова, Н. Рериха, В. Перова, М. Авилова и других, автор погружает читателя в исторический контекст, вскрывает подоплеку событий отечественной истории. При этом он отнюдь не сталкивает историческую правду с художественной, а позволяет читателю увидеть, чем они отличаются и как создаются образы нашей исторической памяти. Автор так увлеченно и увлекательно рассказывает о деталях быта XVI века, костюмах XVIII, древнерусских «гостях», тактике ведения боя в ХХ веке и многом другом, что «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой» уже никому, даже школьнику, не покажутся скучными, покрытыми музейной пылью.
Одна из самых неоднозначных личностей российской истории — Иван Грозный, первый русский царь. Будучи талантливым государственным деятелем, мудрым реформатором, он прослыл также кровавым тираном, подвергавшим русский народ чудовищным репрессиям. Жертвой жестокости царя стал и его сын, наследник престола. Иван Грозный выступил персонажем многих художественных произведений разных жанров. Не обошел этот сюжет вниманием и русский художник Илья Репин, автор картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
Историей создания этого полотна, наряду с описанием подробностей появления других произведений искусства, поделился в своей книге профессор Евгений Анисимов.
Илья Репин
Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года
1885
«Тело изнемогло, болезнует дух, — писал Иван Грозный в завещании 1584 года, — струпы душевные и телесные умножились, и нет врача, который бы меня исцелил». Не было греха, который бы в последние годы своей жизни не совершил царь. На его совести были тысячи и тысячи жизней невинных людей, многих из которых он убил собственными руками. Одной из жертв царя стал и его старший сын Иван. Что же произошло? Существует несколько версий причин конфликта в семье, закончившегося смертью наследника престола. Так, псковский летописец свидетельствовал, что царь «сына своего царевича Ивана того ради осном (посохом с железным наконечником. — Е. А.) поколол, что ему учал говорите о выручении града Пскова», осажденного поляками. Но ближе всего к истине рассказ побывавшего в Москве и хорошо информированного иностранца Антонио Поссевино. По его словам, как-то царь вошел в палату дворца, что в Александровской слободе (тогдашней опричной столицы Ивана), и застал там беременную жену царевича в одной нижней рубахе. Рассердившись на сноху за столь неприличный вид, царь стал избивать ее посохом. Вбежавший в покои царевич заступился за жену и начал выговаривать отцу, что тот уже лишил его двух жен, заточив их против желания сына в монастырь, «и вот теперь избиваешь третью, чтобы погубить сына, которого она носит в чреве». Тут-то царя и обуяла ярость, и он ударил сына посохом.
Вообще-то, ссора отца и сына была неожиданной — до тех пор царевич Иван как будто не имел своего лица, покорно терпел от отца побои и беспрекословно выполнял царскую волю, послушно, как тень, сопровождал отца в военных походах и на богомольях, на приемах послов и на публичных казнях. Рассказывали, что как-то раз Грозный, решивший перебить взятых его армией польских пленных, сам ударил копьем одного шляхтича. Когда же тот попытался вырвать оружие из рук тирана, Иван позвал сына, который тотчас добил пленного. Возможно, к моменту ссоры чаша терпения прежде покорного Ивана Ивановича переполнилась — нужно учитывать, что он женился на пригожей Елене Шереметевой как раз в начале 1581 года и в момент ссоры (кстати, не 16, а 9 ноября) ожидал рождения сына. Нет сомнений, что Грозный не хотел убивать наследника, но удар посохом пришелся в висок, и рана оказалась смертельной. Царевич, однако, умер не сразу. Известно, что на третий день после ссоры царь из слободы написал боярам, что не может приехать в Москву из-за болезни сына. В Александровскую слободу срочно выехал дядя наследника Никита Романов (Иван был сыном первой жены царя Анастасии Романовой) с врачами и лекарствами, но они оказались бессильны: царевич, узнав к тому же, что у жены случился выкидыш, 19 ноября умер. Грозный был страшно потрясен смертью наследника. Он не мог спать, терзаемый угрызениями совести, издавал тяжкие стоны. Потом царь отправился в Троице-Сергиев монастырь, там просил старцев устроить ежедневное поминовение сына «во веки и на веки, докуды обитель сия святая стоит», сам при этом «плакал и рыдал»…
Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» произвела сенсацию в русском обществе. Когда в феврале 1885 года в Петербурге открылась очередная выставка передвижников, тысячи людей устремились к дому княгини Юсуповой, чтобы увидеть выставленный там шедевр. Так 20 лет назад толпы людей замирали в изумлении перед полотном Карла Брюллова «Последний день Помпеи».
Теперь трудно сказать, что вдохновило художника. Много лет спустя он утверждал, что картина стала его ответом на убийство 1 марта 1881 года Александра II и казнь его убийц, что взяться за кисть его побудила эмоциональная музыка Н. А. Римского-Корсакова. В другой раз он признался, что во время поездки за границу видел так много крови — и на корридах Испании, и на картинах в музеях, — что кровь эта не давала покоя его воображению и заставила искать сюжет, который и обнаружился в истории.
Действительно, обильно пролившаяся кровь написана художником мастерски — недаром, согласно легенде, он писал ее с натуры, притащив в мастерскую сына Юрия, разбившего случайно (и кстати!) голову в саду. Как всегда, Репин работал над картиной долго. Он изучал предметы быта эпохи Ивана Грозного в музеях Москвы, сам разработал и сшил костюм царевича. Много раз переделывал он и композицию картины, расположение фигур, в конце концов оставив в центре полотна, на красном ковре, только отца и сына и поместив в тень все второстепенные детали картины. Самым сложным оказался образ царя — несколько человек позировали Репину, пока не возник столь запоминающийся, жуткий образ обезумевшего от горя сыноубийцы.
С царевичем было проще — Репин писал его с В. М. Гаршина, человека болезненного и психически неуравновешенного. Вскоре тот покончил с собой, бросившись в лестничный пролет.
Эмоциональное воздействие картины на зрителей было необыкновенным. Ею восторгались и Лев Толстой, и многие художники, и критики, и простые люди. Творение Репина современники, в отличие от нас, воспринимали не как произведение исторической живописи, а как созвучную всякой эпохе притчу на тему «Не убий!». Игорь Грабарь позже писал, что «успех пришел к Репину именно потому, что он создал не историческую быль, а страшную современную быль о безвинно пролитой крови».
Кажется, именно эта кровь, сцена смерти магнетически влекли к себе зрителей. За несколько лет до выставки толпы зрителей так же валили на Семеновский плац, где казнили убийц Александра II. В итоге выставленное полотно стало, как тогда говорили, «скандалиозным», и влиятельнейший в империи человек, обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев, добился, чтобы купивший картину для своей коллекции П. М. Третьяков убрал ее в запасники. Когда же картину выставили вновь, она продолжала потрясать зрителей. В 1913 году один из посетителей Третьяковки, старообрядец-иконописец Авраам Балашов, набросился на картину, выхватил из-за голенища нож и с криком «Довольно крови!» трижды ударил по полотну в том месте, где изображены головы Ивана Грозного и царевича. Вызванный в Москву Репин занялся реставрацией, но, видно, так увлекся непривычным для истинного творца делом, что заново переписал головы персонажей. Говорят, что новая редакция картины очень не понравилась И. Э. Грабарю, тогдашнему директору Третьяковки, и, как только Репин уехал, Грабарь ничтоже сумняшеся стер еще не высохшую краску, заполнил краской утраченные от удара ножа места и вернул картине первоначальный, столь памятный всем вид.
Ныне картина висит в Третьяковской галерее под надежным стеклом. Прежних безумных страстей в наш «железный век» она не вызывает — кровь ежедневно и обильно льется на кино- и телеэкранах и… ничего.
Сергей Шаргунов. 1993. Семейный портрет на фоне горящего дома
Двадцать восьмого сентября Виктор отправился в Москву. Похолодало, до станции он шел мимо скорбных деревьев, изо всех сил дрожавших, пытаясь отряхнуть бледный пушок, — всё-таки север Подмосковья.
Днем поползли туннелем под Пушкинской площадью, лопнула трубища под книжным магазином — пришлось тащить на себе газовые баллоны и электросварочный аппарат; потом, не заходя в аварийку, сунулись по соседству в Козицкий переулок в подвал дома, где сочилась прогнившая узкая труба; Кувалда всадил щепу и готово. После пяти вечера появилось еще дело — течь в ЦТП на Каретном Ряду.
Только вечером, уже часов в восемь, Виктор, оставив спецовку в шкафу, на этот раз не отпрашиваясь, вышел на улицу и поспешил к метро. «Я быстро, — думал он, — быстро, быстро я… Никто не хватится, а хватятся — отработаю».
На выходе из «Краснопресненской» его оглушили крики и грохот и в оборот взяли два мента в фуражках: один вдарил в плечо, другой заскочил спереди, бешено крикнув: «П..дуй отсюда!» Рядом, пихая с боков, менты тащили куда-то во мрак старика со старухой. Справа шеренга в касках ритмично колотила дубинками по стальным щитам, слева кричали и свистели из толпы…
Он протиснулся между парнем в кожанке с красным пожарным багром и пожилым дядькой в широкополой фетровой шляпе, с черенком от лопаты и разбитым, в запекшейся крови носом. Люди на переднем крае держали кто что: палки и железяки, древки, обмотанные флагами. Дружный хор затягивал распевные кричалки.
— ОМОН, иди домой! — услышал Виктор и, охваченный тоской, выкинув кулак, вглядываясь в тучу, грохотавшую резиной о железо и наползавшую всё ближе, подхватил так громко, как мог:
— ОМОН! Иди домой!
Он отступил в ряды кричавших, потому что был вооружен только кулаками, но те, кто старался вырваться на передовую, локтями затолкали его совсем назад, туда, где возбужденно и зло жужжали голоса:
— Сволочи!
— Весь день били и гоняли!
— Бьют и бьют!
— У меня рука в синяках кровавых!
— Главное, целят в голову!
— Дубинка-то пружинит. Бьет два раза.
— Как два раза?
— Раз, и еще…
— Мужчине щитом лицо порезали…
— «Черемухой» травили…
— Ребят-комсомольцев в зоопарк загнали…
— Он не на ремонте?
— Там половина работает.
— Надо было клетку открыть и на этих скотов тигров выпустить!
— Или медведя белого!
— Во-во! Звери пьяных не любят, а от этих водкой воняет.
— Зверей на зверей!
— Водку «Кубань» жрут, им утром ящики завезли, товарищ видел.
— Ничего, Белый дом им покажет…
— Как медведь!
— Белый медведь!
— Белый дом в Америке, а у нас — Дом Советов.
— Надо же, депутатов за колючку… Она во всем мире запрещена. Алкснис сегодня объяснял: спираль Бруно называется. Наступишь на нее, закрутит всего, только автогеном вырезать.
— Свердловский ОМОН — главная скотина.
— Еще из Омска и из Нижнего…
— Полицаи! Лежачих бьют, зеленые гребут!
— Шесть долларов за час!
— Кому служат? Разве это власть? Жулики и воры!
— Проханов так и пишет: ВОР. Временный оккупационный режим.
— Все вклады украли! У меня на счету дача лежала…
— Изобилие… Гайдару бы мою пенсию, быстро похудеет.
— Порвать бы колючку ихнюю к херам…
— Какое? Близко не пускают.
— Хотят штурмовать.
— Пусть только сунутся. Их там угандошат.
— Сам бы стрелял!
Последние слова сказал Виктор — низким ненавидящим голосом.
Он ненавидел себя за страх, но еще больше тех, кто приблизился к толпе вплотную, грохоча дубинками.
ОМОН надвигался от метро, и люди ждали, а сбоку, возле сверкавшего пестрыми ромбиками клуба «Арлекино», в нервных бликах неона тянулось оцепление, за которым всё было заставлено грузовиками, пожарными и поливальными машинами и, очевидно, дальше змеилась опасная колючка.
— Фа-шис-ты! Фа-шис-ты! — неслось от метро.
Железный грохот пропал, мгновение — толпа испустила вздох и зашаталась.
Виктор увидел, как мелькают дубинки, которые бьют уже не по щитам. Щиты загремели снова, нестройно, под встречными ударами. Вразнобой зазвякали каски.
Понеслись рыки и стоны, занялся бабий протяжный визг, под этот визг ряды ломались, перемешивались, началась давка, все одновременно рванули в разные стороны, заклинивая друг друга.
— Нет! Нет! — длинно вопила женщина в мохнатом
сером платке.
— Русские, вперед! — надрывался кто-то.
Отряд в касках вошел в толпу, рассекая ее пополам,
расчищая себе дорогу быстрыми взмахами. Несколько молочных фотовспышек… «Неужели и меня сейчас будут бить?» — со сторонним любопытством подумал Виктор. Он сощурился, различая детали и оттенки: серебристые щиты с круглыми дырками наверху, защитные бушлаты, синие бронежилеты, болотного цвета каски…
Вдруг ему показалось, что уверенными рывками омоновцы движутся прямо на него… Происходившее становилось всё непонятнее, донесся сбивчивый страшноватый треск раций. Боковым зрением он заметил, как возле оцепления, под неоновым светом клуба собирается другой отряд, в белых шлемах, разноцветных и живых из-за радужного сверкания…
Плотность толпы неожиданно сменилась простором, и он обнаружил, что большинство, выкрикивая лозунги, уже отступали по тротуару, некоторые, и он тоже, замешкались, не зная, что делать, кто-то рубился по-прежнему возле метро, сжавшись в кучку, из которой омоновцы выдергивали людей и волокли, осыпая ударами.
Виктор потерялся…
Он хотел ускользнуть, но вместо этого поднажал вперед и оказался перед запыхавшимся омоновцем — круглое усатое лицо багровело из тьмы. Усач крепко толкнулся щитом в грудь, и тут же плечо Виктора ошпарил пружинистый удар. И даже двойной удар, с подскоком.
Он еле удержался от крика (какая унизительная боль!) и метко, поверх щита, засадил кулаком в обвислые усы. Под костяшками, сдирая кожу (тоже больно, но славная боль), лязгнули зубы, этот лязг на мгновение отменил другие звуки. Виктор успел отдернуть руку, омоновец закрылся щитом и принялся вслепую махать дубинкой, но Виктор, увернувшись, гулко долбанул сапогом в его щит, как в ворота, и заорал:
— Покажи личико! Покажи! Ну, покажи, сука!
— Ох..ел? — из-за омоновца вынырнул следующий, молодой и рослый.
Он размашисто занес дубинку, чтобы хлестнуть без жалости, рассекая залысину, отнимая сознание, обрушивая большое тело на асфальт.
Но тотчас длиннющая доска упала рослому навстречу, и, заслоняясь от нее щитом, он забыл хлестнуть, а Виктор, глянув через плечо, увидел, что не один — за ним, почему-то все с досками, обломанными, остроконечными или длинными, толпились грозные люди. Он понял, что отступившие стягиваются обратно.
— Вся ладонь в занозах… Как вынимать? — услышал он чье-то ворчание.
— Бей! — закричал Виктор и ринулся вперед со сжатыми, налившимися свинцом кулаками.
Оба омоновца неуклюже бросились наутек и развернулись со злорадным гиком: за ними и с ними резво двигалось их родное полчище. Кучка у метро была разгромлена: ни крика, ни флага, сплошные зеленые каски, бесконечные каски… Омоновцы накатывали — в своих касках похожие на желудей. Сбоку, облитый разноцветной кровью «Арлекино», растянув шеренгу, чуть медленнее, тоже шел ОМОН, белые шлемы.
— Шесть долларов за час! — женский глубокий крик.
— Шесть долларов за час! — закричал Виктор, инстинктивно пятясь и думая, что диспозиция всё время меняется.
— Шесть долларов за час! Шесть долларов за час! — с напором заладило множество голосов.
Какие-то черные штуки полетели над головой, по-птичьи, наперегонки. Виктор, слыша, как звучно отзываются щиты впереди и сбоку, понял: это летят выломанные куски асфальта.
Внезапно в унисон одним паролем затрещали рации — омоновцы разом взмахнули дубинками и побежали.
— В клещи берут, — пропел кто-то панически.
Теперь омоновцы молотили и месили вокруг, свирепо, наотмашь, добавляя ботинками.
Люди сопротивлялись, но лишь раззадорили тех, кто был сильнее: в первую минуту раздавались звяк и скрежет противоборства, во вторую — попа´дали на асфальт доски, железки, флаги, а в третью — ОМОН всё прибывал и сдавливал — начали падать тела. Кто падал бесчувственно, кто с криком, кто молчком, закрывая голову, пока остальные, уцелевшие, неслись прочь.
Виктор, схлопотав по ребрам и уже ушибленному плечу, мчал Красной Пресней под большой топот — бежали впереди него и позади, с тротуара выплескиваясь на дорогу. Сейчас он хотел одного: спастись. За спиной остались стук и рев, старик, которого пинали, как мешок, и загнанный плач растрепанной женщины, потерявшей платок и тянувшей на себя запертую дверь клуба.
По переходу Виктор метнулся на другую сторону, к зоопарку, и вскоре был у метро «Баррикадная».
Его приманил черно-желто-белый высоко поднятый флаг и сборище, разраставшееся на глазах. Напротив туманной, смутно горевшей сталинской высотки, распахнув двери и сияя, застыл троллейбус.
— Братья! С нами Бог! — бушевал парень, кожанка с массивными металлическими заклепками. — Айда перевернем!
— Братцы! — кричала пронзительно, глядя на него с обожанием и словно бы ему лично, маленькая хрупкая девушка, тоже в косухе.
Парень подпрыгнул и, дернув канаты, сорвал рога с проводов.
— Навались! — К Виктору повернулся скуластый мужик с резкими ссадинами на лбу и алым флажком из советского детства, торчащим за ухом.
— Не роняйте его! — распоряжался немолодой мужчина с доблестной выправкой, в двубортном горчичном плаще. — Давайте машины останавливайте… Вы, вы и вы… — Он выбирал убежденным кивком, и ему подчинялись. — А вы толкайте…
Часть людей и знаменосец (бравый горбун с флагом на длинной удочке) высыпали на проезжую часть, размахивая руками, как будто ловят машины, и крича по складам:
— По-бе-да!
— Помоги! — Виктор увидел большеглазую женщину в сигнальном жилете лимонного цвета, по жилету было понятно, что это водитель троллейбуса. — Из кабины… меня… хулиганы… жизнь какая… куртка моя в парке… простужусь… Дорогой, помоги! — Дорогой, которого она зазывала двумя руками, был мент, невозмутимый и как бы довольный, молчаливо наблюдавший со стороны.
Облепив троллейбус сзади и по краям, где были открыты двери, люди покатили его, осторожно поворачивая, начиная перегораживать улицу.
— Э! Э! — ожил мент, нерешительно подаваясь вперед.
На него зашумели, точно заметили только сейчас. Он
сорвал с себя рацию и, что-то обиженно бормоча в нее, переваливаясь, заспешил прочь.
Виктор в два скачка достиг троллейбуса, потеснил пыхтящего деда в ватнике, приналег сзади. Наконец Баррикадная улица, мощенная булыжником, и хоть узкая, но с двусторонним движением, была перегорожена. Машины, бибикая, убирались задним ходом в сторону Садового или к зоопарку.
— По-бе-да! По-бе-да! — заладили голоса.
— Разве это победа? — вслух спросил Виктор.
— А если не веришь, ее и не будет, — обернув к нему скуластое лицо, смачно ответил мужик с флажком за ухом. — Мы ее зовем, чтоб она была! Победу выкликают! — Виктор подумал, что красно-коричневые ссадины на его лбу похожи на китайские иероглифы. Вот бы их понять… Может быть, одна из запекшихся ран и есть «победа»?
— И колеса спускайте, — распоряжался горчичный
плащ.
Деваха в розовой куртке, гоготнув, вытащила стальную заточку. «На», — сказала она задорно и, взявшись за скошенное лезвие, отдала вперед рукоятью, обмотанной синей изолентой. Мужчина в горчичном плаще, подобрав полы, присел возле колеса и начал колоть. Кто-то встал над ним, наклонив красный флаг, как будто от флага станет светлее. Виктор достал перочинный нож, сел на корточки и заправским движением ввинтился в резину.
Когда разогнулся, людей сильно прибавилось — они громоздили банановые ящики, судачили, запевали, один мужичок в сапогах-казаках и распахнутом китайском бирюзовом пуховике принялся торговать газетами, лихо восклицая их названия: «День», «Гласность», «Русский Вестник», «Пульс Тушино».
Некоторые забрались в троллейбус, Виктор тоже влез и плюхнулся у мутного окна.
Сидевшие увлеченно общались. Виктор слушал с удивлением: они рассуждали, спорили между собой, наверняка уже побывав под дубинками и, несомненно, готовые снова сражаться.
— Был бы жив Тальков, нам бы на баррикадах пел, — заливался беспокойный тенорок. — Он предсказал, что убьют: «И поверженный в бою, я воскресну и спою». Он про Ельцина всё понял и перед смертью спел: «Господин президент, назревает инцидент». Я все его кассеты храню!
— Поймать бы одного омоновца, — вмешался раскованный бабий голос, — засунуть ему дубинку в зад и так пустить! Одного бы хватило. Призадумались бы…
— Сталин нужен, — попер густой бас. — Хозяин. Кто бы простой народ понимал. Сколько разграбили, растащили… Макашов, генерал, вот он точно Советский Союз восстановит!
— Национализм, — стал въедливо объяснять некто скрипучий, — между прочим, замечательная штука. Русские кормили все республики, в особенности, извиняюсь, Средней Азии, и элементарно пупы надорвали. Оно нам надо? Пока одни плодились, мы, извиняюсь, дохли. У любой нации есть свое государство, только у русских нет. Здесь самая мякотка. Россияне — это кто, извиняюсь, марсиане?
— Конституция, главное — конституция, — округло и плавно, с придыханием зазвучал человек, вероятно, мягкий и душой, и телом. — Иначе бандитизм, понимаете?.. Правовое поле, а на нем конституция пасется… священная корова… Надо соблюдать законы — так меня учили с детства. Если он разорвал закон, на котором клялся, чего ждать? Что ему в голову придет?
— Совсем народ замордовали, — опять вмешался тот же бабий грубоватый голос. — Чтоб он там, в Кремле, до смерти ужрался! Чтоб ему паленую подсунули…
<…>
Он шел по Пресненскому Валу, задеваемый мазками огня от фар проезжавших машин, погружаясь в яркие проруби возле комков и выныривая в темноту… Он начинал сомневаться. Видела бы его Лена! Что бы она сказала? Известно что: «Хватит идиотничать!» Вместо работы — проидиотничал часа три.
Чего ради он рискует? Ради России? А кто на самом деле знает, как правильно? А кто ему дороже? Незнакомые и неизвестные, которых гоняют и бьют, или родные Лена и Таня?
Сколько в Москве омоновцев со всей страны! А солдат дивизии Дзержинского! Говорят, еще софринская бригада… Приказ есть приказ. Бить — бьют. А армия? Прикажут — и танки войдут в Москву. Будут стрелять? Будут. В людей? Будут-будут. А закон? Да какой там закон…
Нет, стрелять все-таки не будут. Наверно.
Он свернул во двор старого краснокирпичного здания. Вроде вокруг никого. Отлил у стены. Застегивая ширинку, услышал свист. Кто-то пытался насвистывать, но сбивался.
Виктор повернул голову. Метрах в пяти от него, тускло облитая перекрестным светом, к черной железной двери привалилась фигура в черном костюме.
— Привет! — позвал человек дружелюбно. Виктор не ответил, собираясь отправиться дальше. — Выпить хочешь?
— А есть? — сделал несколько шагов.
— Не топчи!
Виктор зыркнул под ноги, понял, что стоит на рассыпанных белых цветах, и ступил в сторону. Цветы были лилии.
— Привет, старик, — человек качнулся навстречу и слабо хлопнул его по плечу. Плечо заныло, вспомнив сегодняшние удары. — Пойдем к нам…
— Куда?
— На фирму… Вискарь, водяра, шо хошь…
От человека разило именно вискарем — горячо
и грубо.
— Какую еще фирму?
— «Диам», — всхлипнув, боднул в плечо, заболевшее еще сильнее, — «Диам», — уперся в плечо лбом, вероятно, чтобы не свалиться.
— Ладно, покеда, — Виктор отстранился. Человек закачался, свесив лицо вниз, очки соскочили и жалобно звякнули об асфальт. Виктор поднял их — упали между двух белых бутонов, — стекла счастливо спаслись, сунул ему в нагрудный кармашек пиджака и напоследок, зачем-то медля, спросил: — Чего празднуем?
— Друга, — сообщил тот неожиданно внятным голосом, — друга празднуем, Илюху. Илюха Медков, слышал? Да всё о’кей… «Диам». Концерн «Диам». Дорогой Илья… — человек не завалился набок, но двинул всем телом в другую сторону, — Александрович Медков…
— Нет.
— А что ты вообще слышал? «Авизо» слышал?
— Ну. Махинации это, — подтвердил Виктор.
Человек присвистнул:
— Илюха — мой друг и начальник. Он гений, пони¬
маешь? Двадцать шесть лет. Свой самолет. Капусты выше
крыши. А начинал у Тарасова шофером. Артема Тарасова
знаешь? Я Илюхину днюху не забуду: «Метрополь», бассейн с шампанским, все дела, Таня Овсиенко в мини-юбке. Овсиенко слыхал?
Виктор внимал с неподвижным почтением — интересный человек… Человек пожевал губами по-верблюжьи.
— Слыхал… — обрадованно заключил он. — Овси-енко ты слыхал, Таню. Ты запомни: «Диам». Дорогой Илья Александрович Медков. Красиво, да? Илюха себя любил. Лететь должен был в Париж, не улетел, остался. Я с кладбища бухаю какой уж день…
— Так он умер? — спросил Виктор.
— Умер, в двадцать шесть, ага. А три пули не хошь? Здесь лежал, где цветы лежат. Вон оттуда из окна стреляли, с чердака… Вон оттуда, вишь, — вялым тряпичным жестом показал на такое же красное здание напротив, замыкавшее двор. — Ты главное запомни… Осень девяносто третьего года, запомнил? Это раз. Красная Пресня поганая. Два. Снайпер, ес? Илюха хотел, чтобы помнили… Стреляют, такое время, запомни: стреляют… А ско-ко еще зароют!
— Сколько?
— Стоко!
— А почему?
— Время… Время такое: сейчас молодые пули к себе притягивают… Илюха… Илюха хотел, чтобы помнили, нас всех обозвал, чтобы в историю залезть. «Диам», дорогой Илья… — Человек засвистел, оборвался, шатнулся и неловко сел на лилии, вытянув ноги в коричневых штиблетах, весело блестевших шоколадной глазурью даже в тусклом свете двора.
Виктор вышел на Большую Грузинскую. Он ощущал, что встреча была неслучайна. Интересно, а этот тип знает, что происходит рядом: про ОМОН, который лупит, и топчет, и сталкивает по эскалатору? Или он только помнит своего дорогого — вот, бляха, запомнилось — Илью Александровича Медкова? От слова «медок».
Виктор ощущал, что попал в какое-то новое измерение жизни, в котором одно связано с другим и всё важно, где заранее был заготовлен смутный двор с белыми бутонами, в сумерках похожими на шары зефира.
Но это пока не всё, нет, это не всё, — почувствовал он, — на этом сегодня не кончится…
Об авторе
Сергей Шаргунов (р. 1980) — прозаик, главный редактор сайта «Свободная пресса», радиоведущий. Первый роман «Малыш наказан» (премия «Дебют») был издан, когда автору исполнилось 20 лет, затем появились «Ура!», «Птичий грипп», «Книга без фотографий» (шорт-лист премии «Национальный бестселлер»).
Шаргунова называют «социальным писателем». Его новый роман «1993» — семейная хроника, переплетенная с историческим расследованием. 1993-й — гражданская война в центре Москвы. Время больших надежд и больших потрясений. Он и она по разные стороны баррикад. История одной семьи вдруг оказывается историей всей страны.
Александр Терехов. День, когда я стал настоящим мужчиной
Света, или День, когда я стал настоящим мужчиной
Если опустить устрашающий вес младенца, крещение, из деликатности про изведенное в восьмистах километрах от коммуниста отца, и описание родного панельного дома над истоком Дона
(вот она, израненная колода для рубки мяса справа от подъезда, доминошные столы возле бараков
и ряженые на свадьбах, среди которых особо выделялся милиционер с нарисованными усами), начать
следует с того, что прошлым летом моя дочь (назовем ее Алисс, что означает «цветочек бурачка»; Аверилл означало бы «сражение борова»), обменяв несколько тысяч фунтов своей матери, отданных репетиторам, на завидную двузначную цифру в графе «по итогам ЕГЭ» и не расслышав ни одного из моих,
так упорно испрашиваемых советов, встала в очередь за лотерейными билетами в приемные комиссии пяти университетов.
По окончании любого из них Алисс ждала жестокая гуманитарная нужда, — предрекал ей отец, — проедание родительского наследства, оскорбительная зависимость от мужа (есть вещи похуже, чем
развод, дитя мое!), вымаливание на ресторанных задворках хлебных корок и уборка помещений в до
мах богатых одноклассниц, чтивших в свое время
мнение родителей.
Что оставалось старику отцу? И так уже изогнутому межпозвоночной грыжей — адским порождением неумеренности в тренажерном зале?
Сопровождать. Ожидать возле заборов, «барьеров» и «рамок», покусывая картонные края опустошенного стаканчика — двойной эспрессо! Гадать:
какой выйдет Алисс? А вдруг — опечаленной? На
все вопросы успела ответить? Шпаргалка цела?
Скорее покормить! А вдруг в это самое мгновение
его цветочек прозрел, что мир несправедливо устроен, всё проплачено и раскуплено, и на лучшие
места все прошли регистрацию еще из дома?!
В те дни, полные мучений, я стоял среди подобных, в молчаливой толпе, словно ожидающей выноса тела. Впускали абитуриентов, предъявлявших
справки, выходили выпускники, прижимая к груди
дипломы. Казалось: это одни и те же люди, бесполезной, без последствий таблеткой проглотившие
за дверной взмах пять лет, одинаково чуждые Храму Знаний (поделив меж собой «еще» и «уже»); всего то разницы в паре сантиметров роста да в осанке — волнение входящих, равнодушие покидающих; и в сторонах — расходились в разные стороны.
Меня, всю предшествующую жизнь убеждавшего Алисс, что оценки, конкурс, скверное настроение или благодушие экзаменатора, зачисление
и наименование места учебы не имеют ни малейшего отношения к Судьбе, вдруг настигали воспоминания, а следом накатывал ужас животного (казалось: да, так, вот этим сейчас решаются жизнь
и судьба), и я шептал хвалу Господу: какое счастье,
что я больше не абитуриент!
Первыми выходили отличницы — некрасивые,
или красивые, но едва заметно хромающие, презрительно кося глазами: такая легкотня, даже скучно! — отличниц никто не встречал, первым движением на свободе они поднимали к уху телефон
и безответно пробирались сквозь вопросительные
стоны: что? Какая тема? По сколько человек в аудитории? Следом появлялись детки непростых, не
привычно усталые и привычно спокойные, их
встречали толстозадые адъютанты в розовых рубахах, выбираясь навстречу из недр «мерседесов»,
уже на ходу звоня: «Наши дальнейшие действия?
В какой подъезд? Ручкой писал фиолетовой!», а потом уже — «основная масса».
Я жалел провинциалов — своих: юношей в отглаженных брюках, начищенные жаркие туфли, верхняя пуговица рубашки застегнута, чистые лица, отцы с тяжелыми сумками, котлеты в банках, стеснительный огуречный хруст и постукивание яичной
скорлупы о макушку заборной тумбы. Провинциалы преувеличенно вежливо обращались к прохожим, долго шептались в сторонке и распределяли
ответственность, прежде чем почтительно побеспокоить вахтера: куда нам? И когда царствующее
лицо им снисходительно указывало: по стрелке
(куда шагали местные без всякого спроса), провинциалы так благодарили и радовались, словно первый экзамен сдан, сделан первый из решающих
шагов — большая удача!
Провинциалы — пехота, бегущая на пулемет,
только наоборот: пехота вся остается на поле боя —
из провинциалов не останется ни один; заплачут
на бордюрах, в тамбурах, на родительском плече:
ноль пять балла — всего то не хватило! — обсаженные с первого шага на Курском вокзале следившими за ними стервятниками, протягивающими листовки: а давайте к нам — на платное.
Берегся, отворачивался: спиной к журфаку, лицом
к институту стран Азии и Африки — с него сбивали
штукатурку, обнажая исторический поседевший
кирпич, а на крыше ветер качал многолетний кустарник, — но всё равно вспоминал… Вот что на самом деле владеет людьми, вот где остались и плещутся мелеющими волнами те недели осени: у крыльца
и сразу за порогом; я испытывал жалость. Как по-другому это назвать? Волнение и легкую горечь. Да,
стало побольше припаркованных машин. Нет, машин я не помню. Да не было машин! С выходящих
я снимал двадцатилетнюю стружку: она? Он? Кто-то, кого бы я знал, на этом месте. Почему ты не заходишь? Только однажды я проследовал за Алисс
внутрь, и пламя охватило меня, тяжелый избыток
крови. Абитуриенты и болельщики сидели в бывшей
библиотеке слева от лестницы, факультет обшарпан,
паркет скрипуч. Я обошел с тылу лестницу; какой-то «отдел размещения» — куда подевалась газетная
читалка? Продуктовые ларьки как в вокзальных подземельях, лестница стала пологой, таблички «институт», еще выше; я вошел в аудиторию, и она словно
сама мне подсказала: «Триста шестнадцатая!» — доска, кусочек мела, здесь я поступал, и за соседним столом улыбалась самая красивая девушка на свете.
А теперь. А теперь. Обмазанный обезболивающим
гелем, старик стирал с пальцев мел, словно страшась
оставить отпечатки пальцев.
Алисс, я появился на факультете в одна тысяча
девятьсот, в ноябре, когда сплотившийся на картошке первый курс уже разделился на тех, кто заводит
будильник, и тех, кто не знает, что такое стипендия.
Владельцы будильников вставали «к первой паре», «мне сегодня ко второй», дожидались в студеных сумерках двадцать шестого трамвая, перевозившего жестоко сомкнувшиеся спины и тележки на
колесах, и запрыгивали, буравились, приклеивались, обнимали, повисали, размещали правую ногу
или прищемлялись дверьми, или, согнувшись навстречу бурану, брели наискосок дворами в сторону
«Академической» мимо кинотеатра «Улан Батор»,
где в душном зале по воскресеньям собираются нумизматы на городской фестиваль запахов пота.
Факультет они покидали с заходом солнца, проводив любимых преподавателей до метро, и после
вечернего стакана сметаны в столовой встречались
в библиотеке общежития, а когда она закрывалась,
занимали столы в читалках на журфаковских (со
второго по восьмой) этажах или кашеварили на
кухне, стирали, рисовали стенгазеты, писали мамам
в Днепропетровск или поднимались на девятый этаж, к почвоведам, спорить о политике — почвоведки (почему мужчины не поступали на почвоведение — и доселе одна из зловещих тайн кровавого
коммунистического режима) настолько радовались
любому мужскому обществу, что я до сих пор краснею, когда добродетельная жена и самоотверженная
мать громогласно и без стыда признается: а я закончила почвоведение МГУ! Кто же этим хвалится?!
Те, кто не заводил будильников (ветераны армии, ветераны производства и горцы, проведенные
в обход, через «рабфак» национальной политикой
КПСС — небритые племена!), спали долго, спали
почти всегда, сутками, и пили почти всегда, иногда работали сторожами, уборщиками или мелко мошенничали, отчислялись, восстанавливались, занимали деньги, принимали гостей, роняли моральный
облик в первом корпусе, где жили психологи, писали объяснительные участковому и в университете появлялись только на сессию, а в основном спали, ели и пили, и — не знаю, как выразиться современно и точно, — короче, у них было много
знакомых девушек. Те, кто не заводил будильников,
искали этих знакомств. Не всегда успешно. Но постоянно. Получается, они жили в раю, улица Шверника, девятнадцать, корпус два.
Последние, дремотные и неподвижные годы
советской власти лишили остатков смысла учебу,
поиск должностей, уважение к государственной
собственности, послушание закону, честную жизнь, службу Родине — нет, никто не знал, что очень скоро дорога к окончательной справедливости в виде
бесплатного потребления упрется в стену, и пойдем назад, поэтому первые станут последними, но
все как-то чувствовали, что ехать смысла не имеет.
Немного пионерия, побольше комсомол, а лучше
всех армия (партия нас не дождалась, двух сантиметров не хватило!) объясняли человеку: хочешь
остаться полностью живым — уклоняйся и припухай. Малой кровью, не выходя на площадь, отцепляй от себя потихонечку веления времени, как
запятые репейника: надо числиться — да пожалуйста, на бумаге — участвуй; голосуй — если прижмут; попросят — выступи; заставят — приди и подремли
в последнем ряду, но держи поводок натянутым,
чуть что — уклоняйся, возьми больничный, забудь
или проспи и припухай себе помаленьку, не взрослей, оставайся беззаботным и молодым среди смеющихся девушек.
Вот так поделился и наш курс, когда я появился в первых числах ноября в учебной части, уничтоженный потерей комсомольского билета. Мне
еще повезло, из части меня уволили первым. Моя
армейская служба текла в подвале штаба на Матросской Тишине под грохот вентиляции. Единственное окно выходило в бетонный колодец, в который спускались голуби умирать; снега и листьев
не помню. Спали мы в том же подвале, тридцать
метров вперед по коридору и налево, выдержав за
полтора года нашествие крыс и вшей.
По утрам, до появления офицеров и генералов,
я поднимался в туалет на второй этаж почистить зубы, умыться, постирать по мелочам (по крупному
стирались по субботам в бане в Медвежьих Озерах),
или на третий этаж, если второй захватывала уборщица, или на четвертый, где сидела служба тыла.
Тот день был особенный — я потратился на зубную пасту. Хватит ради сохранения денег клевать
щеткой зубной порошок — до конца никогда не
смоешь потом его крапины с рук и лица! Скоро конец казенной нищете, ждет нас другая жизнь — так
радостно чувствовал я и сжал с уважением тяжелый тюбик, пальцами слегка так прихватил, чтобы
не выдавить лишнего. Но паста наружу не лезла.
Оказывается, горлышко зубной пасты запаяли
какой-то блестящей… типа фольгой — сперва полагалась протыкать, а не жать со всей дури. Вот такая паста в Москве. Мы, конечно, отстали. Проткнуть чем? Я поковырял мизинцем, понадавливал
рукояткой зубной щетки — фольга вроде промялась, но не порвалась. Нужно что-то острое. Топать
в подвал за гвоздем времени уже не было, вот-вот
повалят на этажи лампасы и папахи, и я догадался, что, если резко сжать тюбик обеими руками,
паста сама вышибет преграду и вывалится наружу.
Конечно, я слегка разозлился. Если продаете товар
недешевый, так делайте его удобным.
Сжатие должно быть резким.
Я прицелился, вытянул руки к раковине… Чтоб
если излишек… Если вдруг капнет, то не на пол…
Раз!
Не поддается.
И р-р-раз!!!
Получилось, как я и предполагал. Даже с перебором.
Да, тюбик — да он просто взорвался в моих
руках!
Словно внутри в нем всё давно кипело, распирало и томилось, и радо было брызнуть наружу, всё,
вывернуться до капли, крохи малой — всё! — оставалось только скатать отощавшую упаковку трубочкой и выбросить: так и сделал. Вот тебе и на
давил. Вот тебе и на «разок почистить зубы»…
Я сунул щетку в раковину — зацепить пасты на
щетину. Но — пасты в раковине не было! Ни кап
ли. Она вся куда-то делась. Я огляделся: да что же
это такое? Как всякий невыспавшийся человек,
которому кажется, что он видит всё, а он не видит
всего… Да еще столкнувшийся с бесследным исчезновением вещества в закутке над раковиной
возле трех кабинок… Напротив зеркала… Над коричневым кафелем…
Словно и не просыпался — дурной, невероятный сон.
Да еще пора уносить ноги со второго этажа.
Тюбик, похоже, вообще был пустой! Бракованный! Просто лопнул.
И вдруг, уже прозревая жуткое, прежде чем начать понимать, я обратил свой взор на самого себя… О, так сказать, боже!!! — оказывается, своими
ручищами я так даванул на бедную пасту, что она
бросилась и вырвалась из тюбика не вперед, через
горлышко, а назад, разворотив шов, плюнула не
в раковину, а влепилась мне в живот и вот сейчас
жирной мятной нашлепкой растекается по кителю
и отращивает усы на брюках.
Бежать! Я наскоро вычистил зубы, обмакнув
щетку в пахучее месиво на животе, два раза намочил под краном руку — протер лицо и пригладил
волосы, схватил свои пожитки и — на лестницу (надо было, как всегда, сперва прислушаться, а потом
выглянуть), где все неразличимые стояли навытяжку потому, что двигался один — поднимался, шагал
себе Маршал, Командующий нашего Рода Войск,
высокий, отрешенный, никогда не глядящий по
сторонам, глаза словно отсутствовали на красиво,
нездешне вылепленном лице, погруженный в размышления о трудностях противостояния армий
стран Варшавского договора агрессивным замыслам… Я отшатнулся, юркнул, переждал: а теперь? —
теперь дежурный по штабу, полковник Г., прославленный предательствами друзей по оружию — алкоголиков, почему то шепотом повторял мне: иди
за ним! Командующий Рода Войск сказал, чтобы ты
шел за ним! Полковника Г. трясло, он не мог показать рукой (в его дежурство!) и твердил: за ним!
Срочно за ним!
Что мне оставалось делать? Идти чистить сапоги и искать под кроватью фуражку? Чудовищная
волна подхватила и с ревом потащила меня, ускоряясь, прямо в грозно гудящее жерло Судьбы —
в приемной, еще не расслабившиеся после приветствия, два адъютанта майора хором вскрикнули:
куда?! Я обморочно промямлил: товарищ командующий сказал зайти, — и прыгнул в пропасть.
И книге и об авторе
Это истории о мальчиках, которые давно выросли, но продолжают играть в сыщиков, казаков и разбойников, мечтают о прекрасных дамах и верят, что их юность не закончится никогда. Самоирония, автобиографичность, жесткость, узнаваемость времени и места — в этих рассказах соединилось всё, чем известен автор.
Александр Терехов — автор романов «Крысобой», «Немцы», Каменный мост«. Выпускник МГУ, ещё в студенческие годы стал популярным журналистом «перестроечных изданий» «Огонёк» и «Совершенно секретно». Книги Александра Терехова переведены на английский и итальянский языки.
Терехов, как все дети застоя, — рыба глубоководная. Он не виноват, что его тянет на глубину, хотя ему отлично известно, какие чудовища там таятся.
Дмитрий Быков
Антонина Пирожкова. Я пытаюсь восстановить черты. О Бабеле – и не только о нём
Встреча с Бабелем
Он пришел с опозданием, когда все уже сидели за столом, и объяснил, что пришел прямо из Кремля, где получил разрешение на поездку во Францию к семье. Был он
в белых холщовых брюках и белой рубашке-косоворотке
со стоячим воротником и застежкой сбоку, подпоясанной
узким ремешком. Я этому ничуть не удивилась, поскольку
июль был очень жаркий и все сидящие за столом были
в белом.
Яков Павлович представил меня Бабелю:
— Это инженер-строитель по прозванию Принцесса
Турандот.
Иванченко не называл меня иначе с тех пор, как, приехав однажды на Кузнецкстрой, прочел обо мне критическую заметку в стенной газете под названием «Принцесса
Турандот из конструкторского отдела».
Бабель посмотрел на меня с улыбкой и удивлением, а во
время обеда всё упрашивал выпить с ним водки.
— Если женщина — инженер, да еще строитель, — пытался он меня уверить, — она должна уметь пить водку.
Пришлось выпить и не поморщиться, чтобы не уронить
звания инженера-строителя.
Бабель производил впечатление очень скромного человека, рассказывал, каких трудов стоило ему добиться разрешения на выезд за границу, как долго тянулись хлопоты,
а поехать было необходимо, так как семья его жила там
почти без средств к существованию, из Москвы же было
очень трудно ей помогать.
— Еду знакомиться с трехлетней француженкой, —
сказал он. — Хотел бы привезти ее в Россию, так как боюсь, что из нее там сделают обезьянку.
Речь шла о его дочери Наташе, которую он еще не видел.
С Бабелем разговаривал в основном Новокшонов, мы
с Анной Павловной в беседе почти не участвовали. Сидел
с нами Бабель недолго и ушел, сославшись на какую-то
встречу вечером, очень важную для него в связи с поездкой
за границу.
Через несколько дней, когда Яков Павлович уехал
в Магнитогорск, Бабель пригласил меня и Анну Павловну к нему обедать, пообещав, что будут вареники с вишнями. Название переулка, где жил Бабель, поразило меня: Большой Николоворобинский — откуда такое странное название?
Бабель объяснил:
— Оно происходит от названия церкви Николы-на-
Воробьях — она почти напротив дома. Очевидно, церковь
была построена с помощью воробьев, то есть в том смысле,
что воробьев ловили, жарили и продавали1 .
Я удивилась, но подумала, что это возможно: была же
в Москве церковь Троицы, что на Капельках, построенная,
по преданию, на деньги от сливания капель вина, остававшегося в рюмках; ее построил какой-то купец, содержавший трактир2 . Позже я узнала, что название церкви
и переулка происходит не от слова «воробьи», а от слова
«воробы» — это род веретена для ткацкого дела в старину.
Жил Бабель в двухэтажном доме, построенном во времена нэпа на деревянном каркасе с фибролитовым заполнением. Капитальной стеной дом делился на две половины,
в одной из которых жил Бабель.
Квартира Бабеля была необычна, как и название переулка. Это была квартира в два этажа, где на первом располагались передняя, столовая, кабинет и кухня, а на втором — спальные комнаты.
Бабель объяснил нам, что он живет вместе с австрийским инженером Бруно Штайнером, и рассказал историю своего знакомства с ним. Штайнер возглавлял представительство фирмы «Элин», торговавшей с СССР электрическим оборудованием. Представительство с несколькими сотрудниками и занимало всю квартиру. Затем наша страна не захотела больше покупать австрийское оборудование. Уговорились, что в Москве останется только один представитель фирмы, Штайнер, который будет давать советским инженерам консультации. Оставшись один,
Штайнер, из боязни, что квартиру, состоящую из шести
комнат, у него отберут, стал искать себе компаньона, который сумел бы ее отстоять. Он был хорошо знаком с писательницей Лидией Сейфуллиной и просил ее найти ему соседа из ее круга. Сейфуллина порекомендовала Бабеля,
который в это время ютился у кого-то из друзей. (Много лет спустя я узнала, что у Сейфуллиной было два кандидата на квартиру Штайнера: Бабель и Маяковский.)
— Так я поселился здесь, в Николоворобинском, — закончил Бабель. — Мы разделили верхние комнаты по две
на человека, а столовой и кабинетом внизу пользуемся сообща. В кабинете обычно работает Штайнер, к которому приходит секретарша Елена Ивановна, а я люблю работать
в одной из верхних комнат. У нас со Штайнером заключено джентльменское соглашение: все расходы на питание
и на обслуживание дома — пополам и никаких женщин
в доме. Сейчас Штайнера нет в Москве, он недавно надолго уехал в Вену.
На другой же день после обеда Бабель позвонил и сказал, что для знакомства с Москвой надо гулять пешком по ее улицам и переулкам. Мы встретились у Политехнического музея, и Бабель повел меня по Маросейке в сторону
Садового кольца. По дороге он показывал разные исторические места и места, связанные со знаменитыми писателями, старые церквушки в переулках, немецкую кирху, которую посещал его сосед Штайнер, а также переулок, где
находилась главная синагога Москвы. Смешно вспомнить,
какой я тогда была дикаркой. Вы думаете, что меня можно
было взять под руку? Ничего подобного! При малейшем
прикосновении к моей руке я ее прятала за спину с самым
серьезным видом. Представляю, как Бабель в душе смеялся надо мной, но вида не показывал и только извинялся.
Редко проходил день, чтобы Бабель не звонил и не приглашал меня встретиться. Иногда я была чем-то занята,
и все же мы встречались так часто, что я совсем забросила своих друзей и знакомых, каждый раз соблазняясь
предложениями Бабеля. Он познакомил меня со своими
ближайшими друзьями еще со времен Гражданской войны — Яковом Осиповичем Охотниковым и Ефимом Александровичем Дрейцером. Охотников жил в одном из переулков Арбата с женой, украинкой Александрой Александровной Соломко — Шурочкой. Она была, как сказал мне Бабель, третьей женой; в первый раз Охотников был женат на Муре, второй раз — на Марусе Солнцевой и теперь —
на Шурочке Соломко. Бабель знал всех жен Охотникова
и больше всех ценил Муру. От Маруси Солнцевой у Охотникова был сын Яша лет шести-семи, который часто жил
у отца, так как мать очень скоро вышла замуж за другого.
Шурочка должна была растить мальчика, ухаживать за ним
вместе с домработницей, которую, как и мать Яши, звали
Маруся. Про Охотникова Бабель говорил мне: «Он трубадур революции», а иногда: «Это не человек, а поля и степи
Бессарабии». Он рассказывал, что отец Охотникова воровал в Бессарабии лошадей, что в самом Охотникове было
что-то цыганское, бесшабашное и что он в революцию
сражался вместе с Котовским. В 30-е годы Охотников был
заместителем начальника Гипромеза Колесникова, а следовательно, и моим начальником, о чем я впервые узнала от Бабеля. Но в Гипромезе я с ним никогда не встречалась,
поскольку конструкторский отдел был в другом здании.
Из многочисленных рассказов Бабеля про Охотникова
я запомнила два.
Однажды в голодный 1931 или 1932 год Охотников
привез в Николоворобинский мешок картошки, на собственной спине внес его на кухню и сбросил перед Марией
Николаевной, работавшей у Бабеля и Штайнера приходящей кухаркой. Штайнер был потрясен: «Он же начальник солидного учреждения!» Охотников мог заявиться
к Бабелю с целой компанией и сказать: «Привел целую
кучу жидов». Как рассказывал Бабель, у Охотникова
с Дрейцером была такая дружба, что если кто-то из них заболевал, например, гриппом, то другой приходил к заболевшему, укладывался рядом и смешил, рассказывая
анекдоты. Так умели дружить в те времена!
Бабель пригласил меня к Ефиму Александровичу
Дрейцеру3 , жившему на Трубной улице в большой квартире вместе с младшим братом Самуилом и сестрой Розой. Его старший брат Роман Александрович жил отдельно со своей женой и маленькой дочкой Ритой. У Ефима
Александровича мы застали гостей — его друзей Гаевского и Вержбловского, с которыми я тоже познакомилась.
Про Дрейцера Бабель говорил: «Это один из умнейших
людей нашего времени. Он революционер до мозга костей. В польских тюрьмах его много били, и несколько
раз он бежал оттуда». Как мне помнится, он работал тогда
в штабе Красной армии.
Бабель водил меня также на концерты джаза Утесова
и Скоморовского, на ипподром и в конюшни, где любил бывать сам. Как-то раз мы с Бабелем встретились с Утесовым
в кафе гостиницы «Метрополь». Леонид Осипович говорил в основном о бородавке на своем носу. Ему предложили главную роль в фильме «Веселые ребята», и он должен был срезать бородавку. Он говорил, что бородавка приносит ему счастье, что срезать он ее не хочет и очень боится
боли. Но срезать все же пришлось, и, как значительно позже рассказывал мне Бабель, Утесов все свои неприятности
объяснял отсутствием бородавки: «Была бородавка — было счастье, нет ее — и нет счастья».
До отъезда Бабеля за границу я еще несколько раз бывала в Николоворобинском. Однажды он мне сказал:
— Приходите завтра обедать, я познакомлю вас с остроумнейшим человеком.
На следующий день, придя к Бабелю, я застала у него
гостя. Это был Николай Робертович Эрдман. Мой приход прервал их беседу, но она тотчас же возобновилась,
и я с интересом услышала, что речь идет о пьесе Эрдмана,
которую не хотят разрешать. Бабель вкратце рассказал мне
сюжет, а затем добавил:
— Пьеса с невеселым названием «Самоубийца» буквально набита остротами на темы современной жизни, ей
пророчат судьбу «Горя от ума».
За обедом Бабель всё заставлял меня рассказывать о моей
работе на Кузнецкстрое в 1931 году. Я рассказала историю
о том, как маститые инженеры, сосланные в Сибирь после
Шахтинского процесса, пригласили меня консультантом
на угольную шахту. Бабель, выслушав мой рассказ, сказал:
— Видите ли, Николай Робертович, эти инженеры, конечно, отлично сами всё знали, но нарочно не хотели брать
на себя никакой ответственности. Раз им не доверяют,
пусть отвечают большевики. Поэтому они и разыграли эту
комедию… Ну, расскажите еще что-нибудь…
И я рассказала, как на Кузнецкстрое зимой 1931 года
две бригады каменщиков соревновались в кладке труб доменных печей. После моего рассказа Бабель заметил:
— Вот если бы написать так, как она рассказывает, а то
пишут о соревновании — скука одна…
Сам Бабель за обедом вспомнил какую-то смешную
историю об изменявших друг другу супругах, на что Николай Робертович отозвался кратко: «Гримасы большого города».
Тогда же я впервые услышала известную эпиграмму
Эрдмана по поводу ликвидации РАППа4 :
Не стало РАППа.
Не радуйтесь, что умер РАПП,
Коль жив сатрап.
Как-то раз Бабель попросил разрешения зайти ко мне
домой. Я угостила его чаем, помню, не очень крепким (а
он, как я потом узнала, любил крепчайший), но Бабель
выпил чай и промолчал. А потом вдруг говорит:
— Можно мне посмотреть, что находится в вашей су-
мочке?
Я с крайним удивлением разрешила.
— Благодарю вас. Я, знаете ли, страшно интересуюсь
содержимым дамских сумочек.
Он осторожно высыпал на стол всё, что было в сумке, рассмотрел и сложил обратно, а письмо, которое я как раз в тот день получила от одного моего сокурсника по институту, оставил. Посмотрел на меня серьезно
и сказал:
— А это письмо вы не разрешите ли мне прочесть, если, конечно, оно вам не дорого по какой-нибудь особой
причине?
— Читайте, — сказала я.
Он внимательно прочел и спросил:
— Не могу ли я с вами уговориться?.. Я буду платить
вам по одному рублю за каждое письмо, если вы будете давать мне их прочитывать.
И все это с совершенно серьезным видом. Тут уж я рассмеялась и сказала, что согласна, а Бабель вытащил рубль и положил на стол.
Он рассказал мне, что бо´льшую часть времени живет не
в Москве, где трудно уединиться для работы, а в деревне
Молоденово, поблизости от дома Горького в Горках.
И пригласил меня поехать с ним туда в ближайший выходной день. Он зашел за мной рано утром и повез на
Белорусский вокзал. Мы доехали поездом до станции
Жаворонки, где нас ждала лошадь, которую Бабель, очевидно, заказал заранее. Дорога сначала шла через дачный
поселок, потом полями, потом через дубовую рощу. Бабель
был в очень хорошем настроении и рассказал мне почему-то историю, как муж вез жену к себе домой после свадьбы
и по дороге зарубил лошадь на счет «три», так как на счет
«раз» и «два» она его не послушалась. На жену это произвело такое впечатление, что она, как только муж говорил
«раз», сразу бросалась исполнять его приказание, помня,
что последует после слова «три».
В Молодёнове Бабель жил в крайнем доме, стоящем на
крутом берегу оврага, по дну которого протекала маленькая речка, впадающая в Москву-реку. Сенями дом разделялся на две половины: одну, состоящую из кухни, горницы и спальни с окнами на улицу, занимал хозяин Иван Карпович Крупнов с семьей, в другой — из одной большой комнаты с окнами на огород — жил Бабель. Обстановка в этой комнате была очень скромной: простой стол,
две-три табуретки и две узкие кровати по углам.
Семья Ивана Карповича состояла из пяти человек: его
жены Лукерьи, ее больной матери и трех дочерей. Мать была очень старая, она лежала на лавке в кухне и всё ждала
смерти. Старшая дочь была замужем и жила отдельно, а две
другие, Катя и Полина, жили с родителями. Катя училась на
каких-то курсах в Москве и иногда по неделе и больше занимала одну из комнат Бабеля. Полина еще училась в школе, и так хорошо, что Бабель говорил: «Будет ученая!»
Бабелю хотелось показать мне все молоденовские достопримечательности, поэтому мы по приезде тотчас же
отправились пешком на конный завод. Там нам показали
жеребят; один из них родился в минувшую ночь и был назван «Вера, вернись», так как жена одного из зоотехников
ушла от него к другому.
Осмотрев конный завод, где Бабеля все знали и всё ему
с подробностями рассказывали, что меня удивляло и почему-то смешило, мы отправились смотреть жеребых кобылиц — они паслись отдельно на лугу, на берегу Москвы-
реки.
Разговор с зоотехником шел у Бабеля очень специальный; в нем слышались выражения, смысл которых мне
стал ясен лишь значительно позже, например: «на высоком ходу», «хорошего экстерьера», «обошел на полголовы». Обо мне Бабель, как мне казалось, забыл. Наконец,
приблизившись, он стал рассказывать мне о кобылицах.
Одна, по его словам, была совершенная истеричка; другая — проститутка; третья давала первоклассных лошадей
даже от плохих жеребцов, то есть улучшала породу; четвертая, как правило, ухудшала ее.
И на пути к конному заводу, и по дороге обратно мы
прошли мимо ворот белого дома с колоннами, в котором
жил Алексей Максимович Горький. Пройдя дом, свернули
к реке, а искупавшись, отправились в Молоденово через великолепную березовую рощу. Потом Бабель повел меня
к старику пасечнику, очень высокому, с большой бородой,
убежденному толстовцу и вегетарианцу. Он угощал нас чаем и медом в сотах.
На станцию возвращались также на лошади. По дороге
Бабель спросил меня:
— Вот вы, молодая и образованная девица, провели
с довольно известным писателем целый день и не задали
ему ни одного литературного вопроса. Почему? — Он не
дал мне ответить и сказал: — Вы совершенно правильно
сделали.
Позже я убедилась, что Бабель терпеть не мог литературных разговоров и всячески избегал их.
В Молодёнове Бабель водил дружбу с хозяином Иваном
Карповичем, с которым мог часами разговаривать, с очень
дряхлым старичком Акимом, постоянно сидевшим на завалинке и знавшим множество занятных историй, с пасечником-вегетарианцем; у него был целый круг знакомых — бывалых старых людей.
Колхозные дела Молоденова Бабель знал очень хорошо, так как даже работал одно время, еще до знакомства со
мной, в правлении колхоза. Не для заработка, конечно,
а с единственной целью досконально узнать колхозную
жизнь. Крестьяне называли Бабеля Мануйлычем.
Об авторе
Антонину Николаевну Пирожкову (1909 — 2010) еще при жизни называли одной из великих вдов. Сорок лет она сначала ждала возвращения Исаака Бабеля, арестованного органами НКВД в 1939 году, потом первой после смерти диктатора добилась посмертной реабилитации мужа, «пробивала» сочинения, собирала воспоминания о нем и написала свои.
Чудесный дар был дан и самой А.Н. Пирожковой. Она имела прямое отношение к созданию «большого стиля», ее инженерному перу принадлежат шедевры московского метро — станции «Площадь революции», «Павелецкая», две «Киевские». Эта книга — тоже своего рода «большой стиль». Сибирь, Москва, Кавказ, Европа — и, по сути, весь ХХ век. Герои мемуаров — вместе с Бабелем, рядом с Бабелем, после Бабеля: С. Эйзенштейн, С. Михоэлс, Н. Эрдман, Ю. Олеша, Е. Пешкова, И. Эренбург, коллеги — известные инженеры—метростроевцы, политические деятели Авель Енукидзе и Бетал Калмыков. И рядом — просто люди независимо от их ранга и звания — совсем по-бабелевски.
1Церковь Николая Чудотворца была построена в 1680–1693 гг.
в Стрелецкой слободе Воробине. (Примеч. сост.)
2Церковь Троицы в Москве упоминается в 1625 г. и значится
«на Капле», то есть на речке Капле или Капельке. (Примеч. сост.)
3Д р е й ц е р Ефим Александрович ((1894–1936) — советский во-
енный и политический деятель. Погиб в годы сталинских репрессий.
(Примеч. сост.)
4Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) была
расформирована постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г.
(Примеч. сост.)