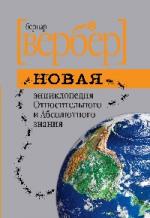Одна из 80 концепций из книги Филипа Котлера «Маркетинг от А до Я»
Брендом может быть все что угодно: Coca-Cola, FedEx, Porsche, Нью-Йорк, Соединенные Штаты, Мадонна и вы — да-да, лично вы! Бренд — это любая этикетка, наделенная смыслом и вызывающая ассоциации. Хороший бренд делает нечто большее — он придает продукту или услуге особую окраску и неповторимое звучание.
Рассел Хэнлин, глава компании Sunkist Growers, замечает: «Апельсин — это апельсин <…> просто апельсин. Если только он не окажется вдруг апельсином Sunkist, — носителем бренда, который знают и которому доверяют 80% потребителей». То же самое мы можем сказать и в отношении Starbucks. Есть просто кофе, и есть кофе Starbucks. Важен ли бренд? Вот что думал по этому поводу Роберто Гисуэта, покойный глава компании Coca-Cola: «Все наши заводы и фабрики завтра могут сгореть дотла, но это не окажет существенного влияния на ценность нашей компании; эта ценность определяется репутацией нашей марки и нашими коллективными знаниями». Та же мысль высказана в рекламном буклете фирмы Johnson & Johnson: «Название и торговая марка нашей компании — главное, что у нас есть, они во много раз ценнее всех прочих активов».
Создание бренда требует от компании напряженной работы. Дэвид Огилви утверждал: «Провести сделку способен любой болван, а чтобы построить бренд, нужны талант, вера и упорство».
Признак по-настоящему хорошего бренда — предпочтение, оказываемое ему потребителем. Harley Davidson — замечательный бренд, поскольку люди, которые ездят на мотоциклах Harley Davidson, верны им и практически никогда не переходят на другие марки. Точно так же пользователи компьютеров Apple Macintosh ни за что на свете не променяют свой любимый бренд на Microsoft.
Широкая известность бренда приносит дополнительную прибыль. Цель брендинга, по утверждению одного циника, в том, чтобы «получить за продукт больше, чем он стоит». Это, конечно, очень узкий взгляд, на самом деле бренд дает владельцу и другие, более существенные блага. На основании торговой марки потребитель определяет ожидаемое качество и другие свойства товара, то, какие услуги будут предоставляться, — а за все это стоит заплатить несколько больше.
Марка экономит людям время, а время, как известно, — деньги. Нил Фицджеральд, глава компании Unilever, сказал по этому поводу: «Бренд — это хранилище доверия, значимость которого возрастает по мере расширения выбора. Люди хотят упростить свою жизнь».
Бренд равносилен контракту с потребителем, оговаривающим его, бренда, обязательства. Подобный контракт должен быть честным. Бренд гостиничной сеть Motel 6, к примеру, предполагает чистые номера, низкие цены и хорошее обслуживание, но в него не заложена ни роскошная меблировка, ни огромная ванная комната.
Как же создается бренд? Ошибочно думать, что это — дело рекламы. Реклама только привлекает внимание к бренду, вызывает интерес к нему, разговоры о нем — и все. Строительство бренда — комплексный процесс, в котором применяется целый ряд различных инструментов, включая рекламу, связи с общественностью (PR), спонсорство, маркетинговые мероприятия, благотворительные акции, клубы, публичные выступления и т.д.
Эффективнее — но и сложнее — не просто дать рекламу, а привлечь к своей марке внимание СМИ. Журналистам отнюдь не безразличны наиболее интересные продукты и услуги, такие, например, как Palm, Viagra, Starbucks или eBay. С новым брендом нужно связать некую новую категорию, интригующее слово, яркую историю. Если эту историю подхватят пресса и телевидение, люди, познакомившись с ней, передадут рассказ своим знакомым, и те станут больше доверять бренду, чем если бы знали о нем только из рекламы. Реклама по определению пристрастна, и она не может оказать такого влияния на потребителя, как мнение, исходящее из независимого источника.
Не рекламируйте бренд — живите с ним. В конечном итоге бренд строят работники компании, создавая товар, который нравится клиентам. Отвечает ли опыт, связанный с брендом, заложенному в него обещанию? Именно об этом компаниям следует заботиться в первую очередь.
Удачный выбор названия приносит, конечно, большую пользу. Поясним это на примере. Группе испытуемых показали фотографии двух красивых женщин и предложили отдать предпочтение одной из них. Голоса разделились примерно поровну. Потом экспериментатор изменил условия: сообщил, что одну из женщин зовут Гертрудой, а другую — Дженнифер. На этот раз женщине по имени Дженнифер было отдано 80% голосов.
Хороший бренд — единственное, что может обеспечить доходы выше средних в течение длительного времени. И его преимущества лежат не только в рациональной, но и в эмоциональной сфере. Бренд-менеджеры часто опираются преимущественно на рациональные доводы — качество, цену, условия продажи, — которые мало что дают для создания связи между брендом и потребителем. Удачные бренды сильнее воздействуют на эмоции. В будущем на них ляжет и социальная ответственность, так как они в состоянии реально повлиять на судьбы людей, целых стран и всего мира.
Марка Virgin, принадлежащая Ричарду Брэнсону, вызывает ассоциации с чем-то забавным и необычным. Эти атрибуты присущи всем проявлениям рыночной активности Virgin. Полет на самолете компании Virgin Atlantic Airways может сопровождаться сеансами массажа или выступлением рок-группы. На борту самолета может быть устроено настоящее казино. Летный состав отличается жизнерадостностью и любовью к шуткам. Брэнсон демонстрирует всему миру свое бесстрашие, устраивая такие акции, как кругосветное путешествие на воздушном шаре, а на презентацию одежды для новобрачных Virgin Bride он явился в платье невесты.
Компания должна понимать, какой смысл она вкладывает в свой бренд. Что должно значить для потребителя имя Sony, Burger King или Cadillac? Бренду нужна индивидуальность, он существует и развивается за счет неких особенностей, отличительных черт. И черты эти должны пронизывать всю маркетинговую деятельность компании.
Определившись с атрибутом (атрибутами) своей торговой марки, вам следует выражать его (их) во всем, что делается в рамках маркетинга. Ваши люди должны стать носителями духа бренда как на корпоративном, так и на профессиональном уровне. Если, к примеру, компания заявляет о своем инновационном характере, ей необходимо набирать и обучать смелых новаторов, поощрять изобретательство. Причем для каждой должности — мастера цеха, водителя фургона, бухгалтера, торгового агента — нужно определить, в чем на ней может проявляться инновационность.
Индивидуальность бренда существенна и с точки зрения отношений компании с ее партнерами. Например, нельзя позволять дилеру компрометировать бренд, снижая цену по сравнению с другими дилерами, — он обязан поддерживать бренд и не ронять его достоинства.
Успех бренда может побудить компанию к тому, чтобы начать выпускать под тем же брендом какие-то еще свои продукты. Они могут относиться как к той же категории, что и первоначальный продукт (так называемое расширение продуктового ряда, или расширение линейки), так и к новой категории (расширение бренда). Распространение бренда на новую отрасль называют растяжением бренда.
Смысл расширения продуктового ряда в том, что компания, пользуясь высокой репутацией своего продукта определенной категории, экономит средства, которые ей пришлось бы потратить на представление нового названия. Так, мы видим в магазинах новые супы Campbell Soup с широко известной красной этикеткой. Но здесь необходимо соблюдать определенные правила: одновременно с выводом на рынок новых супов следует снять с продажи прежние ассортиментные позиции, ставшие нерентабельными. И все равно остается риск, что новые продукты вытеснят основной ассортимент, а рост дохода при этом не покроет дополнительных издержек. Неудачное расширение продуктового ряда способно привести к падению производительности, возрастанию издержек сбыта, недовольству потребителей и, соответственно, к снижению доходов предприятия в целом. В некоторых случаях такое расширение, безусловно, оправданно, однако злоупотреблять им в любом случае не стоит.
Расширение бренда сопряжено с бoльшим риском. Я могу покупать суп Campbell и не обращать никакого внимания на воздушную кукурузу с такой же этикеткой. Растяжение бренда еще рискованней. Купили бы вы автомобиль марки Coca- Cola?
Известные компании нередко склонны считать, что известность их бренда позволит им с тем же успехом работать с какими-то иными категориями продукции. Но что вы можете сказать о компьютерах Xerox или о соусе сальса от Heinz? Может ли HP iPАQ Pocket PC тягаться с карманным компьютером Palm, а ацетаминофен фирмы Bayer — с тайленолом? Будет ли электроника, которой торгует компания Amazon, продаваться с тем же успехом, что и книги? Очень часто версия продукта выпускается по принципу «а я чем хуже?» и, конечно, проигрывает лидерам рынка.
В таких ситуациях имеет куда больший смысл присвоить новому товару новое имя, а не имя компании, обладающее вполне определенной смысловой нагрузкой. Название компании ассоциируется с чем-то более или менее знакомым, но никак не с чем-то новым. В некоторых компаниях это понимают. Не случайно, например, автомобиль высшего класса от компании Toyota называется не Toyota Upscale, а Lexus, новый компьютер компании Apple — не Apple-IV, а Macintosh. Levi’s выпустила новые брюки под маркой Dockers, а вовсе не Levi’s Cottons, Sony присвоила новой игровой приставке название PlayStation, но не Sony Videogame; Black & Decker выпускает усовершенствованные электроинструменты под маркой De-Walt — не Black & Decker Plus. Появление нового бренда становится темой, привлекающей внимание СМИ, дает пищу для разговоров. Новый бренд нуждается в доверии, формированию которого в большей степени способствует не реклама, а именно информационная или пропагандистская кампания.
Впрочем, у любого правила есть исключения. Так, Ричард Брэнсон присвоил марку «Virgin» нескольким дюжинам предприятий. Среди них — Virgin Atlantic Airways (авиакомпания), Virgin Holidays (туристическая фирма), Virgin Limited Edition (гостиничная сеть), Virgin Trains (железнодорожная компания), Virgin Limousines (служба аренды автомобилей с шофером), Virgin Radio (радиостанция), Virgin Books (издательство и книготорговая сеть) и Virgin Drinks (производитель напитков, включая Virgin Cola и Virgin Vodka). Имя Ральфа Лорена можно найти не только на многих предметах одежды, но и на предметах домашнего обихода. В таких случаях компания непременно должна задаваться вопросом: не потеряет ли бренд смысл при дальнейшем растяжении?
Эл Райс и Джек Траут, два маститых маркетолога, считают, что расширения продуктового ряда и бренда в большинстве случаев вредны, поскольку они размывают бренд. На их взгляд, название «кока-кола» должно относиться только к прохладительному напитку, причем обязательно в знаменитой бутылке объемом в восемь унций. Если же сегодня вы попросите кокаколу, вам предложат уточнить, какую именно: классическую, классическую без кофеина, диетическую, диетическую с лимоном, ванильную или вишневую, в бутылке или в жестяной банке. Иными словами, название задает довольно широкий диапазон продуктов.
Очень серьезное внимание следует обращать на ценообразование. Когда Lexus стал бороться с Mercedes за американский рынок, компания Mercedes-Benz и не подумала снижать цены. Некоторые менеджеры даже предложили, наоборот, несколько поднять их, чтобы подчеркнуть связанный с брендом престиж, которого не может предложить Lexus.
Однако наценка на бренд имеет тенденцию к сокращению. В прошлом за ведущую марку можно было уверенно назначать цену на 15—40% выше средней, сегодня же разрыв сократился до 5—15%. В прежнее время, когда качество продукции было неравномерным, мы соглашались платить больше за лучший бренд. Теперь же все марки, в общем, неплохи, включая даже собственные бренды магазинов (по-видимому, дело в высоких национальных стандартах, обязательных для соблюдения всеми производителями). Зачем же платить больше, чтобы произвести впечатление на окружающих (за исключением особо престижных брендов, таких как Mercedes)?
В периоды экономической депрессии приверженность покупателя любимой торговой марке уступает место соображениям экономии. Лояльность клиентов — если она наблюдается — может быть связана просто-напросто с инерцией или отсутствием лучшего предложения. Как кто-то заметил, «двадцатипроцентная скидка лечит все».
Судьба брендов компании находится в руках ее брендменеджеров. Но Ларри Лайт, специалист в этой области, не считает, что они хорошо справляются со своей работой. «Брендам, — сетует Лайт, — нет нужды умирать. Но их можно убить. Дракулы от маркетинга высасывают из них все жизненные соки. За бренды торгуются, их принижают, обменивают и портят. Вместо того чтобы управлять тем ценнейшим активом, которым является бренд, мы совершаем самоубийство бренда, нанося ему раны из-за излишнего внимания к ценам и сделкам».
Порой деятельность структур, осуществляющих управление брендами, начинает противоречить практике эффективного взаимодействия с клиентами. Бренд-менеджеры могут сосредоточить все свое внимание на продукции и марке, совершенно забыв о потребителе. Можно назвать это близорукостью брендменеджмента (Brand management myopia — термин построен по аналогии с marketing myopia (название знаменитой статьи Теодора Левитта, которое было переведено на русский язык как «маркетинговая близорукость»). — Прим. ред.).
Маркетологи Хайди Шульц и Дон Шульц пишут, что модель, выработанная для продуктов массового спроса, все меньше подходит для построения бренда. В особенности это верно в случае сервисных и технологических фирм, финансовых организаций, В2В-предприятий и даже B2C-предприятий (Schultz, Heidi F., Schultz, Don E. Why the Sock Puppet Got Sacked. // Marketing Management, 2001, July-August. Pр.
- Компании должны уяснить основные корпоративные ценности и строить корпоративный бренд. Такие компании, как Starbucks, Sony, Cisco Systems, Marriott, Hewlett-Packard, General Electric и American Express, создали сильные корпоративные бренды, которые стали для потребителей символом качества и ценности их товаров.
- Компании могут и должны использовать бренд-менеджеров для решения тактических вопросов. Однако успех бренда в конечном итоге будет зависеть от того, сумеют ли все работники компании принять соответствующие корпоративные ценности и жить в соответствии с ними. Все более значимой для формирования бренда становится личность руководителя — примерами могут служить Чарльз Шваб или Джефф Безос.
- Компаниям нужно разработать более четкие планы построения брендов, чтобы обеспечить формирование позитивного потребительского опыта при любых контактах с клиентами (включая презентации, семинары, новости, телефонные разговоры, электронную почту, личные контакты).
- Компаниям необходимо определить ту базовую сущность, которую несет в себе бренд при каждой продаже. Вариации допустимы в той мере, в какой они не противоречат этой изначальной сущности и сохраняют ощущение бренда.
- Выработанное в компании понимание ценности бренда должно быть основой для ее стратегии, текущей деятельности, услуг и разработки новых продуктов.
- Оценивать эффективность построения своего бренда компании должны не по устаревшим критериям осведомленности, узнавания и отклика, а по более обширному набору показателей, включающему воспринимаемую ценность, степень удовлетворенности клиента, затрачиваемую на товар долю дохода, постоянство клиента и одобрение клиента.
О книге Филипа Котлера «Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер»