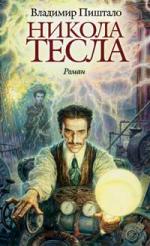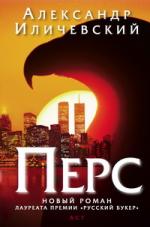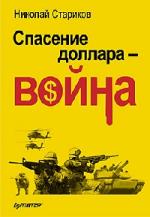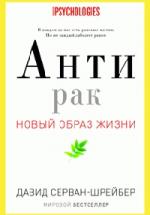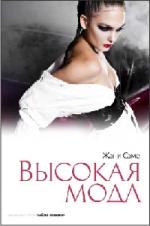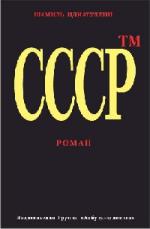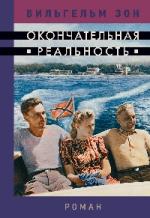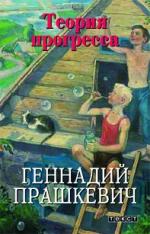Отрывок из романа
ОТЕЦ
Чудный феномен
Что есть этот мир?
Что есть причина бытия?
Подобные мысли, словно котята, резвились в голове Милутина Теслы. Неизбежно он приходил к последнему, страшному вопросу — что есть что? Тут мысль угасала, и у священника начинала кружиться голова.
— Мысль человеческая есть практический инструмент, — заключил Милутин Тесла. — Мысль как пила, созданная для того, чтобы пилить деревья. На пиле можно играть с помощью смычка, но не в том цель ее создания.
Ученикам он советовал выбирать подходящий момент, чтобы перестать умствовать и принять решение.
— Я, например, — объяснял он, — готов был поступить в военную академию, но вовремя отказался и ушел в священники.
Сначала Милутин был назначен в Сень, город на семи ветрах, воспетый в народных песнях. В Сени он повторял прихожанам:
«И я прошу вас и советую ради вашей пользы, не будьте такими простыми людьми, коим же несть довольно разума, но воспримите тот народный дух прогресса, созидайте свое поведение на свободе, единстве и братстве…»
Жители Сени не слушали попа-просветителя. Они доносили на него. Обвиняли его в безумии и болезнях. Полагали, что таков он из-за своей болезни, и хотели уволить его. Поп отвечал им, что в окружении таких людей, как они, человек не может быть здоровым. — Думаете, меня здесь какая-то корысть держит? — язвительно спрашивал Милутин Тесла жителей Сени. — Да если мне отсюда в Бессарабию придется уехать, я ничего не потеряю.
Вместо Бессарабии попа Милутина направили в село Смилян в Лике. За все время службы в этом селе Милутин Тесла никогда не отказывался оседлать коня и отправиться исповедовать больного, даже если зимняя ночь отсвечивала волчьими глазами. После долгого пути поп спешивался, стряхивал снег с куньей шубы и входил в дом страждущего. Подходил к кровати, склонялся над умирающим и ласково шептал: «Теперь открой свое сердце и скажи все, что у тебя на душе, шепотом, потому как Господу слышнее слова, произнесенные шепотом». И грубые люди открывали сердце и рассказывали о своей жизни так, как никто и никогда о ней не слышал. Много чего из сказанного на исповеди поп безуспешно пытался забыть.
В занесенном снегом доме Милутин Тесла много читал. Читал о железной дороге, о Крымской войне и о новом стеклянном дворце, выстроенном в Лондоне. Для местной смилянской газеты поп написал текст о холере, которая, просочившись из Далмации, растеклась по Лике, как постное масло по столу. Он писал о «бесчисленных препонах», которые чинят радетелям народных школ в самых захолустных епархиях Карловацкой митрополии. В «Сербском глашатае» он описал «чудный феномен» атмосферного свечения, которое случилось как раз на Петров день. Феномен, писал изумленный Милутин Тесла, был похож на водопад из искр, одновременно далекий и близкий настолько, что его, казалось, можно было коснуться рукой. Оставив после себя в небе голубые полосы, водопад света исчез за холмом. При этом загромыхало так, будто рухнула какая-то огромная башня, и эхо долго блуждало по южному склону Велебита. После этого малого Божьего феномена звезды долго оставались «побледневшими». В то время как это явление вызвало в простом народе разные толкования, более умному наблюдателю (очевидно, самому Милутину Тесле) было жаль, что он не смог вдоволь насмотреться, «поскольку это явление Божьей природы длилось ровно столько, сколько хватило бы человеку времени, чтобы, так сказать, хлопнуть в ладоши».
Явлению предшествовала тяжкая духота, затем пошел дождь, но к вечеру небо прояснилось: «И был воздух прохладен, небо смеялось, а звезды были ясными, как никогда; вдруг сверкнуло с восточной стороны — и словно триста лучей протянулись на запад, звезды померкли и природа словно замерла…»
Парламент мира
Детям всегда становилось страшно, когда отец преображался. Готовясь к воскресной проповеди, Милутин запрещал домашним открывать двери в свою комнату. Из-за отцовских закрытых дверей вдруг доносился гневный бас. Потом слышался успокаивающий женский голос, сменявшийся истерическими криками. Слышавший это мог поклясться, что в комнате полно народу. Проповедь становилась театром. Джука Тесла и сыновья испуганно наблюдали, как Милутин взаперти ссорится сам с собой, меняя голоса. Дочери тоже никогда не отваживались открыть двери, потому что боялись увидеть преображенного отца с незнакомым лицом. За обычными дверями, неожиданно ставшими таинственными, поп шептал на немецком и кричал на сербском. Шипел на венгерском и препирался на латыни. На фоне всех этих голосов некто бубнил на церковнославянском.
Был ли это еще один «чудный феномен», который следовало объяснить? Неужели это смилянский святой Антоний беседовал со своими соблазнами? Был ли он одинок? Неужели этот изолированный полиглот воображал, что он стал — парламентом мира? Или он заучивал проповедь как драму, в которой он сам был и трагиком, и комиком, и хором?
МАТЬ
Искра в камне
Сыновья Никола и Данила слушали, и глаза их светились. Мама, пока тощая куриная голова билась в ее руках, загадывала загадки:
— По лесу идет — не шуршит, по воде идет — не баламутит. Что это такое?
— Тень! — отвечал Данила, как всегда опережая Николу.
— Кто воду не любит? — продолжала мама.
— Кошки и часы! У младшего сына самыми любимыми были сказки «Правда и кривда», «Что черт творит, когда притворяется добрым» и «Ученик чародея». В последней дьявол спрашивает ученика, научился ли он чему-нибудь, и тот отвечает: «Нет, даже то, что раньше знал, — позабыл». Никола любил сказки, потому что в них дурачок младший брат всегда был главным. Джука воспитывала его и Марицу на сказках:
— Путешествуя по миру переодевшись нищим, святой Савва пришел ко двору богатого Гавана, у которого было добра много…
Глаза у Николы слипались. Он парил на границе сна.
…И тогда святой Савва перекрестил его посохом, и двор Гаванов превратился в озеро…
Живя со слепой матерью, Джука Мандич рано научилась всему по хозяйству. У нее не было детства, если не считать материнских сказок. Сама ткала полотно для одежды, заботилась о младшеньких. А холера, усугубляя страдания, растекалась по Лике, «как постное масло по столу». Пока отец Джуки причащал кого-то в окрестностях, у них поумирали ближайшие соседи. Девочка сама обмыла и одела пятерых.
Выйдя замуж, Джука взвалила на свои плечи еще один дом. Следуя греческим философам и многим другим здравомыслящим мудрецам, Милутин Тесла приговаривал:
— Там, где поп хватается за мотыгу, о прогрессе нечего и думать.
Церковные земли обрабатывала Джука с косоглазым слугой Мане.
— Не смотри куда глядится, а целься куда надо! — говорила она Мане, когда тот колол дрова.
Мама рассказывала Николе, что трутень оплодотворяет матку высоко в небе и тогда появляются новые пчелы, если, конечно, матку не съест ласточка.
— Ласточки и ежи — первые враги пчелам!
Однажды Никола упал и ударился лбом о стул. Мама поцеловала его, «чтобы не болело», погладила по шишковатой голове и, не переставая улыбаться, воскликнула:
— Удар искру из камня высекает, а без нее мне жизнь не в радость!
Если у него болел живот, она клала руку на его пупок и начинала тихо и ритмично:
Милый Боже, чудеса творящий, Как хотел жениться Милич-воевода, Да не мог красотки отыскать он, Все они ему не подходили, Вот и мучился без ласки он, несчастный…
Боль утихала, и мальчик чувствовал себя в полной безопасности.
Весь день Джука ходила в платочке. Утром просыпалась за два часа до своих. Садилась на кухне и открывала топку плиты. Никола, проснувшись, тайком смотрел, как она причесывается. Огонь сверкал в открытой топке и в щелях плиты. А Никола тайком… В свете живого огня мама становилась бронзовой. Мама превращалась в нечто иное. Никола тайком следил за ней.
Мамина жизнь была глубока.
Мамина жизнь была тиха, как падение дерева на горе, где нет никого, кто бы мог услышать этот гул.
Деревья
Она повернулась в сторону поросшей лесом горы Богданич:
— Слышите?
— Что?
— Как на Богданиче деревья разговаривают?
— О чем?
— Весной березы вздыхают: «Когда мы сбросим ледяные оковы?» — «Потерпите, — поучают их глубоким голосом сосны. — Через три месяца мы сбросим ледяные панцири, а вы, березы, развернете первые молодые листочки».
— А что еще говорят? — спросил Никола.
— Утренняя звезда откроет солнечные врата, — попискивают березы. — Из врат выедет бог Ярило и скажет матери-земле: «Земля сырая, возлюби меня, бога Солнца, стань моей драгоценной, и я покрою тебя смарагдовыми озерами и златыми песками, зелеными травами и быстрыми ручьями. И птицами, и плодами, и красными и голубыми цветами. О! И родишь ты мне детей без числа!» Лучи весеннего солнца и журчание воды приветствуют его первыми листьями.
Никола внимательно выслушал, но потом рассмеялся:
— Нет, не так! Ты обманываешь меня.
Вместо басен о животных мама часто рассказывала им о растениях. Она хорошо знала травы и утверждала, что редко какая былинка стоит сама по себе, обычно с ней чья-то душа связана. В вязах, елях и ясенях, например, обитают вилы.
— А откуда берутся вилы?
— Вилы возникают из травки безвременник осенний, — с готовностью отвечала мама. — Потому парни и опасаются топтать эту траву. Я расскажу тебе, как выглядит безвременник, чтобы ты ненароком не растоптал его.
— А где живут вилы?
— Я же тебе сказала, на каких деревьях. Еще тис — дерево вилы. Он растет только на чистом месте, — ответила Джука.
— А сколько вилы живут? — не унимался Никола.
Мама пожала плечами:
— Вилы питаются семенами чеснока и живут, пока им жизнь не наскучит. И тогда они эти семена бросают и безболезненно умирают.
Никола гордился тем, что его мама знает так много, словно сама когда-то была вилой. Он так и не понял, почему отец злится, когда слышит эти рассказы о мире, полном светящихся душ, где растения так похожи на людей. Тогда он еще не понимал, что эти волшебные рассказы не просто о вилах и растениях, но о богах, которые старше самого Бога.
— Если поблизости нет церкви, можно молиться под елью или липой, — советовала мама Даниле и Николе.
Мама создала мир, а потом явился отец, чтобы описать его в книгах. Слушая ее рассказы, он морщил нос. Он не мог понять, почему эти предания сохранились в роду, в котором было так много попов.
— Да брось ты это, — бормотал Милутин. — Оставь зло — возьми добро. Откажись от болестей и печалей и прими здравие.
О книге Владимира Пиштало «Никола Тесла. Портрет среди масок»