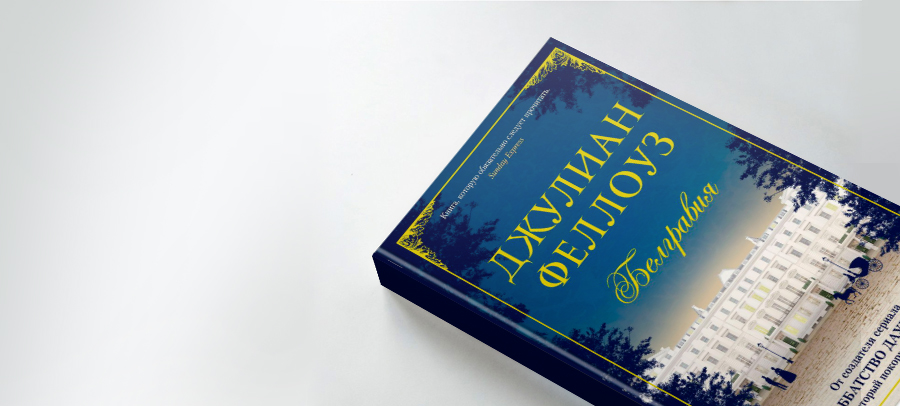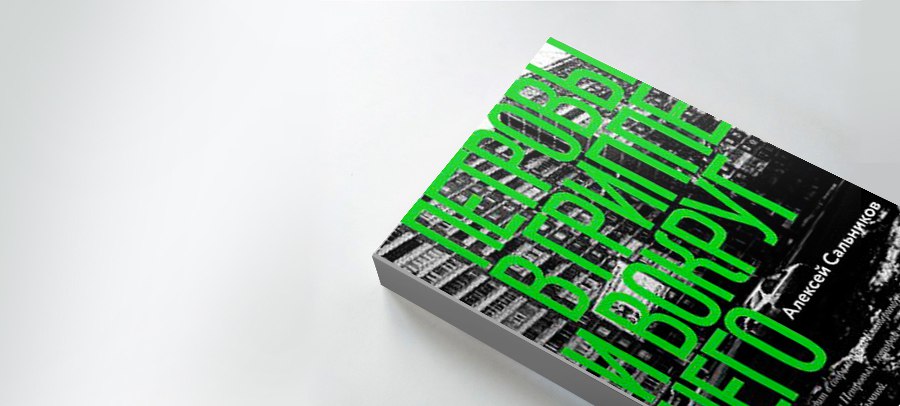- Филипп Майер. Американская ржавчина / Пер. с англ. М. Александровой. — М.: Фантом Пресс, 2017. — 512 с.
«Американская ржавчина» — дебютный роман Майера (автора «Сына»). Это книга о потерянной американской мечте и современном отчаянии, о дружбе и верности, о любви, что вырастает на обломках разрушенной жизни, история о неуверенности в себе и в стране, о мрачной реальности, превозмочь которую можно лишь на очень личном уровне. Роман был встречен в Америке с энтузиазмом, Майеру выдали огромное количество авансов, которые он и оправдал «Сыном». Позднее он заявил, что «Ржавчина» и «Сын» — это две первые книги трилогии, которая по его задумке должна стать ретроспективным портретом Америки в моменты, когда ее история надламывается и меняет направление.
4. ГРЕЙС
К югу от Бьюэлла шоссе уходило в сторону от реки, и глубокую тенистую долину прорезала узкая дорога, скрывающаяся в тени деревьев. Грейс ехала мимо заброшенных деревенек, разрушенных бензоколонок, опустошенных угольных шахт с огромными полями терриконов вокруг, похожих на песчаные дюны; серые и безжизненные, и никогда ни одно зерно не прорастет здесь. Старенький «плимут» поскрипывал, перебираясь с ухаба на ухаб, Грейс думала про Бада Харриса, так и не решив, стоит ли ему звонить, не сделает ли тем самым хуже для Билли. Только бы Билли не убил никого.
В последние годы ее настиг наследственный артрит, любая перемена погоды отзывались в суставах, теперь она могла шить лишь пять-шесть часов в день, пока руки не превращались в скрюченные клешни. Как-то раз профсоюзный хмырь рыскал по мастерской, вынюхивал, дожидался за дверями до закрытия, это он тогда предположил, что все дело в «туннельном синдроме» и артрит вовсе ни при чем. Травма — обычная история, говорил он, а вот артрит в вашем возрасте — маловероятно. К сожалению, профсоюзный босс махнул рукой на их мастерскую, потому что ни одна из женщин не захотела с ним разговаривать — знали, что тут же потеряют место. Да и не так уж плохо было работать у Штайнера. Грейс понимала, что из большой фирмы ее давным-давно попросили бы, c ее-то мудреным расписанием, а вот Штайнер позволял любые вольности. Гибкий график, так он это называл. До той поры, пока ты приносишь ему прибыль. Жалованье платил по браунсвилльским расценкам, а продавал ее свадебные платья в самой Филадельфии, по ценам мегаполиса, и постепенно разворачивал бизнес в Нью-Йорке. Но весь вопрос в том, насколько этого заработка хватит Грейс, — жизнь-то дорожает, а подработать можно только в «Волмарте», дешевых забегаловках или в «Лоу», и везде нужны здоровые руки, а платят гроши. Да еще надо дожидаться, пока освободится место. Получив работу, даже самую паршивую, люди держатся за нее. Год назад она попыталась устроиться к «Венди», ради эксперимента, но продержалась всего неделю.
Надо принимать реальность как есть. Вот и мать ее надрывалась в трех местах, пока к пятидесяти шести не заработала аневризму, но Грейс, в отличие от матери, предпочитала сохранить чувство собственного достоинства. А это означает, что от тебя не должно вечно нести прогорклым жиром и тобой не должны помыкать наглые подростки, да еще за жалкие пять пятнадцать в час. Нет ведь ничего особенного в том, чтобы жить с достоинством. В остальном она не многого требовала.
Грейс ехала в Браунсвилль вдоль реки, миновала несколько мостов, и вот уже центр города. С парковкой никаких проблем. Это раньше здесь кипела жизнь, а теперь глушь и уныние, десятиэтажные офисные здания опустели, кирпич и камень заросли копотью. В центре почти как в Европе, ну, по крайней мере, какой она видела Европу по «Трэвел Чэннел»: узкие извилистые улочки, мощенные булыжником, спускаются по склону холма и теряются среди домов внизу. Красота. Направляясь к старым складам, она прошла мимо небоскреба-утюга, на котором красовалась памятная табличка. Второе такое здание находится в Нью-Йорке, только там оно, конечно, не настолько заброшенное.
К часу дня руки заныли с такой силой, что стало ясно: пора прекращать. Слава богу, подумала она, сегодня суббота. Выходной вообще-то. Но, как обычно, почувствовала себя виноватой и задержалась еще, пока не закончила два длинных шва на платье, которое шила к свадьбе в Филадельфии. Платье продадут за четыре тысячи долларов — годовая рента за трейлер Грейс. Она пошла к Штайнеру поговорить, нервничая, как всегда — всякий раз готовилась услышать, мол, все, свободна, можешь больше не приходить. Но Штайнер — стройный, не по сезону загорелый, в рубашке поло, остатки седых волос зачесаны на макушку — улыбнулся, подняв голову, и сказал: «Поправляйся, Грейс. Спасибо, что пришла». Он не сердился. Он был доволен, что они все явились в мастерскую в свой выходной день, чтобы закончить выгодный заказ. Продолжайте зарабатывать для меня бабки, ага.
Еще не выйдя на улицу, она уже вовсю мечтала о горячем полотенце, которым обернет руки, как только вернется домой, и тело ее обмякло в предвкушении, а Грейс подумала: а ведь это и есть старость, когда самое большое удовольствие — если ничего не болит. Она попрощалась с остальными работницами. В просторном фабричном помещении полы выкрашены белой краской — ради чистоты, здесь слишком много места, им столько не нужно, а холод такой, что каждая держит под скамейкой обогреватель. Они работают с дорогими тканями, это вам не джинсы шить. Дженна Херрин и Виола Графф бросили дружеское «пока», другие кивнули или приподняли мизинец. Все знали, сколько стоят платья в магазине, но предпочитали об этом не рассуждать; их работу запросто могли выполнить за пару долларов в день где-нибудь в Южной Америке. Может, качество будет и похуже, но ненамного. Просто Штайнер слишком стар и ленив, чтобы заводить там производство.
Она спустилась на грузовом лифте, медленно побрела по узким улицам, вечно скрытым в тени пустых высотных зданий, постепенно выбираясь к солнечному свету. Дойдя до вершины холма, где стояла припаркованная машина, она уже запыхалась. Оттуда открывался роскошный вид: зеленая долина, холмы, река, пробившая себе путь между крутых утесов. Грейс задержалась, разглядывая длинный караван барж, не меньше дюжины, ползущий под двумя высокими мостами, переброшенными над тесниной. Прекрасное место для жизни. Но пейзажем не заработаешь, и вообще Штайнер в любой момент может перенести бизнес куда-нибудь еще.
В прошлом году она наведалась в университет в Калифорнии, городке за рекой, посоветовалась с куратором, он прикинул, что до бакалавра ей учиться четыре года — если по вечерам, по два предмета в семестр, и она вообще не уверена, что потянет. И чем платить за обучение? Кредит дают, если учишься очно, а она и так вечно опаздывает с оплатой счетов. Забудь, приказала Грейс себе. Живи безмятежно.
Она села в машину и направилась в Бьюэлл по лесной извилистой дороге. На скале, нависающей над трассой, стоял здоровенный черный медведь, густая весенняя шерсть лоснилась на солнце. Зверь лениво проводил взглядом машину. Да, медведи возвращаются в эти места, как и олени с койотами. Похоже, только у зверья дела идут прекрасно.
На окраине Бьюэлла, в широкой речной долине, все еще стояли старые заводские корпуса; она проехала мимо дома, в котором выросла, — полуразрушен, окна выбиты, черепица осыпалась. Грейс отвернулась. Она помнила, как звучал гудок, означавший конец смены, как улицы тут же заполняли толпы мужчин и встречавших их жен, еще двадцать лет назад жизнь в Бьюэлле кипела, даже не верится; никто и помыслить не мог, что все рухнет настолько стремительно. Грейс вспомнила, как подростком верила, что обязательно уедет из Долины, что не станет женой сталевара, — нет, уедет в Питтсбург или еще дальше. В детстве, бывало, выйдешь из школы, а воздух серый от копоти настолько, что зажигали фонари среди дня, и машины ездили с включенными фарами. И белье нельзя вывесить на улице — снимешь с веревки совсем черное.
Она планировала отъезд, ни о чем другом думать не могла. Но когда ей исполнилось восемнадцать, вернулась со школьного выпускного бала и обнаружила на дорожке перед домом новенький «пинто» и стопку зарплатных чеков. Чья это машина? — спросила она у отца. И тот ответил: твоя. В понедельник начинаешь работать в «Пенн Стил». Прихвати с собой аттестат.
И тогда, и сейчас — всегда находится мужчина, который все решает за тебя. Год она отработала в прокатном цехе, где и познакомилась с Верджилом. Потом забеременела, они поженились. Она иногда задумывалась, а не затеяла ли это, чтобы сбежать с завода. Впрочем, о чем тут думать-то. Едва выйдя замуж, она пошла учиться, сначала беременная, потом с младецем под мышкой. Но перед самыми экзаменами начались сокращения на заводе. Верджил продержался целых шесть заходов, но потом настал и его черед. В те времена, чтобы сохранить работу, надо было иметь солидный стаж — сначала десять лет, потом пятнадцать. У Верджила было пять. Он так гордился своим статусом квалифицированного рабочего — выбился в люди единственный из семьи, родня у него типичная деревенщина, из поселка-«заплатки», отец ни дня в жизни не работал.
Все полетело под откос. Они все ждали и ждали, пока заводы опять откроются. Но увольнения все продолжались, по всей Долине, а потом производство совсем остановилось, а у Грейс был маленький ребенок, и на этом ее учеба закончилась. И работы никакой, вообще. И ни гроша за душой. Кузен Верджила, оттрубивший девять с половиной лет на заводе, имевший приличную зарплату, чудесный дом с бассейном во дворе, он в один день потерял и дом, и жену, и дочь. Банк отобрал жилье, жена увезла дочь в Хьюстон, а кузен Верджила ворвался в свой собственный дом, взломав замки, и застрелился в кухне. Кого ни спроси в Долине — у каждого наготове похожая история, просто фильм ужасов. Вот тогда-то Верджил опять начал общаться со своим семейством. И стал потихоньку меняться. Постепенно приходил к мысли, что и сам он ничуть не лучше той грязи, из которой вырос.
Страшные времена настали. Трейлер изъяли за неуплату кредита, но тут люди принялись пикетировать распродажи имущества должников, держать винтовки в багажниках автомобилей, а как-то раз, когда коллектор принялся качать права и наезжать на шерифа, мужчины перевернули его «кадиллак» и подожгли. Чтобы предотвратить самоубийства, судья наложил мораторий на конфискацию имущества. А позже мораторий стал законом. Так им удалось сохранить трейлер, а кормились за счет благотворительной еды и оленей, которых незаконно добывал Верджил. Вот почему она не выносит даже запаха оленины. Два года они питались исключительно дичью.
Эти два года Верджил изучал робототехнику на курсах переподготовки, но в итоге знания нигде не пригодились — такой работы в городе попросту не существовало. Потом он нашел место на судостроительной верфи, где строили баржи, но и это предприятие закрылось — баржи и речные суда теперь клепали в Корее, где всем бизнесом заправляли наши правительственные шишки.
Жизнь в трейлере стала проклятием. Мы могли бы хоть переехать куда-то, размышляла она, начать все заново. Но трудно принять решение, понять, куда выгоднее ехать. Мужчины перебирались в Хьюстон, Нью-Джерси, Вирджинию, жили вшестером в комнатках мотелей и посылали семьям деньги, но в конце концов почти все вернулись. Уж лучше бедствовать и маяться среди своих.
Сто пятьдесят тысяч безработных не оставляли шансов на перемены к лучшему, но у них с Верджилом не было родственников в других штатах. Замкнутый круг: чтобы сняться с насиженного места, нужны деньги, но чтобы их заработать, надо переехать. Заводы стояли закрытыми, время шло, и в итоге почти все снесли. Грейс помнила, как люди приходили поглазеть, как взрывали динамитными зарядами новенькие, в двести футов высотой, доменные печи по прозвищу Дороти Пять и Дороти Шесть. Это было как раз вскоре после того, как террористы взорвали Всемирный торговый центр. Никакой связи, понятное дело, но отчего-то одно напомнило ей другое. Да, некоторые места и люди гораздо важнее других. На восстановление Бьюэлла и цента не потратили.
Грунтовка закончилась, и Грейс свернула к своему трейлеру. Верджил обещал быть дома к двум, а сейчас уже почти четыре. Опять не держал слова. Ты знала, что так и будет, напомнила она себе. Она позвонила в Кризисный центр для женщин в Чарлрой, сообщить, что на этой неделе не сможет поработать там волонтером, и ощутила короткий укол горечи, это была ее «линия жизни», спасательный трос, связывающий с остальным миром; там работали разные люди — учительница, пара юристов из Питтсбурга, финансовый аналитик. Вот кем она хотела стать, если бы смогла закончить образование, — социальным работником.
А почему бы и нет, подумала она. Даже если потребуется шесть или семь лет, ты могла бы начать прямо сейчас. Грейс прошла в кухню, приготовила согревающий компресс, сунула его в микроволновку, включила. Потом взяла стопку старых газет и разожгла огонь в печке — сначала растопка, сверху деревяшки потолще. Звякнул таймер, она достала из микроволновки свернутое полотенце, обжигающе горячее, дала ему остыть с полминуты, села на диван и обмотала руки теплой тканью. Сначала немного пекло, но уже через несколько секунд наступило долгожданное облегчение. Она откинула голову на спинку дивана и отдалась ощущениям. Это почти как секс. По телу разлилась истома. Грейс проваливалась в дрему. Она понимала, что рискует очнуться с холодным мокрым полотенцем на руках, но оно того стоило. Мечтала о Бадди Харрисе, что странно и стыдно сейчас, когда вернулся Верджил. Вибратор остался под кроватью у Бада, они несколько лет то сходились, то расходились, дважды она чуть было не ушла от Верджила к Баду, но в итоге не решилась, он был такой нескладный, неуклюжий тихоня, какая с ним может быть совместная жизнь. Или она просто использовала беднягу Бада? Хотя нет, вряд ли. Десять лет назад он стал шефом полиции, но, как сам всегда говорил, это не то же самое, что быть полицейским комиссаром в настоящем городе, у него в подчинении было всего шесть офицеров, да и то из-за всех этих финансовых кризисов половину из них пришлось отправить в отставку. Как бы то ни было, она все еще думает о нем; они с Верджилом расставались столько раз, она встречалась с дюжиной других мужиков, но вот почему-то продолжает вспоминать только старого доходягу Бада Харриса.