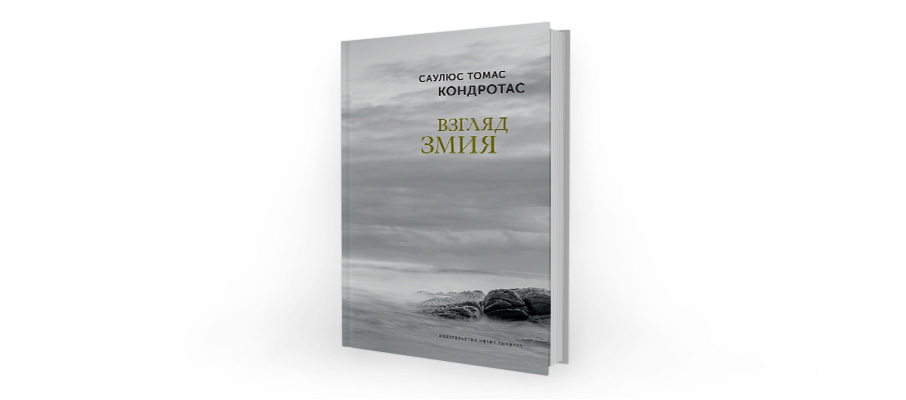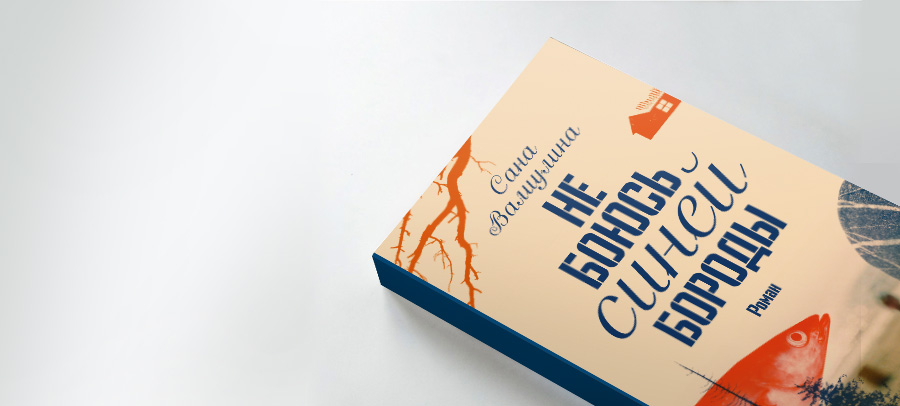АРТЕМ НОВИЧЕНКОВ И КИРИЛЛ КОРЧАГИН:
— Прозе Сергея Соколовского свойственна многозначительная недоговоренность, причем ироничная, насмехающаяся над обилием смыслов современного мира.
В то же время это полемическая проза, которая борется со старым русским романом и продолжает опыты Уильяма Берроуза, который разрезал страницы текста и склеивал их в новой последовательности. Правда, Соколовский не режет и не склеивает — только умалчивает, обрывая себя там, где должно вроде бы начаться самое интересное. Он словно обращается к читателю: опомнись: тот, кто обещает раскрыть перед тобой все тайны мира, если ты перелистнешь страницу, обманщик — на самом деле на следующей странице ничего не будет, так же, как нет ничего и на предыдущей. Все попытки найти ключ заведомо обречены на провал.
Для Соколовского все ключи фальшивы или, напротив, любой из них открывает любую дверь, что приводит к тем же результатам: ничто в прошлом не может быть объяснено. Возможно, ближе всего проза Соколовского к тем направлениям современной философии, которые настаивают, что миром правят совпадения, и в них нет никакого смысла — лишь пустота.
Каждый из текстов Соколовского озадачивает. Вроде бы перечисление множества деталей не служит никакой цели, а причудливые мотивации известных исторических событий сменяются, на первый взгляд, малозначительными деталями биографии автора. И после прочтения текста сложно сказать, о чем он.
Это свидетельствует о тщете письма, неспособного проложить дорогу среди разнообразия мира, и о невероятном богатстве реальности. Для героев Соколовского, стремящихся раствориться в долгих блужданиях с неизвестными целями, мир всегда оказывается больше их. Но они не боятся и не восхищаются им — они пытаются настроиться на его волну, двигаться вместе с миром. И именно эта способность полностью отдаться чистому проживанию находится в центре прозы Сергея Соколовского.
СУЭЦКИЙ КАНАЛ (RED ARROW EDITION)
ТРИ КРОНЫ ДЛЯ КСЕНИИ
Хакон VII, взирающий с аверса. Реверберация реверса, реверсная, как ещё говорят. Письмо в Берген, не только не начатое, но даже не адресованное толком. Может быть, А., а, может быть, Г., чьи имена так или иначе связаны с теми или иными сакраменталиями. В первом случае речь идёт об одном из общих собеседников, во втором — об экспонате геологического музея.
Вымерших просторечий — как здорово всё разложено! — не слишком много в тесных рамках отрывного календаря, но и за то нам следует выразить самую глубокую благодарность. Раздвоенный хвост льва с печати Пржемысла Оттокара II, основателя Кёнигсберга, символизирует в том числе благодарность.
Третья из тех датских крон, что необходимы для участия в навигации, будет третьей и здесь, после норвежской и чешской.
КУСТЫ
Мы жили на улице, названной в честь маршала, которого сошедший с ума сосед считал нашим родственником. Впоследствии выяснилось, что он не ошибался, просто в семье не было принято об этом говорить.
Перебравшись в начале 2000 года в Петербург, я словно бы вернулся в свою тогдашнюю обстановку: Морис Дрюон за стеклом серванта, оранжевый абажур, какие-то кусты во дворе. Кусты, впрочем, были везде, где мне приходилось жить когда-либо.
Даже здесь есть кусты. В колонках на полную громкость голос покойного Славы Шатова: «На планетарную свалку не приходит весна / это выше её сил, уверяет она / значит самых слабых уже ничто не спасёт».
«Человек отъединённого сознания, глухого такого, любящего такие же протяжённые во времени вещи, при этом полностью сформированный извне», — пишет Виктор Iванiв об одном из своих знакомых.
ПОЧТАМТ
Иконы русского авангарда, иконы стиля.
— На волне твоей памяти?
— Нет, по волнам нашей памяти.
Сворачивая в Фонарный переулок перед зданием ГУВД, хотя сейчас я уже не очень твердо уверен, точно ли это здание ГУВД, быть может, это какое-то альтернативное силовое ведомство. За то время, что мы здесь находимся, никакой активности электронного табло не наблюдалось.
Почтамт вообще не для этого. Дело здесь даже не в том, что придётся возвращаться назад целому ряду писем, дело в том, что каждому — вдумайтесь, каждому! — придётся рано или поздно возвращаться назад.
Шесть или семь ночных — по истощению сил — вывесок: тот случай, когда избыток снега не исключает определённой игривости правил, игривости правосудия.
— Фемиды?
— Да, в том виде, в каком она стоит на здании Верховного суда Российской Федерации: без повязки на глазах и с щитом вместо весов. Почта России в этой плоскости гораздо скромнее.
На волне чужой памяти, вот что следует знать! Абсолютно чужой; настолько не имеющей лично к кому-либо отношения, насколько голубое небо не ладит с неожиданно заработавшим электронным табло.
ПЕНТАЛГИНОВЫЙ ОКЕАН БОЛЬШОГО ПРОСПЕКТА
Дельфин. У тебя часто бывают сильные головные боли. Дельфин на стене того кафе на Петроградской стороне, где ты проглатывал пенталгин под жареную картошку.
Тебе сказали, что с девяти до десяти утра в новом «Сайгоне» продают кофе по ценам старого «Сайгона». Двадцать семь копеек — у тебя только двадцать четыре. Спустя месяц, девятого апреля, ты находишь в грязи позади Гостиного Двора советскую трёхкопеечную монету, значит, полный комплект, и ты идёшь, но обнаруживаешь, что новый «Сайгон» перешёл в другие руки и экзотическая услуга отменена. После — пешком на Матисов остров.
Обогнув бензоколонку, вокруг которой бегают крысы, ты проходишь по набережной до того места, где твой путь упирается в запертые ворота. И у тебя есть фотоснимок, где ты стоишь у этих ворот уже с другой стороны, но и день уже другой, поэтому лишний раз вспоминать о действиях, которые ты мог совершить, но не совершил, как-то, наверное, неохота. Дельфин был великолепен, обувь была совсем никуда, вся в соли.
ВРЕМЯ УЖИНА В БОЛЬНИЦЕ «ХАДАССА»
Последняя сигарета, пожалуй что, была лишней. Выкурил полпачки, медленно перемещаясь от Виа Долороза к автобусной остановке на Кинг Джордж, и чувствовал, что сердце его подводит. Не стоило выходить из комнаты, не стоило вообще сюда приезжать, чтобы подарить себе бессмысленные обрывки чужой памяти, боли, чужих надежд и разочарований. Как минимум, не стоило следить полдороги за человеком, чей силуэт показался ему знакомым. Мог бы иным способом развлечь себя.
Или не мог: гложущая тоска закоренелого северянина слишком смешна, если смотреть на неё со стороны. А он уже видел себя со стороны, медленно оседая где-то между проезжей частью и вертикальной поверхностью стен, привлекая к себе внимание, улыбаясь слишком уж нехорошей улыбкой, механически перебирая в кармане мелочь, чтобы заплатить за проезд. И как-то выровнялся, и даже достал телефон, чтобы посмотреть время, и всё же выронил его на мостовую, и почуял стойкий аромат катастрофы. И говорил сердцу Иерусалима, и сердце Иерусалима отвечало ему.
АНЕЧКИН МОСТ
На Анечкином мосту вместе с ним лежала. В одном отделении. Перебрался поближе к коням. Он хотел бы начать сначала, здравствуйте! Как-то обрисовать обстановку, охватить детали. Аккуратный по-своему человек. Тебе нужно сказать только одну вещь? Вижу, что тебе крайне важно быть правильно понятым. Ты хочешь долго рассказывать, что по-другому просто не могло быть, верно? Он поселился на Фонтанке в марте, а на Суэцком канале в десяти шагах жила — верно, Анечка. Молодые интеллигентные люди, что их и сгубило, а вовсе не медленный. Запомни это, сынок, запомни. Общее отделение почему-то было. Может, решили слить, как школы при Сталине? При Сталине же? Как ты думаешь, мы жили при Сталине? Мы, четверо всадников Анечкиного моста?
В РАСТРЁПАННЫХ ЧУВСТВАХ
В ту ночь, которая не оставила тебе возможности выжить, я дежурил в зимнем саду. Охранял набор из других предметов.
— Следы от этого до сих пор заметны!
— «Установка» само по себе мерзкое русское слово, то ли дело «печь», или какие там сети притащили мертвеца, тятя. Мы были нежны друг с другом, и за этим стоят тысячелетия ненависти.
— Не стоят за этим тысячелетия ненависти. Вообще ничего ни за чем не стоит, здесь давно переделали пространство на новый лад: так, что ничто ни за чем не может стоять.
Набор из других предметов: аптечка, косметичка или пенал.
ЛИХОРАДКА ПРИХОДИТ В КИРЬЯТ-ШМУЭЛЬ
Многое упадёт в пропасть. И пустые надежды, и ложные обещания. И сделанная красивым женским почерком надпись на спичечном коробке из итальянского ресторана: «Андрей — держи хуй бодрей». А перед этим башни тамплиеров, конечно же.
Можно было об этом не говорить в XXI-то столетии. Мне приходилось работать с рукописями, и теперь у них странноватый запах. Глядя на происходящее, думаю, что дератизация по образцу Гаммельна потерпела полный и окончательный крах. Только не «глядя на происходящее», нет, ни в коем случае; что-то абсолютно другое, «судя по всему», например.
Судя по всему, крах.
Здесь может быть продолжение, но для этого нужно иметь другую душу. С другими интерьерами, с другим внутренним освещением.
КАПИТАН ШКОЛЬНОЙ ПОХОРОННОЙ КОМАНДЫ
Александр Скидан, Саша, ты должен помнить, как читал в ГЦСИ на Зоологической улице в декабре 2016 года, — про тёмную Пряжку. Сразу подумал, что это про больницу на Матисовом острове. Часто упоминался этот остров в те дни. Адмиралтейские верфи, они ведь там же?
Наверное, рассказ вовсе о чём-то другом по первоначальному замыслу. Но уж так вышло, что про Пряжку. «Не называйте поражение одной из эффективных практик» — в четверг. «Почти у каждого насекомого своя стратегия» — в пятницу. Вполне органично. Подарил-таки Кириллу Широкову клубок белых ниток перед началом. Узнал много нового про сериал «Зачарованные». Удовлетворён новым знанием. Удовлетворён даже тьмой. Даже не тьмой.
ВСТРЕТИТЬ ВИТЮ IВАНIВА НА ЛЕНИНГРАДСКОМ ВОКЗАЛЕ
За те долгие два с лишним года, что прошли после его смерти, я так и не смог решить, в какой степени к ней причастен. Целый ряд жизненных, биографических и литературных обстоятельств, каждое из которых могло сыграть свою роль. В совокупности — несомненно сыграло. Главную роль или второстепенную, а если второстепенную, то насколько, — жутко об том говорить в предисловии. В рецензии — тоже жутко.
Алексей Дьячков, которому я немного помогал на определённом этапе работы, сказал, что не будет большого греха в том, если я напишу рецензию на книгу, которую готовил к печати. Сам так не думаю; но, с другой стороны — какая это рецензия. Это что-то другое явно. Без долгих рассуждений о том, что перед нами собрание прозы, опубликованное после смерти автора.
СУБСТИТУТ ЭМЕК РЕФАИМ
Взвешен и найден необычайно лёгким: файл лица, солдата яйца, музыка глухого ишака.
Взвешен и найден весьма нелёгким: переходный файл перемещённого лица. Временный способ добраться сюда, до этого места, увидеть бесплотных духов, потерять равновесие, да и самому стать призраком здешней долины.
ВЛАДЕЛЕЦ НЕСКОЛЬКИХ КОПИЙ
Здесь, в этом лесу, если только это лес, я копирую самые разные вещи. Фотоснимки, программное обеспечение. Не знаю, зачем это может понадобиться, но, по крайней мере, начать я начал.
Вспоминаю населённые пункты, в которых мне приходилось быть. Это и густонаселённые города, и хутора в два-три дома. Не знаю, как это связано с процессом копирования; думаю, что никак.
Один фотоснимок обратил на себя особое внимание. Решил сделать копию, но потом передумал. Решил просто оставить его себе. Вроде как на память. Редко оставляю что-либо в этом качестве, но тут дал слабину. Можно сказать, согрешил. Точнее, нельзя сказать по-другому, именно — согрешил, оставив фотоснимок себе на память.
Сейчас я испытываю невыносимую боль. Кажется, сама природа решила вытянуть из меня последние жилы. Не знаю, что в этом случае значит — жилы. По правде говоря, и не хочу знать. Более того, уверен, что никогда и не узнаю. Никогда не узнаю по той причине, что просто не хочу знать.
ПОД ПАЛЬМОЙ
— Говорят, в этом году миндаль зацвёл чуть раньше обычного.
— Чуть позже. На пороге потери бесчестия.
— Чуть раньше. Если верить календарю. Чуть позже. Чуть раньше. Чуть позже. Маятник. Качели. Колонки, коллаборация, коммунизм. Коммунизм — лишнее?
— Колхозы пропустил. Правильнее так (да, и алфавитный порядок): коллаборация, колонки, колхозы, коммунизм.
— Должна ещё «компартия» стоять в этом списке сразу после «коммунизма». Всего пять слов, по числу лучей пятиконечной звезды. По слову на луч.
— Давай ещё одно слово добавим.
— «Киббуц» на шестую позицию? На первую из шести, если строго по алфавиту?
— Да, по алфавиту, обязательно по алфавиту! Кириллический сегмент интернета ведь так и устроен! Скорее наподобие Кирилла Медведева, нежели наподобие Кирилла Фролова. Если есть ещё потребность в детальном объяснении.
Всё, что в итоге помню, — безумный старик на улице Карлибах. Но, так или иначе, на все вопросы я тогда ответил. Кому ответил, почему (почему вообще это произошло) — слишком долгая история. Слишком долгая.
— Да, история затянулась. Самое время поставить в ней точку. Самую последнюю точку.
На Суэцком канале блеснут огоньки, и дорогу штыком перегородит часовой.
Иллюстрация на обложке: Hannah Warren