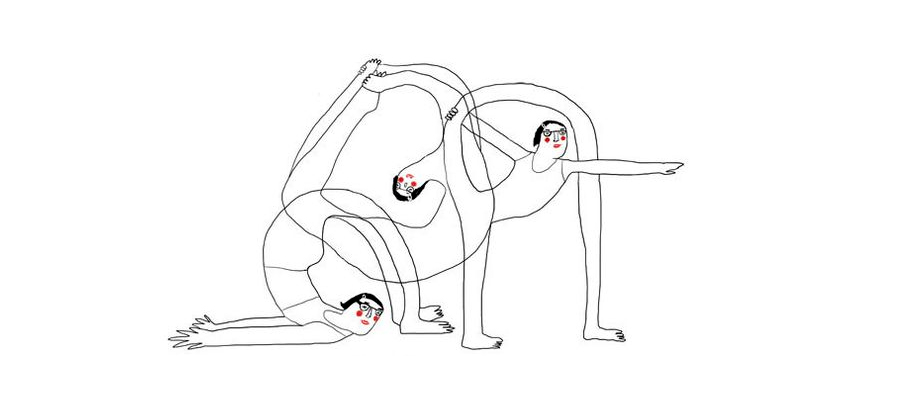Сергей Шпаковский родился в 1990 году. Живет в Москве. Книжный обозреватель, редактор. Работал с «Книжным обозрением», «Свободным доступом», «Литературой», «М24». Пишет для It Book, «Прочтения», «Союза».
Рассказ «Просветление» публикуется в авторской редакции.
ПРОСВЕТЛЕНИЕ
Надо бы что-нибудь изменить. Бросить курить или начать. Или прийти на занятия, предположим, какие-нибудь. Ну, на йогу, например. Вот позанимался — и то сделал, и это. Преподаватель такой хороший. И говорит хорошо. О добром, светлом и вечном. Выходишь ты такой из зала и думаешь, как же хорошо жить. И жизнь хороша. И настроение, прости Господи, улучшилось. Ходишь ты такой потом по улицам, улыбаешься прохожим. И так тебе хорошо. Рассказываешь всем — мол, очень хорошо. И практика хорошая, и преподаватель отличный, и результат прекрасный. А после приходишь на работу. И снова все так себе. Не ужасно, конечно, но и не восторг. Но вот рабочий день, значит, кончился. Приходишь, значит, домой. Звонишь. Кому-нибудь там, на другом конце.
— А я вот сегодня на йогу ходил первый раз.
— И как?
Спрашивают, нужно отметить, из вежливости. Потому что все уже ходили, только ты не ходил. Ну а ты им такой рассказываешь, значит.
— Ну как? Понравилось очень. Отличный тренер. Тело хоть свое начал чувствовать.
— Хорошо, — говорят с другой стороны.
— Ну и настроение сразу отличное. В восторге прям.
— Хорошо, — говорят с другой стороны.
— Думаю покупать абонемент. Не так уж и дорого. Всего ?*№ в месяц. А если по одному уроку оплачивать, то :$& за полтора часа.
— Хорошо, — говорят с другой стороны.
— Ну а ты что думаешь?
— Хорошо, — снова произносят там, где-то.
Поговорил вот ты значит с кем-то в Северном Чертаново, хотя сам в Алтуфьево. Поговорил вот, а удовольствия не получил. Хотя утром на йоге, когда медитировал, казалось, что весь мир любишь. А вот теперь поговорил с Южным округом и уже не уверен, что любишь хоть кого-нибудь. И звонишь еще куда-нибудь. Можно даже и в Петербург позвонить. Или в Саратов, например. Правда они там все уже йогой позанимались. Вообще все. И там, и там тоже. В Пермь можно набрать — есть там один дружок. Он точно не занимался.
— Привет. Ты как там? Все дома сидишь? Лентяй. А я вот на йогу сегодня ходил.
— На йогу?
— Ага.
— И как?
Надо отметить, что дружок в Перми спрашивает только так, из вежливости. Друзья все-таки. И служили вместе, и работали, может быть даже в детский сад один и тот же ходили. Ты в 15-ый, и он в 15-й. Только ты тут, в Москве, а он там, в Перми. Но номер один и тот же.
— Ой, знаешь, отлично. Отлично с большой буквы! И тренер прекрасный, и занятия восхитительные.
— Понятно. А что за тренер?
— Да ты не знаешь. Игнатом зовут. Но ты не знаешь.
— Это такой с хвостом? Ну блондин лет наверное тридцати. С хвостом. На ноге еще татуировка с каким-то иероглифом. И на запястье что-то на латыни.
— Ну да.
— А я у него в Новосибирске учился. Он так себе. Третьего плана преподаватель. Бывали и получше.
— Ты что, тоже йогой занимался?
— Ну да. Все же уже занимались.
Так вот. В Перми даже ленивые уже пробовали йогу. Один ты ничего не пробовал. Надо бы кофе себе сварить, а то грустно даже как-то. А ведь казалось, что лучше некуда. На занятиях то думал, что все — просветление, озарение, нирвана. Оказывается, даже ленивые уже практикуют. Только ты еще нет.
Но надо же с кем-то поделиться. Тем, как было утром хорошо. Приехал в соседний район, прошел 170 метров от метро до здания, где находится школа, зашел в школу, проводили в раздевалку, показали где зал, началось занятие и как сразу стало хорошо. И вот только потом, через три часа, когда уже пришел на работу, вот тогда стало по-настоящему не очень. Не ужас, конечно, но уж точно не восторг. Хотя ничего, вроде справился. Надо с кем-то поделиться. И вот звонишь, значит, в Краснодар. В Краснодаре хорошо. Ты там был и тебе понравилось. Там должны оценить — раз тебе понравилась и йога, и город Краснодар, и жители города тоже ничего так, значит другу в Краснодаре должна понравиться новость про твои занятия йогой. Обязательно.
— Да, вот на йогу сегодня сходил.
— Молодец, и как тебе?
— Отлично. Прям полтора часа чистого удовольствия. Прям рай на земле. Восторг прям, короче.
— Ну, хорошо.
Вроде в этот раз искренне. Может быть друг в Краснодаре еще не занимался йогой.
— Думаю брать абонемент.
— Конечно бери. Я вот первый раз сходил на йогу год назад и сразу взял абонемент на год. Так там у меня все включено было — и кундалини, и хатха, а еще аква-йога, акройога и сеансы утренних медитаций.
Вот и в Краснодаре дружок не отстает.
— Ну понятно. Тогда точно возьму абонемент.
— Ну давай. Но только ты учти, что не йога делает меня таким бодрым. Не допускай моих ошибок, иди сразу на цигун. Будешь потом как «Железный кулак».
Поделился своим счастьем значит. Оказывается зря. Оказывается и счастья никакого не было. Потому что йога — это не цигун, а цигун — не йога. А ты должен быть как «Железный кулак». И вот изучаешь ты значит интернет. Есть такие школы, ага. И даже от работы не далеко. Очень удобно. Оооо. А какой зал. Очень красивый. Мммм. Тренеров так много, все такие «как надо». Ну, правильно, мастера же. Должны быть как надо. Хотя там все как надо. Восторг прям. Надо сходить к ним, ага. Записаться на занятие онлайн, клик, почта, пароль, галочка, согласен получать уведомления, на вашу почту было отправлено письмо, клик, ваша регистрация успешно пройдена, подтвердите пароль.
Сходил, значит, на урок цигун. Очень конечно понравилось. Сразу начали изучать форму. Форма — это когда подряд, как в связке, делаешь движения. Вот так, да. И еще дышишь так, ага. Очень интересно. Почувствовал себя сразу так хорошо. Лучше и не придумаешь. Теперь главное, чтоб на работе все было нормально, без проблем. Приходишь, снимаешь плащ, садишься на стул, звонят—звонят—звонят. Из Брянска звонят, из Лондона письмо пришло, потом еще из Хайфы набрали, а потом пришлось самому звонить в Киев, Ереван и Вену. И некому даже рассказать, как было хорошо на уроке. О том, как тебе понравился цигун даже никому сказать нельзя. Как это так? У них там совещание в Израиле, одновременный запуск продукта в Армении и Украине, сбой поставок в Австрии, в Брянске просто номером ошиблись, а ты им такой про занятия свои, у тебя, понимаешь ли, то йога, то цигун. Так глядишь… Оп, звонят из Краснодара. Дружок соскучился.
— Короче, ты был прав. Цигун еще лучше.
— Я же говорил. Я в таких вещах знаю толк. Я когда только-только пришел на первый урок по боксу понял, что надо тело прокачивать разными способами. Ну вот сейчас тайчи изучаю. Но цигун мне больше понравился. Я до сих пор хожу. А йогу дома сам практикую. Тоже хорошо.
— Ага. А как ты на бокс попал?
— Да школа в соседнем доме открылась.
— Понятно.
— Ну ты смотри. Еще очень полезно на айкидо походить. Мне очень понравилось.
— Ого, ну я попробую.
— Попробуй.
— Ага.
Вот, звонят. Помнят. Хорошо, нужно будет и на айкидо посмотреть. Это он дело говорит. Надо попробовать. Вот и из Перми звонят.
— Да, привет! А я уже купил на йогу абонемент и даже разок на цигун сходил, — говоришь ты, — теперь планирую на айкидо посмотреть.
— Ого.
— Ага.
— Ну круто, что я тебе скажу.
О, вроде тоже поддерживают. Это хорошо. Вот и день закончился. Надо бы домой пойти. Дома в интернете надо посмотреть, где есть школы айкидо. Наверное, не много их. Браузер, строка поиска: «Айкидо, Москва, уроки». 40 млн результатов. Немного. Здорово. Онлайн-регистрация, очень удобно, клик, пароль, почта, номер телефона.
— Да, добрый вечер. Хотел записаться, да. Спасибо, что позвонили. Завтра приеду, да.
Приходишь, занимаешься, уходишь. Пришел, ничего не увидел, никого не победил. Костюмные снял — тренировочные надел, пиджак повесил — футболку натянул. Зашел в зал, поклонился, позанимался, зашел в душ, переоделся. И дальше пошел. Впрочем, как всегда. А потом приходишь домой, включаешь радио, а там звучит самая любимая песня, такая, что самая любимая и никак иначе. Сваришь себе макарон, нальешь стакан газировки. И так хорошо на душе, так приятно. Духовные искания торжественно завершаются — все ценности найдены: еда, питье, крыша над головой. Вот когда говоришь про еду, питье и крышу, то ты прям будто бы монах-отшельник, типа ничего больше не надо — стакан воды, кусок хлеба и обитель. А вот когда по-честному заявляешь, что жрешь макароны, пьешь сидр и валяешься дома на диване, то сразу начинается: «Пора взять себя в руки, займись йогой, айкидо». Но сам то ты давно знаешь, что все дороги ведут к кастрюле.
— Алло, здравствуйте! Завтра стартует новая группа по цигун. Подтвердите свое участие, спасибо. Начало урока в 09:00, занятия будут проходить в нашей школе на улице Ленина.
— Спасибо, а в школе есть свободные места для преподавателей? Я бы хотел открыть группу по кудо.
Иллюстрация на обложке рассказа: RedCheeksFactory