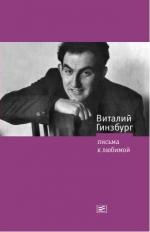В первой половине февраля наступит раздолье для любителей классики и мечтающих повзрослеть детей. Лекции о Гофмане и Стивенсоне, встреча с автором «Путешествия в Чудетство» пройдут в Москве; в Петербурге же уделят внимание Хармсу и Мандельштаму — но Роальду, а не Осипу. О современной литературе позабыть тоже не удастся: презентации новых книг Дениса Драгунского и Марины Степновой состоятся и в Москве, и в Петербурге, романов Ивана Зорина и Александра Архангельского — только в столице, ну а где назначена презентация переиздания «Беспокойников города Питера», наверное, уточнять не нужно.
15 февраля

• Дмитрий Быков читает Пастернака
Писатель Дмитрий Быков удивляется и огорчается тому, что на встречах столь часто приходится говорить о литературных деятелях, но не их словами. Поэтому на этот раз Быков предоставит слово самому герою. На февральской встрече традиционный лектор «Прямой речи» почитает вслух Бориса Пастернака, юбилей которого в России отмечали в прошлом году.
Время и место встречи: Москва, лекторий «Прямая речь», Ермолаевский пер., 25. Начало в 19:30. Вход 1950 рублей.
14 февраля

• «Недетская» лекция об «Острове Сокровищ»
Елизавета Тимошенко читает в «Пунктуме» курс «Недетская детская литература». Цель его — сквозь привычную облочку литературы для детей дойти до вполне взрослых и серьезных смыслов. В пиратском «Острове Сокровищ» Стивенсона, оказывается, полно секретов — кажется, его придумывала вся семья писателя, а еще на сюжет романа повлияли детские болезни Стивенсона.
Время и место встречи: Москва, культурный центр «Пунктум», ул. Тверская, 12, стр. 2, этаж 4. Начало в 17:00. Вход 400 рублей.
13 февраля

• Чтения «Сказки сказок» Джанбаттиста Базиле
Актер и «сказочник» Борис Драгилев прочитает отрывки из средневековой «Сказки сказок», вышедшей этой зимой в Петербурге. Предвестник Шарля Перро и братьев Гримм итальянец Джанбаттиста Базиле создал чарующую в своей ужасности книгу. Читать и визуализировать ее можно бесконечно — в воображаемых картинках всегда найдется двойное мифологическое дно.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, книжный магазин «Все свободны», наб. р. Мойки, 28. Начало в 19:00. Вход свободный.
12 февраля

• Лекция о сказках Гофмана
Очередная «недетская» лекция — на этот раз в Петербурге, от доцента СПбГУ Алексея Белобратова. Он расскажет о пугающем взрослых и детей писателе Эрнсте Теодоре Амадее Гофмане, в творчестве которого есть, где покопаться, — например, в связях с музыкой и отражениях немецких сюжетов и образов в русской культуре. В конце встречи посетителям покажут отрывок из мультфильма о Гофмане.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, Библиотека им. Маяковского, наб. р. Фонтанки, 46. Начало в 18:30. Вход свободный.

• Презентация сборника «Живые, или Беспокойники города Питера»
Спустя десять лет выходит переиздание книги «Беспокойники города Питера» с историями о легендарных и незабытых персонажах. Изменился и город, появились новые герои — так, в новой книге найдут себе место не только Цой, Курехин и Науменко, но и Виктор Топоров, Геннадий Григорьев, Аркадий Драгомощенко. На презентации будут рассказывать о книге ее редактор Павел Крусанов, писатель Сергей Носов и художник Андрей Хлобыстин.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, книжный магазин «Буквоед», Лиговский пр., 10. Начало в 19:00. Вход свободный.

• Презентация книги Захара Прилепина «Непохожие поэты»
Книга Захара Прилепина, вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей», посвящена трем советским авторам — Анатолию Мариенгофу, Борису Корнилову и Владимиру Луговскому. Современный писатель находит в биографиях столь непохожих поэтов главное, что их связывает: все они не прятались и не отворачивались от трагических событий русской истории ХХ века.
Время и место встречи: Москва, Московский Дом книги, ул. Новый Арбат, 8, 2 этаж. Начало в 17:30. Вход свободный.
10 февраля

• Презентация «Альманаха 30»
Альманах выпускает «Проект 30», поставивший перед собой цель выявить черты постсоветской России. Под одной обложкой объединят тридцать текстов авторов, рожденных после 1985 года. Среди них — журналисты, писатели, поэта, философы, художники и ученые. На встрече также выступят с лекцией Сергей Карпов, Сергей Простаков и Антон Секисов.
Время и место встречи: Москва, ул. Моросейка, 12. Начало в 20:00. Вход по билетам.
3, 6, 10, 11 февраля

• Презентации «Где-то под Гроссето» Марины Степновой в Москве и Петербурге
Сборник от автора «Женщин Лазаря» и «Безбожного переулка» посвящен условным «маленьким людям». Они, начиная с XIX века, остаются не просто конструктом, но реальными, живыми фигурами со своими большими ожиданиями от жизни. Вкус и стиль у Степновой — отменные; в небольших рассказах эта чуткая дерганость чувствуется еще лучше.
Время и место встречи: 3 февраля, Москва, книжный магазин «Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6/3, стр. 1. Начало в 18:00. 6 февраля, Московский дом книги, Новый Арбат, 8. Начало в 16:00. 10 февраля, Санкт-Петербург, Библиотека им. В.В. Маяковского, наб. р. Фонтанки, 44, 2 этаж. Начало в 18.00. 11 февраля, Санкт-Петербург, книжный магазин «Буквоед», Невский пр., 46. Начало в 19:00. Вход свободный.
11 февраля

• Анджей Иконников-Галицкий представит новую книгу
Новая книга петербургского поэта и историка Иконникова-Галицкого — о путешествиях по России. Как никогда актуальная тема облечена в сборник под названием «Тридевятые царства России». Отметим, Анджей Иконников-Галицкий стал одним из первых обладателей Григорьевской поэтической премии, и стихи его — о многоликой и исторической России.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, книжный магазин «Буквоед», Лиговский пр., 10. Начало в 19:00. Вход свободный.
3, 10 февраля

• Лекции о китайской литературе
Весь путь Китайской литературы начиная с XIX века представят в «Циферблате». Там в рамках встреч, посвященных мировой литературе, дальше собираются говорить о книжном разнообразии США и других стран. Но сначала — Китай: Лао Шэ, Лян Сеошен, Чжан Сяньлян и, конечно, Мо Янь.
Время и место встречи: Москва, кафе «Циферблат», Покровка, 12. Начало в 19:00. Оплата по тарифу «Циферблата» (первый час 3 рубля за минуту, начиная со второго часа — 2 рубля за минуту).
10 февраля

• Вечер «Наш Мандельштам» Драмтеатра им. Штейна
Драматический театр имени Штейна существует с 1937 года, кoгда он открылся 10 февраля спектаклем «Наш Пушкин». Ежегодно театр отмечает день рождения подобной акцией, посвященной и другим поэтам. В 2016 году спектакль поставили о юбиляре Мандельштаме.
Время и место встречи: Москва, культурный центр «ЗИЛ», ул. Восточная, 4, корп. 1. Начало в 19:00. Вход свободный, по регистрации.

• Лекция «Семь грехов Пушкина»
На лекции Владимира Новикова, автора биографий Пушкина, Высоцкого, Блока, слушатели узнают не только о грехах поэта, но и о том, как Пушкин их преодолел. В этом списке — не только прелюбодеяние и страсть к игре, но и гордыня, мстительность, злоречие. Анализ произведений главного классика может оказаться весьма функциональным и прикладным, а не только сугубо теоретическим.
Время и место встречи: Москва, лекторий «Мой курсив», Никитский бульвар, 7а. Начало в 19:30.Билеты от 1000 рублей.
10, 19, 25, 26 февраля

• Презентации книги Дениса Драгунского «Мальчик, дяденька и я»
В новом сборнике Дениса Драгунского — рассказы и повести, действие которых происходит у моря, в Прибалтике. Вопросы, которые одолевают главного героя-рассказчика, просты и замысловаты. Прошлое, настоящее, будущее; реальность, фантазия; любовь, нелюбовь — Драгунскому удается сказать новое слово.
Время и место встречи: 10 февраля, Москва, книжный магазин «Москва», Воздвиженка, 4/7, стр. 1. Начало в 19:00. 19 февраля, Москва, Московский дом книги, Новый Арбат, 8. Начало в 18:30. 25 февраля, Санкт-Петербург, книжный магазин «Буквоед», Невский пр., 46. 26 февраля, Санкт-Петербург, Дом книги, Невский пр., 28. Вход свободный на все мероприятия.
9, 13, 14 февраля

• Встречи в рамках образовательной программы «200 ударов в минуту»
«200 ударов в минуту» — так называется выставка, организованная Московским музеем современного искусства и Политехническим музеем. Теперь к ним присоединился также Государственный литературный музей. Все вместе они представляют новую образовательную программу, в рамках которой состоится встреча с Сергеем Гандлевским, Александрой Шиляевой и Марией Галкиной, а также сеанс медленного чтения, интерактивный перфоманс, посвященный Дню всех влюбленных, и поэтический вечер с Тимуром Кибировым.
Время и место встречи: Москва, Московский музей современного искусства, ул. Петровка, 25. Начало 9 февраля в 19:00, 13 февраля в 19:30, 14 февраля в 15:00. Вход по билетам в музей и по предварительной регистрации.
9 февраля

• Лекция о поэте Роальде Мандельштаме
Тем, кто считает Роальда простым однофамильцем Осипа, литературный критик Никита Елисеев объяснит, что Роальд Мандельштам — это поэт ленинградского авангарда и друг многих живописцев второй половины XX века. Его тексты минималистичны, но яркие образы стихотворений западают в память надолго.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, Библиотека им. Маяковского, наб. р. Фонтанки, 46. Начало в 19:00. Вход свободный.

• Обсуждение книги Александра Эткинда «Кривое горе»
Бывший профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге обсудит свою последнюю книгу в родных стенах вместе с редактором издательства «Новое литературное обозрение» Ильей Калининым. В книге «Кривое горе: Память о непогребенных» рассказывается о постсоветском настоящем, связанным с советским прошлым. В ней нашлось место всему — от дел политзаключенных до кинематографа Меньшова и Германа.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, Европейский университет, ул. Гагаринская, 3а, Белый зал. Начало в 19:00. Вход свободный.

• Михаил Яснов расскажет о «Путешествии в Чудетство»
Лекция о поэзии для детей пройдет в рамках лектория премии «Просветитель», в финал которой Яснов вышел в 2015 году. Лекция будет включать в себя и экскурс в историю детской поэзии, и обзор современности. Писатель поговорит и об издательской политике в этой области, а также о том, могут ли у нечитающих родителей быть читающие дети.
Время и место встречи: Москва, культурный центр «ЗИЛ», ул. Восточная, 4, корп. 1. Начало в 19:30. Вход свободный, по регистрации.
7 февраля

• Лекция о звуковом мире Михаила Булгакова
Главный редактор газеты «Мариинский театр», музыковед Иосиф Райскин прочитает лекцию о литературе. Поводом станет музыка произведений Михаила Булгакова, а именно упомянутые в них классические мелодии. От Верди и Чайковского до фокстрота — комментарии читателям даст специалист в музыке.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, БДТ им. Товстоногова, наб. р. Фонтанки, 65. Начало в 15:00. Вход 150 рублей.

• Лекция о Гофмане и психоанализе
Еще одна встреча, посвященная Гофману, на этот раз — не только для взрослых, но и для детей. Елизавета Тимошенко объяснит, почему она назвала писателя «праотцом психоанализа», а также порассуждает о других немецких романтиках. Зачем им нужен фольклор, кто такой Гауф, что они сделали для мировой литературы — одним Гофманом на этот раз дело не обойдется.
Время и место встречи: Москва, культурный центр «Пунктум», ул. Тверская, 12, стр. 2, этаж 4. Начало в 17:00. Вход 400 рублей.
5 февраля

• Презентация новой книги Александра Секацкого
Новая книга называется «Миссия пролетариата», и содержит она краткую версию обновленного марксизма. Секацкий может рассказать как о том, почему эта разновидность марксизма работает и в наши дни, а может поведать и о других философских концепциях. Другими словами, задавать вопросы главному писателю-философу Петербурга можно будет как о литературе, так и о сопутствующих ей вещах.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, книжный магазин «Буквоед», Лиговский пр., 10. Начало в 19:00. Вход свободный.
4 февраля

• Встреча с Еленой Чижовой
Лауреат «Русского Букера — 2009» Елена Чижова расскажет о своем творчестве. Ее самые известные романы — «Время женщин», «Крошки Цахес», «Планета грибов» — обладают узнаваемой стилистикой и тематикой. Обсудить с автором пересечения ее личной и творческой жизни может быть интересно любому читателю.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, Библиотека им. Лермонтова, Литейный пр., 19. Начало в 18:00. Вход свободный, по читательским билетам.
3 февраля

• Показ фильма о Роальде Мандельштаме
Никита Елисеев посвятит еще один вечер Роальду Мандельштаму и прокомментирует фильм о нем. «Продавца лимонов» сняли в 2012 году, на вечер придет и режиссер фильма Максим Якубсон. Весьма символично прошедший Год литературы соединится с наступившим Годом кино в интерьерах Фонтанного дома.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, музей Анны Ахматовой, Литейный пр., 53. Начало в 18:00. Вход по билетам в музей от 50 рублей.

• Презентация книг Александра Архангельского
В конце 2015 года литературовед, критик и писатель Александр Архангельский выпустил две книги. Обе он представит в феврале. Какое удачное стечение обстоятельств и возможность поговорить как о серьезном «Коньяке „Ширван“», так и о хулиганских «Правилах муравчика»! При этом все, о чем пишет Архангельский, актуально до зубной боли — так что встреча предстоит отчаянно интересная.
Время и место встречи: Москва, Московский дом книги, Новый Арбат, 8. Начало в 18:30. Вход свободный.

• Встреча с главой издательства «Опустошитель» Вадимом Климовым
Опорная точка встречи — книга «Легко ли быть издателем» Андре Шиффрина, переведенная и на русский пять лет назад. Рассказ о практическом применении в российских условиях сведений из этой книги обеспечит глава издательства «Опустошитель». В «Опустошителе», напомним, печатаются интеллектуальные и малотиражные тексты — как в одноименном журнале, так и в отдельных книгах издательства.
Время и место встречи: Москва, книжный магазин «Тортуга», ул. Старая Басманная, 15. Начало в 19:30.Вход свободный.

• Юбилей альманаха [Транслит]
[Транслиту] исполняется десять лет. По этому поводу создатели и авторы альманаха вспомнят о былом и проразмыслят о будущем. На сцене Александринки появятся такие деятели новой поэзии, как Павел Арсеньев, Александр Смулянский, Роман Осьминкин, Галина Рымбу. Чтения и лекции посвятят детищу и расширению круга его читателей.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, Новая сцена Александринского театра, наб. р. Фонтанки, 49а. Начало в 19:30. Вход по регистрации.
2 февраля

• Открытие выставки о Хармсе
Выставку назвали «Библиотека Хармса», и продлится она до 28 февраля. Специально для выставки четыре современных художника создали экспонаты — от книг до мебели — которые и представят посетителям. Выставка предназначается как для взрослых, так и для детей. Для последних там проведут конкурсы.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, Малая Конюшенная ул., 4-2, Государственный литературный музей «XX век». Начало в 18:00. Вход по билетам в музей от 50 рублей.

• Презентация книги «Записки уцелевшего»
Беллетрист Сергей Голицын не успел до своей смерти издать главный труд жизни — «Записки уцелевшего». Истории о дворянской семье и ее культуре в XX веке в России увидели свет только через 25 лет после кончины автора. Кроме сына и дочери Сергея Голицина во встрече примут участие Мариэтта Чудакова и Константин Мильчин.
Время и место встречи: Москва, книжный магазин «Москва», Воздвиженка, 4/7, стр. 1. Начало в 19:00. Вход свободный.

• Филармонический концерт к юбилею Хармса
Вместе с отрывками из Хармса к его 110-летию в Филармонии прозвучат Бах, Бетховен, Моцарт и Шостакович. Читать Хармса будут Евгений Перевалов и Владимир Кузнецов. Вас ждет фортепианная музыка в исполнении Петра Лаула, Александра Болотина, Надежды Рубаненко и Наталии Учитель.
Время и место встречи: Санкт-Петербург, Академическая филармония, Невский пр., 30, Малый зал. Начало в 19:00. Вход по билетам от 250 рублей.
1 февраля

• Презентация книги Ивана Зорина
Не так давно у Зорина вышел роман «Вечность мига», но в Московском доме книги он представит роман 2015 года «Зачем жить, если завтра умирать». Роман об одиночестве человека в современном мире может стать подспорьем современному читателю. Такой умудренный опытом писатель, как Зорин, просто не сможет соврать.
Время и место встречи: Москва, Московский дом книги, Новый Арбат, 8. Начало в 18:30. Вход свободный.