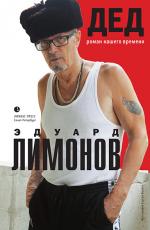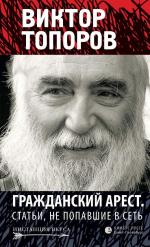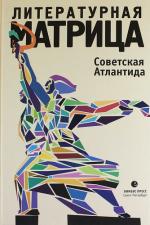Эдуард Лимонов. Дед (роман нашего времени). — СПб.: Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2014. — 352 с.
Большинство книг Эдуарда Лимонова наполнено страстями, интересными судьбами и героическими смертями. Не изменяет автор себе и на этот раз. Документальный роман «Дед» – промежуточный итог пестрой жизни писателя, полной событий, затмевающих любую литературную выдумку. Как заявляет сам автор: «Новейшая Российская История живет и дышит в этой книге». Не верить ему – нет оснований.
ЗАДЕРЖАНИЕ
1
В два часа дня он лёг спать. У него выработалась привычка, в дни, когда ему было нужно выходить «на арену», он старался выспаться впрок. Мало ли что могло ожидать его в этот вечер, и в последующую ночь, возможно, спать не доведётся совсем, разумно было выспаться. Он взял из шкафа в коридоре большое одеяло и подушку и ушёл в кабинет. Застелился, но без простыни. Вернулся к охранникам.
Двое его охранников сидели в кресле в большой комнате, третий пил чай в кухне.
— Я прилягу, пацаны, попытаюсь уснуть. По старой традиции. Ночь предстоит длинная. Следите тут.
Охранники были новые, однако не настолько свежие, чтобы не знать об этой привычке «Деда» — так они его называли за глаза. Прозвище ему по сути не нравилось, незаслуженно старило его, однако он никогда не выступал с предложением называть его как-то иначе. За глаза есть за глаза, не в его же присутствии. Охранники приняли его сообщение знаками понимания. Мол, нам ясно, ты идёшь спать, иди, «Дед».
В кабинете он накрылся одеялом. Одеяло пахло его девкой, Фифи. Вообще-то девку звали иначе, но он назвал её Фифи, и теперь она всегда будет такой. Как будто он отчасти Бог, он обладал даром и правом называть смертных, как назовём, так и будет. Девка от одеяла пахла душно, кромешным востоком, еврейством, Библией, сосцами библейских коз и немного приторно, как, возможно, попахивают бараньи кишки. «Какие кишки, не фантазируй, — одёрнул он себя, — не фантазируй, „дед“», — но всё же вынужден был признать, что душный телесный запах одеяла имеет кишечную основу, под этим одеялом они только что провалялись, спариваясь, все выходные. Ну, оно и пахло их соединением, точнее, пах пододеяльник, и, в сущности, — что есть соединение мужчины и женщины: он проталкивает в её кишку свой «жезл». Кишка, конечно кишка, а что это ещё? Влагалище — не что иное, как кишка…
— Прекратить! — сказал он себе. — А то члена лысого ты так заснёшь. Не заснёшь. Так и будешь медитировать на свою еврейку.
Но она не выходила из его головы, оккупировала область воображения, и не выходила. У него было четыре темы, наиболее часто оккупировавших его воображение: первая она — его еврейка, вторая — политика, третьей были его дети, и четвёртой — создатели человека, семейство Бога. Точнее, не обязательно именно в перечисленном порядке его оккупировали эти темы. Они могли напасть на него все вместе, но то, что они главные — это факт.
Он даже не знал, где она живёт. Он не был уверен, что те немногие куски её жизни, которые она ему добровольно открывает иногда, — правда. Он предполагал, что всё — ложь. Хочет ли он знать правду? «Нет», — сказал он себе искренне. Она ему очень нравилась, эта Фифи, молодая женщина с телом подростка. Он грыз это тело как старый жестокий крокодил, и она ему нравилась. Иногда ему представлялось, что он нашел её во время погрома, под старыми еврейскими перинами, у неё были косы и, может быть, вши в косах, он отнял её у толпы, чтобы изнасиловать самому. Между тем она…
— …ард …инович? — тихий стук в дверь кабинета, — …ард …инович!
Он вздохнул:
— Чего?
— Там опера во дворе. Много.
— Сейчас выйду.
Ну да, во дворе, не очень скрываясь, перемещались оперативные сотрудники милиции. За годы своей политической деятельности он научился распознавать их мгновенно. Толстомордые, часто опухшие, нелепо сложённые, нелепо одетые. Фактически их существует два основных типа: мордатые, постарше, заматеревшие от водки и жратвы мужчины и новое поколение: джинсы, курточки, барсетки — оперской молодняк косит и под футбольных фанатов, и под студентов, но выдаёт их прежде всего разбитная наглость. Он называл их «шибздиками».
Охранники сгрудились у окна кухни, выходившего во двор.
— Вот в той машине с затемнёнными стёклами — их пять человек, …ард …инович. А вон там дальше, видите, — серебристый форд, их вторая машина. Опера друг к другу в гости из машины в машину шастают . А вот за трансформаторной будкой, видите, скопились милиционеры в форме…
Внезапно ему пришли на память строки из его книги «Дневник неудачника», написанной в баснословном 1977 году: «„Ну что они там, внизу, шевелятся?“ — спросил он у прижавшегося к вырезу окна Лучиано. Внизу на далёкой улице задвигались чёрные спины солдат».
Вот и двигаются. Через 33 года. В сказках полагается, чтоб прошло ровно тридцать лет и три года.
Посчитав всех во дворе, они пришли к неизбежному выводу, что их будут брать. Для наружного наблюдения такое количество ментов не необходимо. Все смотрели на него, охранники, что скажет.
— У нас есть другой выход? — спросил он, не то сам себя, не то всех присутствующих спросил. — У нас нет другого выхода. Я должен быть на площади, куда я вызвал людей. Ровно в пять будем выходить.
— Может, дадут добраться до площади? — Фразу произнёс Ананас, молодой человек с тонкой, выбритой бородкой, он работает барменом.
— Маловероятно. Давайте собираться.
И он пошёл утепляться. Так же как и традиция выспаться впрок, утепление было насущно необходимой мерой. Неизвестно, куда попадёшь. В обезьяннике, или куда там ещё поместят, может быть очень холодно. Однажды в ледяную ночь его продержали несколько часов в неотапливаемом автозаке. У него зуб на зуб не попадал, растирал себе безостановочно ноги и грудь. Чудом не заболел.
Он надел помимо двух футболок ещё три свитера, яйца предохранил чёрным трико, подаренным ему непонятно кем и когда, может быть, олигархом из Ростова-на-Дону, натянул две пары носков, на башку надел чёрную шапку с кожаным верхом — память от умершего отца, — шапка из крашеной овчины была старомодна, как головной убор фараона 18-й династии.
— …ард …инович, — в дверь протиснулся Панк (у всех были клички, так удобнее), — …ард …инович, они заблокировали нашу машину.
Он пожал плечами.
— Ясно. А что вы ожидали?
Панк, худенький, но железный носатый молодой человек, превращавшийся, когда надо, в боевую машину без страха и упрёка, всё же вздохнул. Один раз.
По традиции они присели все четверо. На дорогу, чтобы вернуться когда-нибудь в эту квартиру. Высокий блондин Кирилл, ржаная щетина на щеках, вздохнул несколько раз. И он волнуется. Это понятно. Человек без нервов нежизнеспособен, нервы должны быть.
— Всем внимание! Выходим очень спокойно. Не отвечаем на их агрессию. С Богом! — он встал.
Встали и охранники. Сообщили по мобильному на площадь, что выходят, и что «нас стопроцентно возьмут». Панк вышел из квартиры один и осмотрел подъезд. Нет, в подъезде их не ждали. Согласно инструкциям спустились на лифте вниз. У выходной двери замедлились. Кирилл с рукой у кнопки вопросительно обернулся к Деду.
— Жми! — сказал Дед.
Они сделали только шагов пять. К ним уже бежали со всех сторон милиционеры и опера. Во главе милиционеров приблизился капитан. Деда схватили за руки, обступили.
— В чём дело, капитан? Что случилось?
— Пройдёмте с нами.
— Значит задерживаете. А по какому поводу, позвольте узнать?
— С вами хотят провести профилактическую беседу .
— Слушайте, я еду на митинг на площадь. Там меня ждут граждане, которых я туда созвал. Давайте вы проведёте свою беседу со мной после митинга.
— У меня есть приказ задержать вас и доставить.
— Что же, ввиду очевидного вашего численного превосходства и по причине того, что вы обладаете иммунитетом государства, вынужден подчиниться. Мои товарищи вам нужны?
— Нет, только вы.
— Я поеду с вами, я старший группы, — шепчет Кирилл .
— Пацаны, вы можете идти. Сообщите, что нас взяли!
Охранники медлят.
— Идите, хватит двух задержанных.
Неохотно Ананас и Панк уходят из снежного двора. Так следует поступить, пусть и очень хочется поступить иначе. Пассивная роль нас изнуряет, но мы ведь ввязались в мирное неповиновение.
— Куда садиться, капитан, где ваш автомобиль?
— Сейчас.
Капитан, видимо, не ожидал спокойного исхода дела, может, даже верил, что политические преступники вообще не выйдут, а если выйдут — попытаются убежать. Убежать нереально, их несколько десятков во дворе. Только одних милиционеров семеро. На рукаве капитана нашивка 2-го оперативного полка милиции.
Во двор вкатывает белый старый автобус. Дед и Кирилл за ним входят в автобус. Милиционеры особого полка рассаживаются вокруг задержанных. Впечатление такое, что они облегчённо вздыхают.
На самом деле Дед тоже облегчённо вздохнул бы. Задержание свершилось! Самая, может быть, нервная из милицейских церемоний.
2
В автобусе он было вернулся к теме Фифи, пытался понять, почему с таким энтузиазмом грызёт тело этой похотливой женщины-подростка. Уже полтора года он пытался разгадать секрет своей поздней страсти. Его философский афоризм, «совокупление есть преодоление космического одиночества человека, точнее биоробота, каковым является человек», — однако, не помог ему ещё понять, почему эта именно еврейка так его захватила. Он было мысленно провёл взглядом по всем её интимным частям, но капитан стал приставать к нему с вопросами.
— Вы не думайте что мы, милиционеры, не понимаем, что происходит. Я слежу за тем, что вы делаете, и во многом я с вами согласен, — забубнил из темноты капитан. Они быстро ехали в центр города, и яркие витрины магазинов Ленинского проспекта просвечивали сквозь шторы.
— Я достаточно общаюсь последние десять лет с милицией, чтобы понять, что вы — часть народа, — ответил он.
— А как бы вы поступили с нами, приди вы к власти? — не отставал капитан.
Дед подумал, что капитану, возможно, не безопасно вести с ним подобную беседу в окружении ещё 12 милицейских ушей. Но ему жить, сам должен понимать.
— Я всегда выступал противником люстраций, — сказал он односложно. — Милиция нужна будет при любом режиме…
И замолчал.
На самом деле ему стало уже давно неинтересно вести подобные разговоры с милицией. Когда он только начал заниматься политикой, семнадцать лет тому назад, он как дитя радовался вниманию и сочувствию офицеров милиции и проявленному вдруг по тому или иному поводу их дружелюбию. Однако кульминация отношений с милицией давно позади. Кульминацией явился далёкий осенний день 1995 года, когда в исторический бункер на 2-й Фрунзенской улице явился вступать в партию настоящий живой мент Алексей с настоящим живым пистолетом. Алексей и стал через год его первым охранником . За последующие годы Дед, тогда ещё не Дед, побеседовал с сотнями милиционеров. Он беседовал с ними на воле и в тюрьме, задержанный и не задержанный. Милиционеры ему в конечном счёте надоели. Они просты как мухи. Некоторые даже читали его книги. Ну и что, они всё равно исправно исполняют приказы и поступают с ним согласно приказаниям их командиров.
Когда они доехали до ОВД «Тверское», капитану передали по мобильному, что задержанного следует доставить в ОВД на Ленинском проспекте, то есть ровно туда, откуда они его взяли, недалеко от дома, где он проживал. Повезли. Через жидкие шторки автобуса было заметно, что толпа автомобилей на дорогах поредела. Стремительно приближался водораздел между Старым и Новым годом.
Капитан всё задавал вопросы. Подчинённые капитана всё чаще пользовались телефонами, то им кто-нибудь звонил, то они звонили. Соломенно-волосый охранник Кирилл дремал. Дед ответил десятку журналистов, побеспокоивших его в автобусе по телефону. Сообщил, что был задержан прямо у подъезда дома, где снимает квартиру. Сказал, что его везут в ОВД на Ленинском.
Попытался вернуться к своей девке. Как насекомое падал на её тело сверху, опять взмывал и наблюдал её лежачей, и даже влетал ей взглядом под короткую молодёжную юбку, одним словом, пытался бесчинствовать, обонял её и осязал. Но милицейские солдафоны галдели и мешали ему. Один из них потребовал у товарища, чтоб тот открыл окно.
— Ну уж нет, — сказал Дед. — Я простужен. Вы хотите меня угробить?
Мент упорствовал, требуя воздуха. Сошлись на том, что откроют ненадолго, и закроют. Дед надел отцовскую шапку, вдвинул голову глубоко, поднял воротник и кое-как пережил экзекуцию. А тут уже они и приехали. ОВД помещалось за забором, не совсем обычно. Видимо, в новых районах это был типовой проект, в то время как в старых употребляли старые здания.
Им открыли ворота, и они въехали. И стали. Капитан пошёл представляться местным милиционерам. Сопровождавшие высыпали на снег курить. А Дед опять стал думать о своей девке. Повезло мне с ней, с девкой, подумал Дед. Такой кусок девки! Интересно, будет ли она моей последней любовью или будут ещё девки? Природа даровала ему неплохую наследственность, по сути, он мог рассчитывать, как и его родители, по крайней мере на 86 лет, но он хотел жить ровно до той поры, пока сможет обслуживать себя сам. А дольше не хотел. И вообще, предполагал сам заняться своим концом жизни. Обдумать всё, чтоб никаких сюрпризов.