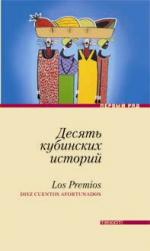Перевод С. Силаковой
Осторожно-осторожно ставлю диск на проигрыватель, нажимаю на рычаг, автоматически опускающий звукосниматель, и внезапно с диска срывается, взлетает по иголке древний, пронзительный голос. За голосом спешит музыка, а вслед из проигрывателя выскакивает высокий негр с огромными черными глазами, выкрикивая бессмысленный текст «Тутти фрутти», и бас-гитара звучит, а в глубине сцены тенор-саксофон выдувает несколько суровых, нежных, хриплых нот, точно споря с абсурдом, а черные волосы, черные как смоль, напомаженные, падают на лоб негра, кудрявятся на лбу, и негр разевает рот. Потом дергает головой, дергает головой, ох, как же он дергает головой, и вопит «оh, my soul»1, а перед ним негритянки, красивее не бывает, знойные, с распрямленными волосами, и они тянутся к нему всем телом, всеми своими округлостями, и шаркают подметками кожаных туфель по начищенному паркету, и руки воздевают, и ногами дрыгают, и как-то так движутся, чтобы по их атласным блузкам и по льняным, кремового цвета юбкам пробегала волна, и как бы ненароком показывают белье, и визжат прямо под носом у певца, нестройно, под дикарский ритм саксофонного взвода, под громыхание ударных.
О, Люсиль, Люсиль, о вы, негритянки, чернее не бывает, красивые и непорочные, готовые все отдать за кумира, оглохшие от тамтама, который оглушил еще Поля Робсона, и от этой ритм-гитары, что заливается трелями, точно банджо, и от этого старого, как мир, рояля, по клавишам которого не кот Сен-Санса прыгал, а черные руки обегают клавиатуру от края до края и скачут в рок-н-ролльных синкопах; так музыканты играют всегда в этом темном закоулке ночи.
Литл Ричард играет им модную страсть на рояле, и они изнемогают, они отдаются на милость страсти и визжат, и потому на диске никогда не наступает рассвет. Все какое-то серебристое и неземное, потому что слов мы не понимаем. Это только слова, и крики, и слова, и кутерьма в глубине сцены — все ходуном ходит.
Литл Ричард сгибается вдвое над роялем, и вдруг возникают те ненастные дни в Мирамаре, когда мы, разинув рот, слушали «Люсиль» и курили, дымили на все четыре стороны в сумраке подвала и гаванского тумана, который пробирался сквозь заслоны со двора, тумана, состоявшего из копоти выхлопных газов, из запахов керосина и чужих домов из красного кирпича, холодных снаружи, теплых внутри, и музыкальных автоматов в отдаленных барах, где все еще крутили «Тюремный рок» Сесара Косты, и «Rock around the clock» (исполняют Билл Хейли и его «Кометы»), и «Не оставляй меня» Маноло Муньоса.
В подвал дома на углу Седьмой авениды и Шестидесятой улицы свет всегда попадал черезлевое окно. Мокрый от пота Обдулио просил нас: «Сидите тихо». Мы хорошенько прикрывали дверь на кухню, опускали деревянные жалюзи с щелкой вместо отломанной планки и только после этого ставили «Люсиль». Блестящие от пота щеки и руки — щеки и руки Обдулио, — и негритянки отдаются ритму, проговаривают по слогам текст, машут руками (на пальцах — дешевые колечки), выгибают спину и шею, крутят головами, чтоб засверкали цепочки мексиканского серебра — цепочки еще дешевле колечек, — чтобы падали на лицо темные волосы, временно разглаженные раскаленной железной расческой, расчесанные на прямой пробор, чтобы красиво рассыпались по плечам, шелковистые волосы, шелковистые, и Литл Ричард говорил: «Rip it up», «гуляй, рванина», покончим с этой пыткой — хватит быть черными в стране белых, хватит быть нищими и одинокими в Гаване 1963 года.
Мы сидели вместе в темноте подвала, у нас был диск Литл Ричарда, и мы ставили то первую сторону, то вторую. У нас был свет, сочившийся слева, и мы не видели, но чувствовали пляску черных пальцев по черным и белым клавишам, и звуки бас-гитары, непоколебимо отбивавшей ритм позади секции духовых, и ударные, и мрак ночи сгущался вокруг огоньков сигар «Аромас», которые мы курили по кругу, пока не оставался только уголь. Стоя над вертушкой, мы подпевали —делали ду-вуп2, и Обдулио учил нас танцевать, и мы прохаживались негритянскойпоходочкой, подражая Мокосиси, Ричарду, Барсело, ребятам с Сан-Леопольдо — ставили на пол только мыски, вытягивали руки, вытягивали, на широченных улицах, впадающих в Пятую авеню, и над нами сверкала ртуть городских огней, и каменные орлы глядели на нас сверху, с фасада Крайслер-билдинг.
Пустые улицы, пустой мир, разве что в маленькой аптеке на стыке Седьмой авениды и Сорок Четвертой улицы теплится свет, в аптеке, торгующей таблетками из алтея и леденцами. Над Мирамаром, над Шестидесятой улицей широко раскинулась ночь, и в подвале глухо, под сурдинку, точно издалека слышится мерный топот — в подвале, который уже принадлежит Литл Ричарду, Ричард в нем хозяин, Ричард и Элвис, и «Лос сафирос» и Пол Анка, и мы, такие одинокие.
Ричард — не Литл Ричард, другой — входит в подвал, стукнув два раза, подождав и стукнув еще дважды. Пригибает голову, с порога вдыхает всей грудью шепот и дым, подмечает новую лампу, свисающую с потолка, накрытую мешковиной. Вскидывает голову, взмахивает рукой, говорит нам: «Свет потушите, заметят — яйца вам оторвут». У Ричарда врожденный дар повелевать, врожденная раскованность: манеры белого, косящего под черных, эти манеры у него перенимают сами черные ребята, он их герой. Он тут же тащит Обдулио танцевать и показывает, как танцуют пасильо в ночных клубах — на прошлых выходных в «Лумумбе» выучился. В танце они едва ли не липнут друг к другу то боками, то спинами, поворачиваются в профиль, правая нога отбивает свой ритм, левая —свой, а руки движутся в каком-то третьем. Пасильо трудный, сразу ясно, и Ричард приказывает поставить Литл Ричарда, показывает свой золотой зуб: как бы ненароком, совсем как негритянки — нижнее белье, и рассказывает нам, как назначил свидание в кабинете химии двум своим девушкам — из двадцать шестой группы и из двадцать седьмой, и уставился на них, а они уставились друг на дружку, а потом на него, а он им: «Вы уволены». У нас отвисли челюсти — наконец-то мы слышим о том, чего и вообразить-то нельзя, гортанный голос надменного бога в финальной коде «Long tall Sally» в подвале, который вдруг показался всем настоящим дворцом, и Эспонда таращится восторженно, а Роберто Натчар изумленно.
Не рассветает, рассвета нет как нет. Браче небрежно обматывает руку платком, встает на цыпочки и выкручивает горячую лампочку.
На сегодня сеанс окончен, и становится слышна мирамарская ночь: как пролетают ночные птицы, как шелестит трава в саду методистской церкви напротив. Теперь нам совсем одиноко — без музыки, с воспоминанием, как иронично глядел на нас Ричард, как давит его красноречивое равнодушие; мы чувствуем себя боязливыми букашками: ничего-то у нас нет, разве что рок-н-ролл, и Литл Ричард изводит нас, нагоняет меланхолию, тоску по наслаждению, которого мы не знали и не узнаем никогда. Нас бросало то в веселье, то в отчаяние, когда ночь загоняла нас в подвал или в туалеты на задах общежития, которые до сих пор мыли с карболкой, а двери в кабинках были с задвижками — для благородных девиц. Мы глубоко вдыхали едкий приставучий запах, и вспоминали надписи, нацарапанные ручкой или вырезанные ножом на дверях туалетов на второмэтаже нашей школы имени Мануэля Бисбе3, и рьяно работали руками, воображая завуча — высокомерную, улыбчивую и вредную, с круглыми грудями и карими глазами, волосы у нее шелковистые, стрижка «а-ля гарсон», на плечах веснушки, а уж кожа… — и на образ завуча накладывалось воспоминание о звуках, слетающих с ее уст, взгляде, подмигивании, приказах и о скрещенных ногах проституток с Кони-Айленда: у них на щиколотках золотые цепочки. Взор устремлялся кверху, перед глазами сгущался туман, а в памяти всплывала фраза с двери сортира в вестибюле, настоящее изречение: «У завучихи Ады манда как яблоко». И вот в голове зажужжало, в голове муравейник, неудержимый поток слов, тел, ласк, поцелуев, тьма, и искры взлетают высоко в небо и падают пестрыми точками, пачкают унитаз.
Искры рассыпаются по туалету в глухой ночи, а мы идем спать. Валье, старший по общежитию, тушит свет. На верхней койке, надо мной, спит Эспонда, тощий чернокожий верзила; он поет вместе со мной в подвале и тоже не знает любви, не знает, каково обнимать сногсшибательных мулаток, которые во Дворце имени Патриса Лумумбы танцуют касино в руэде Медведя — самой лучшей4. Почти каждую ночь Эспонда мечтает о своей двоюроднойсестре, и я чувствую, как дрожит койка и кряхтит деревянная рама. Каждый вечер он рассказывает мне о Серро и говорит, что надо смываться. Музыка сбегает по его пальцам, и он тоскует по вечеринкам, по нежным мелодиям Пэта Буна, по взгляду сестры — заслушавшись музыкой, она смотрит на него почти томно. Она молчит, шлифует пилкой ногти, скрещивает, точно роковая женщина, ноги, обтянутые красными брючками-капри. Иногда она курит, и дым льнет к ее лицу, и, дослушав одну сторону, она переворачивает пластинку на другую, а Эспонда сидит, проглотив язык. Когда она ставит Элвиса или Литл Ричарда, в ней просыпается затаенная нежность, и, выгибая спину, она танцует одна, трепещет страстно, неудержимо.
Как-то днем мы с Эспондой действительно смотались без увольнительной в Серро, за пластинкой Литл Ричарда, и застали его сестру в момент, когда она только что вышла из ванной. Кожа у нее смуглая, волосы кудрявые, глаза светлые, на ногах открытые босоножки. Она пригласила нас пообедать, прямо настаивала, но мы застеснялись. Потом мы поели в какой-то закусочной — взяли на двоих порцию риса с бобами, и вместе брели в толпе, и не было у нас ни денег, ни девушек, ни солнечных очков, ни Дэла Шэннона, ни Стива Лоренса, ни Тони Рендаццо, ни Чабби Чикера, ни Пола Анки — этот нас вообще предал, стал записываться на стерео, и несли мы только Литл Ричарда, спрятанного в конверте от пластинки «Оркеста Арагон», несли по пустынным улицам того чудесного лета 1963 года, когда во всех хит-парадах на первой строчке держался Брайан Хайленд, скрестивший с рок-н-роллом ча-ча-ча и калипсо, когда светловолосый Брайан Хайленд выша-гивал по Калсаде-дель-Серро между домов с величественными портиками, домов, которые уже начинали разрушаться.
Но про Брайана Хайленда мы так и не узнали. Мы были на обочине, в подвале, танцевали с Обдулио и Николасом Леонардом, который наконец-то принес «Молодежный хит-парад». В ту ночь мы слушали Клиффа Ричарда и впервые пили ром с кока-колой. Бутылку рома без этикетки принес из города, из увольнения, Браче. В подвале мы запирались обсудить убийство президента Кеннеди, дело Профьюмо, отставку Гарольда Макмиллана, примерить первые брюки без стрелки, узнать слухи, что какая-то английская группа играет даже лучше Элвиса Пресли.
Теперь мы регулярно курили и выпивали под новой, синего цвета лампочкой, слушали «Лос плеттерс», «Блу Даймондс», Джонни Матиса, дивились остроносым полуботинкам, которые прислали из-за границы Роберто Натчару. Пили мы из горла, закусывали украденными с кухни кофейными пирожными, приносили одолженные пластинки Билли Кафаро, Луиса Агиле, «Лос Камисас Неграс», Томми Сэнда, Чака Роберта, Ричи Нельсона, толковали о вечеринках нудистов и вечеринках с музыкой, о танцах в «Салон-Мамби», о полуночных проститутках Кони-Айленда, о голубых с Пасео-дель-Прадо, об отряде космонавтов и ледоколе «Ленин», о чешских проигрывателях вроде того, который однажды принес Роберто Хименес вместе с диском «Эверли бразерс».
Николас заставляет меня танцевать касино, чтобы я забросил этот дурацкий утиный шаг, а еще убеждает закадрить Глорию, зеленоглазую блондинку из двадцать шестой группы. Я влюбился в нее с первого взгляда, но в ее обществе чувствовал себя идиотом.
1 О, моя душа (англ.)
2 Ду-вуп (англ. doo-wop) — популярный в 1950—1960-е года. вокальный поджанр ритм-н-блюза, зародившийся в
3 Герой и его друзья обучаются в одной из школ-интернатов для способных учеников, которые были созданы на Кубе после революции. При поступлении в школу назначается специальная стипендия, которой могут лишить за неуспеваемость или плохое поведение. Выход в город разрешен только по увольнительной, в школу из общежития и обратно ходят колонной.
4 Касино — латиноамериканский танец. Руэда в применении к касино — постоянная группа искусных танцоров, которые выполняют па по указаниям лидера.
О сборнике «Десять кубинских историй. Лучшие рассказы кубинских писателей»