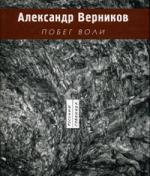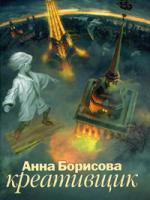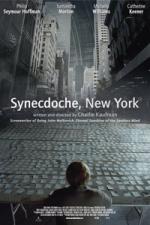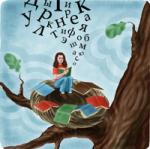Рассказы из книги «Побег воли»
После дискотеки
Иванов провожал с дискотеки какую-то Свету. Далеко. Когда все танцевали, а кругом орала и мигала цветомузыка, все было о’кей и слов не требовалось. Теперь говорили о грибах и летающих тарелках, одну из которых Света сама видела третьего дня из окна у подружки. Потом Иванов взял и, стесняясь, рассказал анекдот про грузина, который заявляет жене, что хочет сегодня «спать со светом. Свет, заходи». Света хихикнула и ущипнула Иванова за локоть. Когда наконец подошли к Светиному крыльцу, Иванов, как дурак, сказал, что хочет… пить — может быть, чашечку чаю? Он, правда, хотел пить, но еще больше — противоположного, а потому и замялся после слова «хочу», поправляясь на ходу, и эта пауза дала Свете повод истолковать просьбу Иванова так, как ей самой было интересней. Она понимающе стрельнула глазками, кивнула и повела Иванова за руку на второй этаж.
У квартиры оказалось две двери — а между ними тамбур чуть больше метра шириной — дом был старый. Горячо прошептав, что дома может кто-то быть, Света задрала юбку и встала на четвереньки прямо в тамбуре.
Молниеносная белизна ягодиц ослепила Иванова — и попить он так и не получил. Спросив из наклона: «Ну — ты все?» — Света выпрямилась, одернулась и, чмокнув Иванова куда-то в ухо, выпроводила его за дверь.
По инерции выйдя из подъезда на воздух, Иванов понял, что самым гадким и неожиданным образом вечер испорчен, настроение гнусное, словно его надули — а ведь так оно и есть! — и пожалел, что из Афганистана выведены все войска, значит, деваться некуда. Самым мерзким и деморализующим было то, что домой добираться на другой конец города, а транспорт наверняка уже прекратил ходить: хоть под кустом ночуй или вовсе уходи из дома — назло!
«А что, — сердито выдумывал Иванов, — действительно, возьму и смоюсь куда-нибудь, и все!» Ноги сами несли его в сторону, откуда временами доносился шум автомобилей, а в голове вставали образы плакатов на специальных стендах и объявления по телевизору: «Такой-то, такого-то года рождения… Ушел такого-то числа из дома и не вернулся. Приметы… Был одет…» Иванов остановился и тщательно в темноте осмотрел свою одежду и обувь. «Кроссовки фирмы „Адидас“», — произносил перечислявший голос диктора, хотя на самом деле никакой фирмы, но объявят, что «фирмы», мать же в таком случае не продаст. Это на миг согрело. А потом, естественно, всплыла дурацкая частушка: «Кто носит фирму „Адидас“, тому любая баба даст», — через секунду осознания Иванов остолбенел. Неужели она в самом деле над ним так надсмеялась?!
Одно мгновенье Иванов переживал страстный порыв вернуться и разнести в щепки дом потаскухи, затем просто топнул ногой и, набычась, пошел прочь — к дороге.
Возле самого выхода из переулка на проезжую часть его обступили две тени, и одна, сверкнув жутким лезвием, — столь же неожиданно, сколь давеча Света голым задом! — без обиняков проговорила: «Мужик, мы только что проиграли бугру жизнь первого встречного — это ты. У тебя полминуты: хочешь — молись, хочешь покури, вспомни маму. Но не вздумай орать. Не поможет».
Иванов не успел испугаться. Он вновь опешил, как от совпадения с «Адидасом». Протягивая машинально руку к подносимой зажженной сигарете и глядя на завораживающий масляный блеск орудия, которое уводит человека из дому и не возвращает, он промолвил с изумлением, и вышло чуть не с затаенной радостью: «Ребята, вы че — правда?»
Но тут краем глаза, поверх близящегося огня сигареты, он заметил еще три больших лобовых огня вывернувшего из-за поворота в метрах двухстах автобуса.
Это — автобус в такой час! — было куда большей неожиданностью, это побивало все.
И вскричав: «Мужики, последний автобус, на тачку ни копья!» — Иванов бросился бежать к остановке. Уголовники вздрогнули и расступились от радостного вопля своей жертвы, а когда опомнились, несбывшийся труп уже мчался от них метрах в пятнадцати. Один из бандитов в недоумении, слабо закричал вдогонку: «На х.. тебе автобус, мы ж тебя щас убьем?!» — и тут же свет из окон надвигающегося транспорта заставил их отступить в тень.
Иванов несся с единственной мыслью — успеть. Весь смысл жизни в этот миг нашелся и поместился в пахнущий кожей кресел, тускло освещенный салон, куда надо во что бы то ни стало вскочить — причем вовсе не с тем, чтобы спастись от угрозы ножа, а просто — надо, чтобы оказаться и дальше уже быть внутри самодвижущихся стен — стоять, оперевшись широким жестом, как на копье, на вертикальный поручень, хватать иссушенным ртом бензиновый воздух, ощущать сладкий и тяжелый гул после бега в ногах, которые больше не нужны, смотреть невидящим взором за черное стекло и замечать там лишь смутное свое отражение!..
Иванов достиг остановки даже секундами десятью раньше. Автобус своей вожделенной изгибающейся громадой медленно катил навстречу — ему, ему одному!
Иванов приосанился, успокоился, насколько мог после гонки, и сделал несколько исполненных гордой и деланной непринужденности шагов к двери… Номер был не тот! Этот автобус не подходил Иванову.
Они постояли какое-то время рядом — один с раскрытыми дверьми, второй с разинутым ртом, и Иванов повернулся к ненужному автобусу спиной. Тот, помешкав, несколько раздосадованно, но вместе презрительно хлопнул дверьми и рывками, сомневаясь, отъехал, все еще надеясь, что человек опомнится и одумается.
Но Иванов был непреклонен. Он чувствовал, сколь неумолима его отрекающаяся спина, и до предела раскрытыми глазами смотрел в ту сторону, откуда принесли его ноги, затратившие столько усилий и надежды, спасшей ему жизнь.
И вдруг он изо всей мочи, со дна живота и отчаянья, возопил в темноту, где таились обделенные им убийцы: «Мужики-и-и! Я вас обма-а-ну-ул! Я ненаро-оочно-ооо!!» Крик был потрясающим, в нем прорвались вся искренность и полное, бездумное самоотвержение. Через мгновенье он умер в воздухе, что называется, растаял, разбился о дома, был поглощен их стенами.
А еще через мгновенье голос откуда-то сверху отчетливо в наступившем безмолвии сказал: «Чего ты орешь, идиот? За-ткнись».
Откинутый
Когда человеку исполнилось 18 лет, его, как всех, призвали в армию. Но в то время он учился в ПТУ, и ему дали отсрочку и возможность получить специальности слесаря и сварщика. После этого он пошел служить в ряды, а вернулся через десять лет из мест лишения свободы. Для начала он угодил в дисбат за справедливое — по человеческим, а не уставным меркам — избиение офицера, а оттуда был переправлен за организацию забастовки на «нормальную» гражданскую зону, где получил дополнительный срок за попытку группового побега, которую возглавил.
При освобождении ему выдали его старую солдатскую форму, только без знаков отличия, потому что никакой гражданской одежды, как у других «откидывавшихся» зэков, у него не было.
Возвращался он без особого намеренья продолжать жизнь уголовником — он просто не знал, как будет существовать среди людей на свободе, и не верил, что ему это удастся. И еще он не хотел видеть никого из доармейских знакомых, даже родных. В роте, перед дисбатом, у него был друг, который жил до службы в одном большом центральном городе и теперь снова должен был жить там. Человек помнил его адрес и поехал по нему, просто чтобы выбрать направление и ничего не выдумывать.
Сойдя с поезда на нужной станции, человек вышел на привокзальную площадь и остановился, соображая, как узнать дорогу: к милиционерам было обращаться «западло», а определить, кто из прочего, сновавшего по площади народа — местный, он на глаз не мог. Когда он уже догадался сесть в такси и назвать адрес, из стоявшего неподалеку автобуса выскочил мужик и стал через громкоговоритель зазывать «гостей города» совершить экскурсию по центру, историческим местам и с заездом в зоопарк. Человек сразу же подошел к мужику, уплатил деньги, влез в автобус, устроился на заднем сиденье, дождался, пока заполнятся остальные места, и поехал в автобусе.
В зоопарке он откололся от группы и пошел сам. Кругом были клетки с решетками, где метались или лежали без движения разные твари, и возле забора — дощатый туалет, который человек сначала тоже принял за особый загон какого-то животного: там на стенах были рисунки и надписи, в которых педерасты предлагались друг другу и сообщали о своих умениях и пристрастиях. На ограде, внутри которой слонялся слон, висела табличка «СЛОН». Это была тюремная наколка, расшифровывавшаяся «Смерть Легавым От Ножа». На нескольких клетках с медведями были таблички со словом «бурый», что означало на фене «наглый» или «дерзкий». Возле клетки с надписью «Бабуин» стояла гогочущая и хихикающая толпа, потому что примат за решеткой сосредоточенно онанировал. Так же делали зэки на зоне. Так же делал сам человек. Когда возле загона с верблюдом стоявшая рядом с человеком девочка сказала державшей ее за руку тетке: «Смотри, какой бугор», человек понял, что это за место, и у него созрела идея.
Он разыскал директора зоопарка и попросил того взять его на работу. Директор расспросил человека — работники были ему нужны, — кто таков. Тот показал справку об освобождении, сообщил всю свою историю и сказал, какими специальностями владеет. Директор ненавидел уголовников, потому что несколько лет назад кто-то ночью на улице убил его брата, но не знал, как им отомстить. Теперь случай представлялся сам собой. Он сказал человеку, что примет его, только жить он будет — так как нет прописки и другого места — здесь же, в одной пустой клетке, пусть он оборудует ее как хочет. Там раньше жил винторогий козел, но недавно сдох. Директор выделил голосом слова «козел» и «сдох», особенно «козел», ибо знал, что это значит на жаргоне блатных и что это для них самое страшное оскорбление. Человек понял это и проглотил. Он написал заявление и сразу отправился в указанную ему клетку мастерить из подручного материала лежанку — он сколотил нары.
На него никто из публики не обращал внимания, потому что выцветшая солдатская форма напоминала робы рабочих. Сена для мягкости он взял там же, где его брали для зверей.
Первые две ночи он спал плохо, а потом привык. В город он выходил только поесть в столовой. Он оказался на редкость ценным и старательным работником, умел почти все. Так как он находился на работе буквально круглые сутки, это дало возможность директору уволить нескольких не устраивавших его лодырей и пьяниц. «Откинутый» с перегаром изо рта ни разу замечен не был, он только чифирил. За счет освободившихся ставок, то есть за некоторую их часть, директор удвоил человеку жалованье, а остальное расходовал на зверей. Когда директор окончательно уверился в этой странной полной преданности человека, он рассчитал и всех сторожей, сделав человека единственным охранником зверей в ночное время. Когда в зоопарке не оставалось ни души, человек ходил возле самых клеток и приучал себя не бояться зверей, а зверей приучал к себе. Он им говорил: «Подождите, подождите». То есть он говорил это себе.
С наступлением холодов директор предложил человеку переселиться в каморку позади клеток в отапливаемом зимнем павильоне. Человек согласился, но как только холода миновали, вновь перебрался в клетку. К этому времени он уже приобрел телевизор, стол, табурет и электроплитку.
Однажды он подошел к директору и внес рацпредложение — избавиться от массы ключей, заменив обычные навесные замки, которые любой мало-мальски опытный злоумышленник может открыть гвоздем, на кодовые электронные, и поручился сам их установить. Директор был поначалу изумлен, но, чуть поразмыслив, нашел предложение не лишенным смысла — он понял, что с этими замками его, в общем-то, отсталый зоопарк станет если и не уникальным в мире, то уж точно единственным таким во всей стране, он утрет нос столице, и о нем, то есть о директоре, напишут в газете и, может быть, снимут материал для телевиденья. Еще его соблазнила, как занятная, мысль соединить, хотя бы таким способом, в наш компьютерный век зверей с электроникой. Он даже помечтал в этой связи как о вполне возможной перспективе об оснащении своего кабинета дисплеем, на котором благодаря одному нажатию кнопки он сможет тотчас, никуда не выходя, увидеть любой уголок зоопарка, — хотя это, собственно говоря, ни к чему, разве что добавит ему значительности в собственных глазах, что тоже немаловажно. В общем, он дал согласие и вскоре выписал замки с общегородской базы. Человек в неделю их установил. Директор предоставил ему право самому придумывать для каждого зверя код.
Всю ночь в сторожевой будке человек составлял этот список, а утром положил его в двух экземплярах на стол директору. Все было строго по алфавиту — начиналось барсом и замыкалось яком, антилопы в этом зверинце не было.
Директор, внимательно изучив перечень, хотел, было, внести поправки классификационного толка, сгруппировав всех в согласии с линнеевским делением на отряды, семейства и виды, но удержался, осознав и отдав себе отчет, что это в нем говорит просто ревность с высшим образованием и зависть к какому-то бывшему зэку, «откинутому» — будто бы отдает своих, можно сказать, подчиненных или, по крайней мере, подопечных ему в руки.
И на самом деле он был недалек в этом ощущении от истины, ибо так оно и было. «Откинутый» попросту дал каждому зверю лагерный номер и таким образом завершил превращение зоопарка в зону.
Теперь было как технически, так и по сути проще организовать побег. Однако было необходимо совершить еще несколько приготовлений.
Неделю, сидя по ночам в сторожевой будке, человек создавал из картона, при помощи туши и плакатного пера таблички, где было название животного, его «блатная кличка», то есть то, что у следователей применительно к уголовникам именовалось словом «он же», — например: волк — серый, медведь — бурый, бегемот — туша, лось — сохатый (причем дело облегчало то, что у большинства зверей давно имелись такие клички), затем шла единая формула приговора: «Камера, пожизненно» и уточняющая цифра, колебавшаяся от 5 лет у зайца до 300 у черепахи.
Затем, с вечера накануне побега, человек наварил изнутри на вертикальные прутья своего логова частые толстые поперечины, установил, как у остальных, цифровой замок и, наконец, уже к исходу ночи, наклеил все изготовленные таблички. Потом нажатием кнопок он открыл все клетки — это не представляло для него опасности, ибо всех хищных зверей — а то были одновременно высшие животные, так сказать, с умом — он давно приучил к себе.
Управившись с этой работой, он затворился в собственной клетке, переоделся в нарочно для этого купленные и припрятанные рубаху с галстуком и костюмную пару и стал ждать, ибо больше делать было нечего.
Первыми вырвались на волю большие птицы — вороны, орлы, стервятники — и закружились в рассветном небе, расправив крылья и дивясь невесть откуда взявшемуся простору. Человек, приткнувшись к прутьям решетки, следил за тем, как они осваиваются с его подарком, — в их дальнейшей свободе можно было не сомневаться.
Клекот птиц и хлопанье их крыльев взбудоражило остальных — среди них первыми покинули свои клетки кошачьи: сначала они неслышно, как бы пробно, прошлись трусцой, а затем, испытывая мощь голоса и все уверенней рыча, стали носиться и прыгать. Шум нарастал с каждой минутой. На дорожках зоопарка появились волки, лисы, медведи; заржали и захрипели ослы, зебры, замычали яки, заревел буйвол — рев стал оглушающим, суматоха полнейшей.
Так длилось трое суток. Трое суток трещали над зоопарком вертолеты, гоняли по территории бронетранспортеры и пожарные машины, выбрасывались крючья, летали сети, раздавались выстрелы. Когда мятеж был наконец подавлен и к клетке человека подошли люди в военной и милицейской форме — потому что они нашли козла отпущения, — жалким и потерянным, чужеродным и одиноким был среди них директор, который отшатнулся, увидев, что человек по ту сторону прутьев одет практически так же, как и он сам.
Пока законники еще только молча, с недоумением и ненавистью, не находя слов, глядели на человека, он открыл рот и попросил единственное — не трогать его, оставить здесь, в этой клетке, таким как он сейчас есть, оставить его за этой решеткой навсегда, пожизненно.