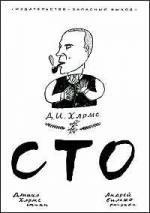Литература, играющая в прятки с читателем, теперь уже общеизвестна. Талантом проницательных исследователей, например, приоткрыта набоковская игра в ложные ходы и спрятанные смыслы, включиться в которую иной раз под силу лишь образованному и столь же хитроумному читателю. Корней Чуковский в свое время написал целое исследование «Тайнопись „Трудного времени“» — о романе писателя второй половины XIХ века Василия Слепцова: оказалось, в этой книге что ни фраза, то иносказание, подлинный смысл которого приоткрывается лишь тому, кто знает реалии того «трудного времени».
При чтении повествования Валерия Попова кажется, что имеешь дело с еще одной своеобразной ловушкой для читателя, — настолько трудно поверить, будто высказанное здесь писателем впрямую именно так и надо понимать, и за всем этим нет никакой игры, загадки, не сразу угадываемого второго плана.
Это впечатление возникает с первой же фразы: «Любой человек, живущий на земле, — писатель». Далее поясняется, что писание состоит всего-навсего в мысленном проживании жизни. Нет, думаешь, здесь есть какой-то скрытый смысл: ведь тогда придется согласиться, что и иное животное — писатель, хоть, к примеру, те же обезьяны или вороны, осмысляющие окружающий мир и корректирующие в соответствии с этим свое поведение.
То есть про: «Над вымыслом слезами обольюсь…» — помину нету.
Нет речи и о другой заветной составляющей того, что общепринято считать подлинной литературой: «И с отвращением читая жизнь мою…» Вместо этого Валерий Попов декларирует: «Надо не только прожить свою жизнь, но и запомнить ее, полюбоваться — или оправдаться. <…> Обидно засыпать, а тем более — умирать, не прочувствовав, не полюбив и не оправдав свою жизнь». Начинаешь догадываться, что здесь происходит демифологизация образа писателя: полюбоваться собой и оправдаться — вместо, вероятно, архаичного: продумать и исповедоваться.
Убеждение, что в своем новом произведении Валерий Попов подспудно играет с читателем в «анти-литературу» подкрепляется дальше тем языком, которым автор с ним, читателем, говорит: «помнить до гробовой доски», «бескрайняя тьма», «страстные желания», «вечная разлука», «мутно-серая мыльная вода», «легкий, покладистый характер», «наполняла душу ужасом и восторгом», «горячий липкий пот», — эти и подобные им стереотипные банальности, которые подчеркнул бы у начинающего прозаика любой руководитель творческого объединения, рассыпаны в тексте с обескураживающей щедростью.
Валерий Попов придал своему сочинению форму мемуара. Если следовать гипотезе о хитроумной игре, которую он ведет с читателем, можно предположить, что в разных главках, повествующих о том или ином писателе, было задумано в лице рассказчика воспроизвести разные типы личности, мироотношения.
Вот ревнивый честолюбец, подробно описывающий литературную судьбу Андрея Битова, который, якобы, «…создал, после сталинской тьмы, свою читательскую Россию, потом свою Америку, потом свою Европу и до сих пор держит их в руках». После того как в разных местах главки будет по два раза сказано одно и то же: что Битов «выстроил интеллигенцию» и умеет «ударить по шару», — фантасмагорическая картина сознания рассказчика окажется описанной Валерием Поповым со всей очевидностью.
Кажется, тот же персонаж выглядывает в другом месте книги, где Игорь Смирнов удостаивается им звания «звезды международной филологии», а Бродский «международного профессора», — наименований столь же абсурдных, как если бы, например, Абрамовича назвать международным миллиардером или Гергиева — международным дирижером. Правда, бывают международные премии и международные книжные ярмарки.
В главке о Владимире Марамзине Валерий Попов воссоздает образ лукавого, демонстративно внеисторичного рассказчика. Ему надо привести читателя к последней фразе: «Покидаю вас. Марамзин», то есть к эмиграции писателя, как решению, вызванному эстетическими причинами (у Марамзина и «ему подобных» «слово „как“ шло значительно впереди слова „что“»). Хоть и по прошествии уже более чем тридцати лет, но подлинные причины эмиграции Владимира Марамзина, конечно, еще помнят многие современники: в 1972-1974 годах Марамзин с друзьями готовил «самиздатское» полное собрание сочинений Бродского, в июле 1974 года был арестован по обвинению в «изготовлении, хранении и распространении антисоветской литературы», семь месяцев провел под следствием, в феврале 1975 года получил пять лет условно, а после этого (и вследствие этого) летом того же года эмигрировал.
Своеобразная этика у рассказчика главки о писателе Илье Штемлере. Исходный посыл здесь такой: «…если нужна конкретная помощь, требующая жертв и усилий, то с этим надо срочно обращаться к Илье». В подтверждение отмеченных отменных качеств приводятся два примера из жизни: как Илья Штемлер посетил больницу, где лежал драматург Александр Володин, пришел в соседнюю палату и рассказал больным, «что за человек тут рядом лежит, скромно умирая»; а в другом показательном случае Илья Штемлер звонит: «А книгу ты свою отослал на премию? Обязательно отправь!.. Ну хочешь — я отправлю». Такое вот «творение добра», говорящее, конечно, не о герое главки, а об этической планке рассказчика, образ которого воспроизводит Валерий Попов.
Больше всего в мысли о деструктивном по отношению к стандартной литературе замысле писателя утверждает, как ни парадоксально прозвучит, структура самого текста. Валерий Попов, мне кажется, дает ключ к отмыканию этого замысла, когда ностальгирует по прекрасным редакторам издательства «Советский писатель». В противоположность их профессионализму, Валерий Попов демонстрирует, как может выглядеть современная книга, которой не коснулась рука редактора.
Вот что тогда получается.
Подросток едет к отцу с Варшавского вокзала и комплексует по поводу его невзрачности, в отличие от Московского, «отпускающего поезда с поднимающей дух музыкой Глиэра». Но в произведении Валерия Попова этот эпизод происходит в конце 40-х или начале 50-х годов, а под музыку Глиэра «Красная стрела» стала отправляться лишь с 1965 года.
Выпускник 1957 года, выбирая институт, соображает: «„Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне“ И ради „почета“ многие лирики пошли в физики, включая меня». Но Б. Слуцкий написал эти строчки только в 1959 году.
Не стоит спорить, был ли уже в 60-е годы в обиходе крем для бритья или, как сказано в произведении Валерия Попова, еще отсутствовал.
Все это пустяки. По сравнению с главным деструктивным свойством текста: многочисленными, слово в слово, повторами одних и тех же фрагментов на всем его протяжении. Стоит только представить себе какой-нибудь роман, в котором дважды происходят, точь-в-точь, одни и те же события, или мемуарист одни и те же истории рассказывал бы по два раза и одними и теми же словами. Представить-то можно все что угодно, но встретить в реальности, по-моему, до сих пор было невозможно.
До появления «Горящего рукава».
История о том, как в квартиру героя врывается неизвестная женщина и срывает с постели свое белье, по ошибке взятое женой героя из прачечной, рассказана дважды: в № 5 на с. 32 и в № 6 на с. 15.
Признание: «Меня греет высказывание Пруста „В вечности от литературы остается только гротеск“» см.: № 5. С. 32 и № 6. С. 17.
Пересказ сюжета повести «Жизнь удалась!» с виртуозно точным повторением довольно сложной пунктуации: № 5. С. 33 и № 6. С. 18.
Комичная история, как в ответ на просьбу героя принести ему в больницу зеркальце жена доставляет трельяж, рассказана в № 5, на с. 32, и повторена в № 6, на с. 15.
Оставим остальные примеры будущим исследователям этого феномена.
Конечно, Валерий Попов перечитал свою рукопись, прежде чем отдал ее в редакцию журнала; конечно, редактор внимательно прочитал его повествование, — разве бывает иначе? Все дело в авторском замысле: на примере деструкции одного текста продемонстрировать плачевное разрушение — культуры письма, человеческих взаимоотношений, самой личности.
Замысел удался!