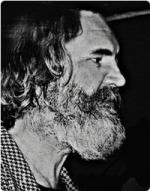В 2011 году состоялось вручение первой поэтической премии им. Геннадия Григорьева. Тогда на страницах «Прочтения» появился «Дневник члена жюри Григорьевской премии» — заметки литературного критика Виктора Топорова на полях подборок, присылаемых на коркурс. Вторую григорьевскую мы решили представить таким же образом. Вручение премии вновь состоится 14 декабря, в день рождения Геннадия Григорьева.
* * *
Возобновляю чтение рукописей по прошлогоднему образцу. Тогда их было 39, сейчас 41. Произведена частичная ротация, появились новые имена. Вместе с тем решено, что трое лауреатов прошлого года — Всеволод Емелин, Ирина Моисеева и Анджей Иконников-Галецкий — нынешний цикл пропустят. Стихи на сей раз будем читать по алфавиту.
1. Евгений Антипов
Петербуржец. Известный, я бы даже сказал, именитый. К тому же не только поэт, но и художник. В прошлом году, как мне показалось, он не угадал с подборкой. А сейчас вижу, что нет, угадал, потому что нынешняя, увы, заметно хуже прежней. И дело не в иронии пополам с самолюбованием (хотя смесь гремучая), а в воинствующем дилетантизме (ну, и инфантилизме) текстов; этакая, не понятно, на что рассчитанная, героическая самодеятельность: здесь я стою и не могу иначе! Ну, и стой себе на здоровье.
Марсий
Во время оно (то есть миф),
где горы лес теснят,
где обитают стаи нимф,
жил Марсий, то есть я.
Я жил среди любых зверей,
в среде синиц-задир,
великий трагик сам себе
и сам себе сатир.
Кипела жизнь, в лесах у гор
терял Макар — телят,
невинность — нимфы, кто чего
тут только не терял.
Иной и жемчуг не хранит,
хватает, мол, добра —
и кто-то флейту уронил,
и кто-то подобрал.
Был не с руки и не сродни
воздушный инструмент,
но я сказал себе: сатир,
бери и дуй, амен.
И дул. И вышло хорошо,
и нарастала страсть.
Шло время. Я же перешел
в иную ипостась.
Был мир! И не было границ
предмету мастерства.
Я ликовал! Я грыз гранит!
Я бросил вызов — Вам.
Вы — олимпиец, Аполлон,
а я, в конце концов,
ваш вечный ученик. Но он
с классическим лицом
молчал на все мои «прости»,
и, соответственно,
семь шкур — педант! — семь шкур спустил.
Поскольку — столько нот.
Красавец-эталон, садист,
мой бог, он так играл!
В чем провинился я, сатир?
Я честно проиграл.
Я никого не оскорблял,
за что же он убил?
За то, что тихо и без клятв
я флейту полюбил?
…Лежала флейта. Не извне.
Проста и не груба.
Лежала флейта, да. Так нет,
поднес ее к губам.
Я не борец, я лишь сатир —
богам отдайте миф.
Да, не как все и не статист.
Но короток наш миг!
Вот жизнь и смерть. Вот потолок —
вот «можно», вот «нельзя».
……………………………………
Бессмертны: флейта,
Аполлон
и Марсий. То есть я.
2. Асим
Кто это? Что это? Понятия не имею. Откуда-то из «Знамени», то есть от Ольги Ермолаевой (и поддержано Николаем Голем). Но сколько лет? Откуда? Профессия? И так далее. Все неведомо.
Не бездарен — явно. Не профессионален — определенно. В настольном теннисе, когда приходишь в секцию, первым делом учат: шарик ни в коем случае не должен касаться земли. У Асима касается. Не часто, но в каждом стихотворении хотя бы раз.
Я здесь. Я голосом отрезан.
Из шума выбивая тишину,
я почерком внимательным живу.
Железо катится по рельсам.
По вдавленным, трамвайным венам,
как будто кровь, перебегает блеск.
И город полон тайны, словно лес,
ночным черчением мгновенным.
Так тяжелеет гул гортанный,
как будто целый мир гудит во рту.
Мотоциклист бросается во тьму,
как быстрый, хищный рык пантеры.
Вокруг цветов клубится почва —
родные сгустки, рыхлый чернозем,
земля лежит, как сморщенный изюм,
и, как спина, горбата кочка.
Живым деревьям не по росту,
я сам себе ровесник без лица,
грудное замыкание кольца,
меня, как звук, вбирает воздух.
Суггестивная лирика. Автор слышит какой-то внутренний шум, не всегда понимая его — или, точнее, не понимая почти никогда. Шизоидный тип сознания. Стихи не то чтобы на грани творчества душевнобольных, но, скажем так, в отчетливо ощущаемом соседстве с ним. При этом, повторяю, далеко не бездарен.
Белокостный тот череп луны,
круглый отблеск холодного солнца.
Все мы волчьим сияньем полны,
вой грудной, как младенец, проснется.
Город, как загоревшийся лес,
все бегут от огня, словно звери.
Столько тел для разбега и мест,
а я выбрал непрочное время.
Все горит, и я тоже бегу,
на ходу говорящую силу
прижимаю, как зубы, в губу,
я тяну эту жизнь, как резину.
Капли маленьких звезд надо мной,
фонари, как глазастые совы.
Остановлен простой темнотой,
ее вдавленным цветом особым.
Черным пламенем выросший куст.
Вездесущи летучие мыши,
словно крики, слетевшие с уст,
и упруги древесные мышцы.
Гулкий вой превращается в бой,
в разрушительность вспыльчивой речи,
быстрый ветер ведет за собой
и уводит в обрыв поперечный.
3. Наталья Бельченко
Киевская поэтесса, моя давняя знакомая. Удостоилась восторженной оценки от такого грозного (и совершенно сумасшедшего) судии, как поэт, переводчик и прозаик Владимир Микушевич.
А тело движется на запах,
Без фонаря к нему идет
Кто был давно и прочно заперт,
Но вдохом обнаружил вход,
Где слиплись камфора и мята
И хочется лизнуть тайком
Жестокий мускус невозврата
И затаить под языком.
Надежно голову теряя,
Ее под ложечкой прижав,
Так радостно дойти до края,
Который вместе всплеск и сплав…
И выйти из-за поворота
Растерянной, совсем другой,
Сквозь запах притяженья рода,
Совпавший с этою ходьбой.
В Коктебеле (на поэтическом фестивале) мы с Мякишевым прочитали ее книгу вслух, на пляже, трактуя каждое стихотворение как прикровенно непристойное, чуть ли не как похабное.
Упрятавшимся в лоно фонаря, —
Где твой фитиль охватываю я,
Тобой разносклоняемое пламя, —
Какого же имения желать,
Когда на свет слетелась благодать
И сумрак расступается над нами.
Так, часть — до целого и пол — до полноты
Довоплощаешь, проникая, ты,
И бегство упраздняется по мере
Прибежища, налившегося в нем,
Пока не в схватке с нашим веществом
Отравленное вещество потери.
А нежность — даже посреди огней —
Влажна и обступает тем тесней
Ковчег фонарный, что иной неведом.
Он сам себе голубка и причал,
Его, как жизнь, никто не выбирал,
И никому не увязаться следом.
Потом я рассказал Наташе про нашу забаву. «А я об этом и пишу!» — ответила она без тени улыбки, но и без тени смущения, а главное, ничуть не обидевшись.
Сильнее сильного прижались,
На нет друг дружку извели.
Но даже боль была как радость
С проточной стороны земли.
В секундный ход ресницы малой,
Во всхлип из самой глубины
Какая рыба заплывала —
Ловцы доднесь удивлены.
За рыбой медленной янтарной,
Зияющей в бродяжьих снах,
Следит ловец, и год угарный
Его удачею пропах.
Так, меж дорогой и рекою,
Впаду в земной круговорот,
Но силы притяженья стою —
Через меня она идёт.
4. Валентин Бобрецов
Валентин Бобрецов в антологии Виктора Топорова «Поздние петербуржцы»
Наш земляк; поэт замечательный; практически неизвестный вне Петербурга, да и в нашем городе — далеко не всем; участвует в конкурсе вторично. Год назад промахнулся со стихами и с жанрами; на сей раз представил лучшее — оды тридцатилетней и тридцатипятилетней давности. Оды невероятно длинные — и если Валя не станет одним из лауреатов (чего я ему искренне желаю), а значит, не получит возможность печатать свою подборку в антологии Григорьевской премии целиком, то просто ума не приложу, как ее печатать. Здесь приведу первую треть (!) одной оды, на мой вкус, самой лучшей. Она посвящена памяти поэта Матиевского — участника антологии «Поздние петербуржцы» (как, понятно, и сам Бобрецов, который его мне наследие включить туда и порекомендовал)
1984 + 1
Памяти В. Матиевского
Где нельзя сказать правды, там я молчу, но не лгу
Воспоминания Фаддея Булгарина. Отрывки из виденного, слышаннаго и испытанного в жизни.
Имевший виды (впрочем, тщетно)
на оды долгое «о да!»,
исчадье века, novecento,
нет-нет, мой вариант dada,
он пишет кровью по железу,
но пышет кровью с молоком, —
во гневе равный Ахиллесу
сердитый карла, Бибигон, —
но всё равно, куда поскачет,
беспутный (пони был без пут)…
Седок без свойств и конь без качеств
друг друга как-нибудь поймут!
Когда в стеклянном павильоне,
крутя стаканы по столу,
сойдясь на По и на Вийоне,
сходили мы на фистулу;
когда пылало ухо маком,
но не зазорно было нам,
захлёбываясь Пастернаком,
посматривать по сторонам;
когда за юностью прощалась
и дрожь негнущихся колен,
и некоторая прыщавость
нас подвигающих Камен;
когда и молоды, и наглы,
и безучастны ко благам,
мы чаяли войти в анналы,
как зверобои в балаган;
когда… ещё бы по стакану!..
Однако знаешь, борода,
не примерещилось ли спьяну
«когда», звучащее, как «да»?..
Семидесятник-своеволец,
что чёрным флагом бороды
не поступился ни на волос, —
на снимке чисто выбрит ты.
И я, ещё не выбрав между
огнём и полымем, смотрю
с непредвещающей усмешку
улыбкою — на их зарю…
Единственное наше фото,
где мы с тобой без лишних лиц,
обнявшись, как у эшафота,
и округлив глаза на блиц,
как два стрельца — стоим в обнимку,
не в объектив, куда-то над, —
глядим. И не решить по снимку,
которого из них казнят…
Один в гробу. Другой далече.
А третьего на Пряжке лечат.
Четвёртый здесь. Но слышен трёп,
что настучал на первых трёх.
— Четвёртый чист! — упёрся пятый
и косо на меня глядит.
Шестой деньгу гребёт лопатой
Седьмая, та вот-вот родит
Восьмой? но бегает, спеша,
от Божья храма к ВШ.
Девятый пьёт. Десятый бросил.
Да так, что уж не рад и сам:
как будто головою оземь
ударился, когда бросал
Одиннадцатый стал начальством
(Ничто, как в песне, тало Всем).
Двенадцатый таким несчастьем
сражён — до срока облысев.
И вопиет: — Какая мука!..
Но плачет не по волосам.
Самсон горюет, потому как
сам посягал на этот сан.
И я, тот список продолжая,
тринадцатый, коль важен счёт /…/
5. Владимир Богомяков
Доктор философских наук, 1955 г.р., живет в Тюмени. Давно сложившийся, крайне своеобразный поэт.
Русско-азиатская песня
У болота шиповник отцвёл.
Бога ждёт Заурал в Дни Собаки.
И сучару-чалдона в нирвикальпа-самадхи,
Как в кизиловый глазик.
Взгляд обратно вошёл в кизиловый глазик.
В дырочку — щурх!
Но кикиморки тут не дают.
Но шишиморки скачут-судачут.
И хлоп — ставеньки!
Травку болотную жрут.
И штоф водки.
Давай дядю Мишу!
«Дядя Миша, ты хочешь пожить?
Русский выхухоль, падел ты, дядька!»
«Эх, кикиморки, я ль не всезнающ,
Вечен, вечносвободен, пречист,
Всесовершен, всеблажен и бесформен…»
Вот и осень. Другие чалдоны вернулись.
Вот и осень. Другие чалдоны ширнулись.
За эфедрином послали
И в конопляннике голом
Сели играть в цимбергу.
На сосне колокольчик повесят.
На осине висит барабан.
И забудут, что был тот шиповник.
И забудут, что был дядя Миша.
Так живут мудрецы наобум.
Красят хною кончики пальцев.
Червячков из фольги вырезают.
И Бычище — Проклёван Бочище,
То есть дом их не так уж плох.
Ах, в нём сало, еловые доски,
Уксус, клюковица и полынь.
На полынь колдовать неохота —
Трут шафраном дряблые щёки.
Всё по Йеменской знают звезде.
В ухо вденут кольцо и — знай наших!
Ну а дядя-то Миша уехал
На Шамруд на реку и ку-ку.
А был он, словно бабай.
Носил шапочку-бормотай.
В отхожем месте не баловался.
С сороконожкой не целовался.
Поганы деньги не брал руками
И мухоморы не бил ногами.
Видел, видел вашу мохнашку
Через дырявую чашку.
Когда-то Мартин Хайдеггер прислал Татьяне Горичевой свои стихи. Та передала их мужу, Виктору Кривулину, а он — мне, чтобы я перевел. Впечатление от стихов немецкого философа-экзистенциалиста было, мягко говоря, сложное. Вот и здесь тоже.
Когда я был бригадиром тракторной бригады,
Схвачу бывало Любку за жопу,»ух, ты, лебёдушка моя«.
Раз ночью проснулся, а у ограды
Три очень толстых поют соловья.
Налил самогону, отрезал сала.
А надо мной сияет звездами Уранография Иоанна Боде.
Прекрасно, что ничего не начнётся сначала,
Когда этот мир исчезнет в воде.
Или, например, так:
12 лет назад товарищи в Париже познакомили меня с Бодрийяром.
А я пил всю ночь с двумя туристками и изо рта был жуткий перегар.
Я хлопнул виски, зажевал его ирисками. Вот тут в комнату и входит Бодрийяр.
Я стушевался, поправил галстук и неожиданно спросил его как действует Судьба.
Честно говоря, не помню что он ответил. Однако, мне в скором времени не пришла труба.
Люди умирали, уходили всё дальше и дальше и усиливалась моя с ними разделённость.
Но непостижимо в информатизированной нашей вселенной крепла всех со всеми неразлучённость.
6. Ксения Букша
Ксения пишет много, в полуавтоматическом режиме, играется как в кубики тем, что человек попроще и побездарнее непременно назвал бы приращением смысла, тогда как ей самой хоть бы хны.
на голове кло
бук в голове клу
бок не хватает
рук показать где
Бог если
свет значит
нет
А вот откуда в следующем стихотворении «колбаса»? От верблюда!
Ксения имя страшное
касательное косой.
Ксения погашенная
убитая колбасой.
Ксения пугало в виде креста,
кости в виде ручья.
Ксения, спросите, это чья?
Нет! Это не та.
Стихи милые, я бы сказал, неумело-милые, — угловатые, аляповатые, нелеповатые, но при этом милые. На любителя? Да, на любителя. Опыт мировой поэзии показывает, что такие любители на таких поэтессах и женятся. А дальше уж бывает очень по-разному.
*
Я карандаш с резинкой на конце:
напишешь слово два сотрёшь напишешь три
какой конец стирается быстрее
я карандаш с бумажкой на носу
сотрёшь напишешь скомкаешь сгоришь
*
Меня водило по небе
Потом приблизило к себе
Потом отставило долой
Потом отправило домой
*
Запрут, отравят кровь, плоть ядом пропитают,
Заставят говорить, отпустят умирать.
Удрать? Но мир суров. Нет мест, где не пытают.
В степь, в скит, на Бейкер-стрит, на гору Арарат?
Любых полков герой, любых границ овчар
Готов тебя загрызть по первому приказу.
Спасают нас порой, дают нам промолчать
Не милость их — корысть, их бизнес, трезвый разум.
(Ведь наша роль — без слов)
7. Максим Грановский
Рекомендация Алексея Ахматова, так что, по-видимому, питерский. Складное виршеплетство. К поэзии отношения, увы, не имеет.
Офтальмология
Ты говорила мне шутя,
Что я, как Лорка.
О, близорукая моя!
Ты дальнозорка!
Тебе все грезилась семья,
А мне разлука.
Как дальнозоркая моя,
Ты близорука!
Другим стекляшки — полынья.
Мне — прорубь духа!
При зорком чтении меня
Ты близорука!
Ты на мужчин, да и на свет
Глядишь, как Зорге!
О, ближний, мой тебе совет:
Будь дальнозорким!
* * *
Автобус с грустными глазами,
Куда спешишь?
Ты отчего взмахнув крылами,
Не улетишь,
Из непролазной паутины,
Как стрекоза,
Стуча деталями стальными,
Раскрыв глаза?
Пусть пассажиры видят небо
В медузах туч,
Пусть невзначай ударит слева
Закатный луч,
На Моховой или Шпалерной,
Средь куполов,
Ты их высаживай трехдверно
В цветы домов,
К своим привязанностям, кухням,
Тревожным снам,
К любимым так прорваться трудно
Из пробок нам,
Пускай в фантазиях, хотя бы,
Перелетим,
Через бугры, через ухабы,
В туман и дым,
Где ветер сплелся с адресами…
Прости. Прости,
Улитка с грустными глазами,
Нам по пути!
8. Амирам Григоров
Московский поэт. В конкурсе участвует во второй раз. Пламенный публицист в ЖЖ и чистый лирик в стихах. Вот редкое исключение из правила:
Вот-вот прикроют русские бистро
Вот-вот прикроют русские бистро,
Свернут все тенты, спрячут всё квасное,
И голый сквер запахнет так острО
Всеобщим возвращеньем к перегною,
Я помню эту осень в двух веках,
До тополей, на переулке Тёплом,
До патины на бронзовых руках
Калинина, до ржавчины на стёклах,
Ещё до всех погромов в новостях,
До красных луж узбецкого портвейна,
И мусора́, заливисто свистя,
Сгоняли нас с брусчатки мавзолейной,
Ещё цвели невзрачные кусты,
И гром рычал, субботний день венчая,
У водосточных рукавов пустых
Раскачивались пальцы иван-чая,
Москва скрывалась плёнками дождя,
И, сквозь туман, не говоря ни слова,
Ты мне рукой махала, уходя
По переходу площади Свердлова.
Вот, возможно, лучшее стихотворение, которое несколько портит лишь неуместное здесь слово «альков»:
В год девяносто забытый, с печалью внутри,
Девичье поле темнело во все фонари,
Голые бабы с реклам завлекали в альков
Редких прохожих, застрявших у первых ларьков.
Провинциальный, усатый и тощий, как чёрт,
Я всё глядел, как пространство над полем течёт,
Думал — кончается вечер, а мы настаём
И закругляется город за монастырём.
Я в девяносто печальном, в начале начал
Дев бескорыстных на девичьем поле встречал,
Там, где искрящий троллейбус аптекой пропах
Словно сквозняк в пожилых деревянных домах
Там, где дымил пивзавод, и в осеннюю грязь
Племя поддатых студентов влетало, смеясь,
И, словно письма к себе, завершив променад
Стая московских старух возвращалась назад
Может, однажды, увидеть тебя захотев,
Я перейду это поле непуганных дев,
Прямо у парка, где тросы свистят тетивой,
Словно покинувший землю, червяк дождевой
А вот самое типично-хорошее:
На улице Щорса
На улице Щорса, средь ветхих кирпичных строений
Вьюны пожелтели, опали метёлки сирени
И на солнцепёке, где прежде сушились перины
Как пыль, накопился докучливый пух тополиный.
Над улицей Щорса проносится ветер, который
Шатает деревья, дерёт разноцветные шторы,
И, как самоварные дула, свистят водостоки
И пахнет пустыней, как это всегда на Востоке.
На улице Щорса, во дворике, в тесном квадрате
Нам столько отпущено времени, что не потратить,
Хоть пой, хоть гуляй, хоть сиди и гляди, как протяжно
Дымок самолёта проходит разрезом портняжным
На улице Щорса, спокойно, не щурясь, как змеи,
Мы смотрим на солнце, и нас беспокоить не смеют.
Участок вселенной, который обжит и намолен,
Для нас неподвижен, как тень, что упала на море.
Над улицей некой, любое названье не важно,
Качается небо, висит самолётик бумажный,
И под облаками его, как соломину, вертит,
Он помнит дорогу, но только не помнит о смерти.
9. Иван Давыдов
Московский поэт, участвует в нашем конкурсе вторично. В прошлогодней подборке явно переборщил с публицистической поэзией и, естественно, сатирой. В нынешней представлена по преимуществу суггестивная лирика, хотя размышляет, чувствует и страдает здесь, разумеется, Гомо Политикус. Особенность поэтики И. Д. — ориентация на европейские образцы, но не верлибровые, а рифмованные. На слух и на глаз это может показаться подражанием Бродскому (оммаж которому есть в самой подборке), однако генезис стихов здесь принципиально другой: какой-нибудь Тед Хьюз пополам с Филипом Ларкиным и некою примесью Дугласа Данна
За пригоршню долларов
Стрелять от бедра, говорить сквозь зубы,
Не выпускать изо рта вонючую сигариллу,
На стороне добра, конечно, но чтобы,
Враг, во-первых, собою напоминал гориллу,
И, во-вторых, добро было зла позлее,
Чтобы такое добро, из которого точно не слепишь культа.
Ощущать ладонью, как рвутся на волю, зрея,
Зерна смерти, укрытые в недрах кольта.
Стихи для выдуманных женщин
1. Памяти Нормы Джин Бейкер
Джентльмены предпочитают блондинок.
Некоторые — предварительно их разделав,
В соответствии с правилами компьютерных игр-бродилок,
То есть, стрелялок, конкретнее — тех разделов,
Где врага нужно долго тыкать бензопилой,
Уворачиваясь от струй рисованной крови.
В душу к ним заглядывает бездна порой
И никто, к сожаленью, кроме.
Согласно учению Дарвина эти джентльмены
Должны уже быть давно не у дел, однако,
Дев достаточно, и девы достаточно жертвенны,
Чтобы лечь под маньяка и даже под нож маньяка.
А я вот предпочитаю игры, которые поспокойней,
Где надо вовремя корму засыпать свиньям,
Где солнце сияет над колокольней,
И небо всегда остается синим.
А ведь мы могли бы вместе на этой ферме
Жить, надевши джинсы, рубахи в клетку,
По утрам ты пекла бы печенье в форме
Сердечек, меня целовала крепко,
А по вечерам звала бы: «Милый, живее,
По телевизору скоро начнется Камеди
Клаб!» Знаешь, я иногда жалею,
Что ты предпочла извращенца Кеннеди.
10. Евгения Доброва
Доброва прислала стихи на предварительный конкурс самотеком. И неожиданно они понравились всем членам жюри. Благодаря чему поэтесса попала в основной конкурс и чуть ли не стала теневой его фавориткой (ведь мы все пятеро уже высказались за нее). За последние полгода издала сборник и получила одну из относительно малых литературных премий (не помню, какую). Стихи и «на второй взгляд» обаятельны, но, пожалуй, все же не более того.
Грохольский переулок
На брандмауэр соседнего дома нацепили рекламу колготок.
Наши со счетом ноль — два проиграли княжеству Лихтенштейн.
Дожили, мама. Я вышла из дома под вечер — была суббота —
обедать с русским поэтом Петровым, влюбленным в еврейскую даму Шейн.
Я вышла из дома и шла по Грохольскому переулку,
любезно расчищенному таджиками, которым платят американцы.
Кохиноры сосулек точило опасно и гулко
огромное лезвие в небе, оскверненном «Люфтганзой».
И мне улыбалась, а может, кривилась, домовая арка.
Таджики бросали лопатами снег под огромные древние ели.
Их держат янки, купившие несколько га у дирекции старого парка,
основанного Петром в аптекарских целях.
Файв-о-клок в ресторане у парка — это заведено годами, —
в час, когда солнце сажает на кол флагшток префектуры.
Ростбиф — дрянь, но традиции требуют дани
серебром, пушниной, пенькой, а лучше, кхе-кхе, натурой.
Парк оцеплен с утра. Именитые гости в восторге от новых оранжерей.
Это пальмы графьев Разумовских, на этой скамейке сиживал Пушкин.
Эту пайн-три — внимание, плиз! — посадил сюда Питер де Грейт.
Тойлет слева. Вон там, на углу, продают безделушки.
Каппучино? американо? Спасибо, не надо.
Мясо — дрянь, но нельзя нарушить традиций.
Показалась в просвете аллеи делегация нью-Фердинанда,
а за старой петровской сосной притаился убийца.
2005
Симпатичное стихотворение в стиле фьюжн, не правда ли? Но все же никакой фьюжн не оправдает мяса на файв-о-клок. Да и никакого кофе, честно говоря, тоже.
Девочка с курицей
Девочка с курицей ходит гулять после двух.
Курица трепана, мучена — в чем только дух?
Девочка с курицей в нашем подъезде живет.
Рыжая девочка, волосы цветом, как йод.
Стоит ей только в дверях показаться, и тут
дети бросают свои самокаты и скейты, бегут:
— Дай посмотреть, подержать, поводить, где трава!
Нитка за ножку привязана, тянется метра на два.
Медленно дом свою тень на лопатки кладет.
Рыжая девочка томно беседу ведет.
Слов не услышать, но ясно, все ясно и так:
в нашем дворе появился разменный пятак.
Девочка, кто же тебе эту птицу живую принес?
Бабушка? Мама? Сестра? Даррелл? Брем? Дед Мороз?
Помню ее немигающий ягодный глаз.
Ходит, словно в рапиде, — битая, видно, не раз.
Ни червяков не клюет, ни прочую мошкару.
Думает: сдохну, к чертям, я в такую жару.
Ни одной лужицы нет во дворе, ни ручейка.
Бестолочь за ногу дергает, и не слегка.
— Аня, обедать! — мама с балкона кричит, и весь разговор.
Девочка дергает нитку. Как труп, волочит через двор,
но, спохватившись, игрушку под мышку сует.
— Клюнет! — мальчишки кричат, но курица не клюет.
Курица думает: как бы из Аниных рук —
и на картину, что накалякал Бурлюк…
Август кончается, вот уже в школу пора,
да и дворовая всем надоела игра.
Солнце проело в газоне янтарную плешь.
Осенью мама не скажет тебе, что ты ешь.
2008
Невольный оммаж будущему лауреату «Русской премии» (второе место за 2011 г.) Борису Херсонскому. К сожалению, столь же псевдоглубокомысленно, алогично и коряво, как у старого одесского шарлатана. Впрочем, этот досадный провал — чуть ли не единственный на всю подборку. Многовато также пишет верлибром, а ей это не идет. Поэтические переклички с Ириной Евсой
11. Ира Дудина
Наша землячка, по убеждению многих, включая меня самого, Наташа Романова-лайт. Впрочем, Ира предпринимает попытки из этого имиджа выйти главным образом за счет политизированности собственной лирики. У нее, как завистливо, но тонко подметила Юля Беломлинская, «зачесался Холокост». Причем зачесался с самой сексуально-притягательной исламской стороны — и стихотворение «Америка», например, вполне себе тянет на «разжигание». Приведу поэтому куда более невинное:
Гагарин
О чём мечтаешь, американец,
О чём мечтаешь, француз?
Попасть на обложку в глянец?
Стать как Уиллис Брюс?
Стать мировой тучностью
Примерно как Рокфеллер?
Иметь самолёт прислужницей
И с брюликами пропеллер?
Залезть в нефтебанки деньжищи сосать-
Об этом должен юнец мечтать?
О чём мечтали советские
Парни рабочие и колхозные?
Они мечтали о светлом.
Они мечтали о космосе.
О чём мечтали парни
В хрущовках уютных, приветливых?
Кумиром их был Гагарин.
Мечтой их была ракета.
Наступило продажности время.
Зло победило добро.
Деньгосчиталок племя
На земли России пришло.
Юноши, девы российские
Пялятся в дьявольский ящик.
Мечты капитала крысиные
В них преклоненье взращивают.
Ползать на брюхе пред долларом,
На форексе разбогатеть,
Кушать жиры в Макдональде,
Дядю в постели иметь,
Джинсами яйца замучить,
Кровь отравить кока-колой
Микки Маус научит
В своей глобалистской школе.
Юноша с детских лет
Дрочить должен жадности хавку.
Но юноша, мудрый, как дед,
Плюёт на всемирную лавку.
Он будет плохо одет,
Никогда не купит феррари.
Учёбе отдаст юный цвет.
Но будет летать как Гагарин.
У него не будет коттеджа,
Жить будет он в общаге.
Но у него есть надежда-
В космос лететь как Гагарин.
Его не полюбят девки,
Курилки, чьи кости кошмарны.
Наш юноша в космос метит,
Он хочет летать как Гагарин.
Пусть продадут Байконуры,
Ошибки внесут в ГЛАНАСы,
Пусть винтики вынут из Витязей,
Чтоб падали наземь асы.
Всех не укокошить.
Изыдут товарные твари.
Растут те, кто верят в космос.
Кто будет летать, как Гагарин.
На Волошинском фестивале в разгар чтения Дудиной с возмущенным воплем: «Это не поэзия» выбежала из зала главная волошинская лауреатка Мария Ватутина. Простим, однако, несчастной сочинительнице утомительно-бездарных и нараспев, под Ахмадулину, читаемых виршей. Как прощает ей (и ей подобным) и сама Ира Дудина:
(на обвинение Емелина в разжигании)
Мой черножопый кот кидает зигу.
Как увидит меня,
так бросает в приветствии лапку.
Мой кот, русский зооафриканец,
наверное, хочет в застенках сгинуть.
Он явно тайный фашист,
хотя прикидывается чёрной тапкой.
Я коту тоже кидаю зигу.
Вскидываю длинную руку в приветствии элегантном.
А кот в ответ удовлетворённо скручивается фигой.
Вот так мы фашиствуем на диване пикантном.
Я ему говорю:
«Ох ты чёрная харя!
Опять ты всё пожрал и всё погадил!
Не умеешь ты жить среди арийской расы!
Не место тебе в русском городе Петрограде!
Надо жить тебе на родине, на помойке у трассы».
Но раз, котик, ты умеешь кидать зигу,
Тебе многое может проститься.
Главное, в зиге не распускать когти мигом,
А то на твою коварную зигу
может кусок мяса мого подцепиться!
А главное, нам с тобой нехороший тупой люди
Могут пришить дело о разжигании и даже фашизме!!
Хотя ни я, ни ты- мы ничего такого не делали.
Я пела о своей гибнущей отчизне,
А ты немного лизал себе, будучи слегка в онанизме…
Но нас, милый кот,
Хули засунешь в тюрьму.
Мы, хоть и арийцы,
но обхитрим любого жидопиндоса.
Мы им скажем: «Мяу, куку и муму,
идите нах, всем приветик и досвидосы!».
12. Ирина Евса
Евсу порекомендовал я (на слух, на глазок) — и промахнулся. Или, вернее, порекомендовал на свою голову, потому что Евса, скорее всего, сильно, чересчур сильно понравится моим коллегам по жюри: уж больно мастеровитые (причем в хорошем смысле) у нее стихи:
* * *
С. Кековой
Там, где недавно толпы топали,
лишь светофор мигает плоско.
Снег принимает форму тополя,
машины, хлебного киоска.
Неужто, высь открыла клапаны
затем, чтоб двигаясь к ограде,
проваливался всеми лапами
пес на вечернем променаде?
Снег принимает форму здания
в кариатидах, слухах, сплетнях,
где длится тайное свидание
любовников сорокалетних.
Один из них часы нашаривает,
тревожно вслушиваясь в то, как
вторые под ребром пошаливают,
слегка опережая в сроках…
Снег принимает форму города,
в котором спит под нежной стружкой
бомж, подыхающий от голода,
но жажду утоливший жужкой.
А белое растет и множится,
создав, разглаживает складку.
В ночи посверкивают ножницы,
за прядкой состригая прядку,
как будто, — беженцев не мучая
допросом, врат не замыкая, —
цирюльня трудится плавучая
за кучевыми облаками.
И те, что вычтены, обижены,
чьи обезличены приметы, —
теперь, как рекруты, острижены
и в чистое переодеты.
* * *
Не хнычь, хлебай свой суп. Висит на волоске
зима. Чумазый март скатился по перилам
и мускулы напряг в решительном броске,
опасном, как тоска японцев по Курилам.
И капает с ветвей небесный карвалол,
в хозяйских погребах подтоплены соленья.
Но утро верещит парламентом ворон,
которому плевать на беды населенья.
Многоэтажный монстр из-под набрякших век
взирает, сон стряхнув, но выспавшись едва ли,
вмещая больше душ, чем полагает жэк:
на чердаке — бомжей, крысиный полк — в подвале.
А тут еще и ты, наркокурьер хандры,
роняющий слезу в рассольник раскаленный.
…Что, ежели на свет — всяк из своей дыры —
мы выползти решим расхлябанной колонной,
растя, как на дрожжах, терзая гулом слух,
насытившись брехней верховного паяца, —
поскольку (как сказал один мятежный дух)
живущему в аду чего еще бояться?
Южный вокзал
Апрель прилежно землю вспахивает,
проветривая глубину.
И площадь голубями вспархивает
в брезгливую голубизну,
где шумно плещется, полощется…
А ты болтаешься, вольна,
как бестолковая помощница,
что от работ отстранена.
За корм, проклюнувшийся в сурике,
ведя локальные бои,
до сумерек на бойком суржике
трещат у клумбы воробьи.
…С шестой платформы тянет ворванью,
ознобом сырости ночной.
Приходит пригородный вовремя.
Опаздывает скоростной,
в котором некто едет, мучится,
читает скверный детектив,
пирожным потчует попутчицу,
свободу снедью оплатив,
чтоб, не вникая в бормотание,
в окне нашарить точку ту,
где ты, утратив очертания,
стоишь с цигарочкой во рту.
Вы только посмотрите — и полюбуйтесь! Какое мастерство! Какое ритмическое разнообразие! Да и лексическое, кстати, тоже. Беда одна: поэзия в этих ладных виршах не ночевала. Не потому что они плохи пер тутто, а потому что поэтесса ничего не чувствует и ей, к тому же, категорически нечего поведать человечеству. На мой взгляд, разумеется. Исключительно на мой взгляд. Останусь наверняка в меньшинстве.
Виктор Топоров