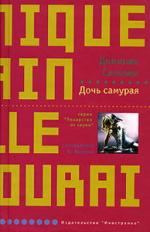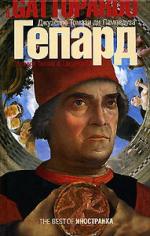Ватсон и Надсон
Мария Валентиновна была урожденная Де Роберти де Кастро де ла Серда. Дочь испанского аристократа, неизвестно как сделавшегося малороссийским помещиком.
Семнадцати лет, в 1865 году, окончила Смольный институт. На выпускном акте получила брошь с вензелем императрицы — и читала собственного сочинения французские стихи. M-lle Де-Роберти (фамилия свернулась, как веер) заинтересовала Александра II: он долго и ласково с нею говорил.
И много еще лет она попадалась ему на глаза: в аллеях Летнего сада, где государь прогуливался каждое утро. Она кланялась, он с улыбкой отвечал, а иногда и останавливался — сказать шутливый комплимент.
Днем же и вечером она занималась самообразованием (английский язык, немецкий, итальянский, испанский, португальский), но главное — общественной работой.
Старший брат, застрявший за границей (как окончил Александровский лицей, так сразу и покатил по университетам: Гейдельберг, Йена, Париж, далее везде), писал всякое разное научно-популярное — и присылал Марии Валентиновне — чтобы отнесла в такую-то передовую редакцию или в другую. Она постепенно перезнакомилась в литературе со всеми. Стала своим человеком в самой порядочной тогдашней газете — в «Санкт-Петербургских ведомостях». Там работали отчаянные журналисты — Корш, Ватсон, Суворин, Буренин. Там — под маркой Литературного фонда — ежедневно осуществлялась практика малых дел. Сборник ли составить в пользу голодающих, петицию ли против какой-нибудь очередной репрессии, да и просто денег собрать: скажем, неимущему — на стипендию, сосланному — на дорогу.
И вот оказалось, что Мария Валентиновна словно создана для всей этой тревожной суеты. Ездить к разным сановникам — простаивать часами в коридорах учреждений, дожидаясь приема, — просить, чтобы такое-то мероприятие дозволили, а такому-то человеку смягчили участь.
Она никогда не сомневалась в успехе своего ходатайства, — и, как правило, ей, действительно, шли навстречу. «Ее убежденность в том, что просящему надо дать, как-то сообщалась тем, кого она просила», — с некоторым недоумением замечает один современник — и признается, что сам-то он поначалу считал, что у Марии Валентиновны «дефект чувства реальности».
Как бы там ни было, она сделалась правой рукой Эрнеста Карловича Ватсона, который, в свою очередь, был душой Литературного фонда, а силы собственной души (надо же, какое стечение штампов!) отдавал «Санкт-Петербургским ведомостям».
Но в 1874 году его — и всех его друзей — из газеты попросили. Вроде как спор хозяйствующих субъектов, нам ли не понять.
Мария Валентиновна стала женой Ватсона, мачехой его дочери Лики. Тот бедствовал (кажется, и попивал) — перебивался переводами. Стала и она печатать в журналах — свои стихи, переводные стихи, статьи из истории западных литератур. Но по-прежнему каждый Божий день обивала пороги всевозможных начальников, ходатайствуя за разных несчастных.
Ей исполнилось уже тридцать семь, когда ее познакомили с этим — почти однофамильцем — подпоручиком Надсоном.
А ему стукнуло двадцать три, он напечатал дюжины две стихотворений (штук шесть — очень недурных). Полонский, Плещеев и сам беспощадный Салтыков находили у него талант, — а доктора нашли чахотку. В свой талант он не очень верил, а про чахотку еще не знал: в одном легком, сказали ему, катар, в другом плеврит, отсюда и кашель с кровью; а что нарыв на ноге (на самом деле — туберкулезная фистула) — так оперировать, и дело с концом. Надсон же на этот нарыв даже возлагал надежды: авось комиссуют — прощай, армия, здравствуй, литература! Хоть корректором, хоть рецензентом, хоть кем.
Мария Валентиновна нашла подходящее военно-медицинское светило, и отставку оформили за несколько недель. Сыскалась и литработа: в газете «Неделя», секретарем редакции. До конца лета все шло прекрасно, в сентябре Надсон начал умирать.
Шанс если и был, то в Италии. 10 000 франков на дорогу и операцию появились как из-под земли: мир не без добрых людей. Только Надсон был совсем плох, и отпустить его за границу одного — усадить в вагон и помахать платочком вслед поезду — выглядело немногим лучше, чем, скажем, бросить его под колеса и отвернуться, зажав уши.
Никто не удивился, что г-жа Ватсон решилась сопровождать больного юношу. Литературные люди, наоборот, высоко оценили ее вызов пошлым условностям света. Только и слышно было: honni soit qui mal y pense (да будет стыдно тому, кто об этом дурно подумает). Лишь бы удалась операция. А к тому времени, как Надсон пойдет на поправку, в Италию собирается, например, один молодой человек, некто Фаусек, он с удовольствием заменит Марию Валентиновну.
Так и случилось. В начале ноября в Ницце Надсона оперировали, через месяц она, оставив его на попечение этого самого Фаусека, возвратилась в Петербург. Надсон написал Эрнесту Карловичу замечательно сердечное письмо, как бы исчерпывающее весь инцидент: «Считаю теперь наиболее уместным поблагодарить вас за ту великую милость, которую вы мне оказали, решившись расстаться для меня с М. В. на такой сравнительно долгий срок. <…> Я знаю, как тяжело было со мной М. В.: не говоря уже о тех хлопотах и беспокойстве, которые неизбежны при участии к человеку серьезно больному, — я видел, что она постоянно скучает о вас и Лике и постоянно за вас беспокоится. Но теперь, когда она будет с вами, я думаю, что ей доставит некоторое нравственное удовлетворение та мысль, что она поступила высоко-великодушно и — скажу не прибавляя — просто спасла человеческую жизнь…»
В сущности, почти ничего неизвестно про ум и характер этого несчастного мальчика. Он успел высказать только три желания: быть любимым, здоровым и участвовать в литературе. Был сирота, почти всю жизнь провел в военно-учебных заведениях, и немного в этой жизни насчиталось бы дней, когда он чувствовал себя хорошо. Но держался достойно. Позволил себе всего лишь один малодушный поступок — написал Марии Валентиновне (в ответ на некий упрек, о содержании которого нетрудно, впрочем, догадаться): «…не хочу быть Молохом и принимать ваши жертвы, как должное… Не писал я вам еще и потому, чтобы не показать вам, как я хандрю, и тем бесполезно не огорчать вас; а хандрю я ужасно: вы мне необходимы, а в возможность свидания весной я не верю, не верю! <…> Ради Бога, устройте что-нибудь: или ваш приезд, или дайте мне возможность уехать. <…> Видите, какая трагедия, мое солнышко, а я знаю, что и вы приехать не можете! Что делать, что делать! У меня голова на части ломится!.. Я в отчаяньи!»
Через какое-то время он опомнился — залепетал в письмах, что ничего, ничего, что это был приступ хандры, а теперь все прошло; что и нога — хоть сейчас в пляс; и что вообще-то он имел в виду: как славно было бы ей изыскать возможность отдохнуть в Италии. «А всего бы лучше, если бы и Э. К. мог приехать…»
Но она все уже для себя решила.
Возьмем в скобки график их совместных скитаний, медицину, бюджет и внутренние дела. Чиркнем предпоследней спичкой год спустя, в 1886-м. Живут вдвоем в домике на окраине Ялты. Надсон знаменит. Книга вышла и вся раскуплена, идет второе издание. Осенью светит Пушкинская премия. Правда, стихи не пишутся. Зато пишутся (хотя тяжело) обзоры столичных журналов для одной киевской газеты. Все вместе похоже на счастье. Развязка кажется далека.
Но в Петербурге, в редакции «Нового времени», Виктор Буренин уже распечатал конверт — от неизвестного доброжелателя; уже прочитал вырезанный из этой самой киевской «Зари» обзор, в котором о нем — о Викторе Буренине! — писателе знаменитом и блестящем — сказано походя, с небрежной насмешкой — и как неумно! — и, главное, кем!
Буренин казнил по пятницам.
С Надсоном он покончил в три приема.
Первым делом — 7 ноября — уничтожил стихи. Для чего подпустил чуток теории: «У евреев, вследствие космополитического склада их чувства, недостает его реальной поэтической сосредоточенности: оно расплывается в блестящую и цветастую по внешности, но тем не менее по существу холодную и фальшивую риторику. Отсутствие эстетического вкуса, понимания эстетической пропорциональности — это также один из еврейских характеристических недостатков…»
Что ж, возражать не приходилось. Надсон не скрывал, что он внук выкреста. Сам не был уверен — внук или правнук. Отца не помнил — но тот был, без сомнения, православный: надворный советник, дворянин. Мать из фамилии старинной, столбовой — урожденная Мамантова. Одним словом, плюнуть на этот фельетон и забыть.
Следующий появился 21 ноября. Про маленького поэтика, сидящего на насесте в маленьком курятнике; как этот субъект, одаренный куриными силами, воображает, будто весь мир — не что иное, как его курятник. И в придачу несколько слов насчет «недугующего паразита», симулянта, обиралу сострадательных спонсоров.
Надсон собрался в Петербург — стреляться с Бурениным, — но внезапно у него отнялись нога и рука. В Петербург поехала Мария Валентиновна. Провела какие-то переговоры, написала какие-то письма. Вернулась.
И 16 января 1887 года грянул третий фельетон. В криминалистике это единственный пример идеального убийства.
«Весна 188… года для молодого поэта осветилась ярким заревом пламенной любви: в кухмистерской у Калинкина моста поэт встретился с Василисой Пуговкиной. Любовь между двумя гениальными натурами вспыхнула разом и объяла их существо скоропостижно. Василиса в то время находилась в полной зрелости своих нравственных и физических совершенств. Ей было сорок три года. Она была необыкновенно хороша, несмотря на некоторые важные недостатки, например, медно-красный цвет угреватого лица, грушевидный нос, черные зубы и слюну, постоянно закипавшую при разговоре в углах губ, так что во время оживленной беседы Василиса как будто непрерывно плевалась. Ее зрелая душа кипела пожирающим огнем и широко открывалась. <…> Поэт, страдавший катаром желудка, привязался к Василисе страстно. <…> В это лето были созданы чудные перлы гражданской лирики: „Скрипы сердца“, „Визги молодой души“, „Чесотка мысли“, „Лишаи фантазии“; кроме того, необычайно поэтический эпос „Дохлая мышь“ и исполненный нежности и страсти романс, представляющий высочайшую вершину, на которую когда-либо воспаряло чувство: „Василиса, Василиса, ты свяжи набрюшник мне“, и т. д.»
Кода скучней: Буренину не хватает дыхания.
Про этих дур, которые бегают по редакциям и вымаливают положительных рецензий на ничтожные стишки, «предупреждая при этом, что у автора стишков злейший геморрой, который может усилиться от строгих отзывов». Как эти назойливые психопатки угрожают неподкупным критикам: «объявляют их хуже всяких извергов, угрожают им „скандалами“, отлучением от „либеральной интеллигенции“ и — самой ужасной карой, какую только они могут придумать, — неподаванием критикам своей честной и всегда потной от запоздалой сантиментальности руки…»
В Ялту газета доставлена была, надо думать, на следующий день, 17 числа. К 19 января все было кончено. Как говорится: воспаление мозговых оболочек. Или: он умер у нее на руках. Или: она закрыла ему глаза.
А ей — через сорок пять лет — кто-то из персонала советской богадельни для престарелых и бездомных ученых и писателей. Там верили, что она когда-то была невестой какого-то поэта: за изголовьем кровати стоял его гипсовый бюст. Навели справки — где поэт теперь; и ей путевку выписали, слава Богу, туда же.
Семен Надсон
В альбом
Мы — как два поезда (хотя с локомотивом
Я не без робости решаюсь вас равнять),
На станции Любань лишь случаем счастливым
Сошлись, чтоб разойтись опять.
Наш стрелочник, судьба, безжалостной рукою
На двух различных нас поставила путях,
И скоро я умчусь с бессильною тоскою,
Умчусь на все моих парах.
Но, убегая вдаль и полный горьким ядом
Сознания, что вновь я в жизни сиротлив,
Не позабуду я о станции, где рядом
Сочувственно пыхтел второй локомотив.
Мой одинокий путь грозит суровой мглою,
Ночь черной тучею раскинулась кругом, —
Скажите ж мне, собрат, какою мне судьбою
И в память вкрасться к вам, как вкрался я в альбом?
1882
Самуил Лурье