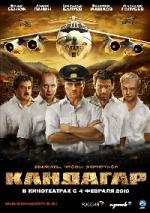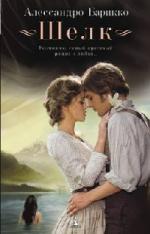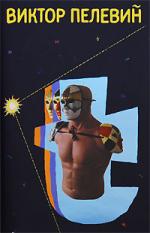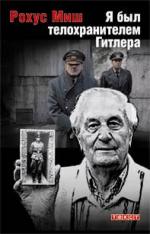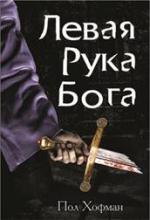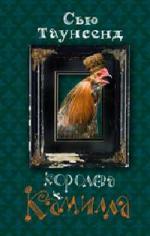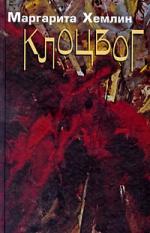Отрывок из эпической фэнтези Пола Хофмана, первой части большой трилогии.
Вот слушайте. Название «Святилища Искупителей», что на уступе Перестрельном, — гнусная ложь, потому что никакого искупления там не происходит, и еще меньше в нем святости. Земля вокруг вся заросла кустарником и высокими хилыми сорняками, и почти нет разницы между летом и зимой, — то есть, там всегда холодно, как в могиле, независимо от времени года. Само Святилище видно за много миль, если его не скрывает грязный туман, что случается редко, и построено оно из твердого, как кремень, песчаника, бетона и рисовой муки. Мука делает бетон крепче скалы, и это одна из причин, по которой тюрьма — а это и есть на самом деле не что иное как тюрьма — выдержала столько осад, что вот уже несколько столетий считается бесполезным даже пытаться завоевать Святилище на Перестрельном.
Это вонючее, мерзкое место, и никто, кроме Лордов Искупителей, по своей воле сюда не попадает. Кто же тогда их заключенные? Вообще говоря, это неправильное слово для тех, кого привозят на Перестрельный, потому что, если речь идет о заключенных, то предполагается, что они совершили преступление, а эти — ни один из них — не нарушали никаких законов, ни человеческих, ни божеских. И не похожи они ни на каких заключенных, которых вы когда-либо видели: те, кого сюда свозят, это сплошь мальчики не старше десяти. В зависимости от возраста они могут провести здесь больше пятнадцати лет, прежде чем уйдут отсюда, но удается это едва ли половине из них. Другая половина покидает это место в саванах из мешковины и упокоивается на Поле Раздолбаев — кладбище, которое начинается прямо за крепостной стеной. Это огромное кладбище, края которому не видно, и уже исходя из этого вы можете судить о размерах уступа Перестрельного и о том, как трудно там даже просто выжить. Никто не знает всех здешних ходов и выходов, и ничего не стоит потеряться в бесконечных вьющихся и закручивающихся, поднимающихся и опускающихся коридорах, потому что по ним идешь, словно сквозь дикие джунгли. Заблудиться здесь легко потому, что нет никаких внешних примет — все и везде выглядит одинаково: коричневое, темное, угрюмое и пахнущее старостью и тухлятиной.
В одном из таких коридоров стоит подросток лет четырнадцати-пятнадцати. Сколько ему на самом деле — не знает ни он, ни кто бы то ни было еще. Свое настоящее имя он забыл, так как каждого, кто сюда попадает, крестят заново и каждому дают новое имя — имя одного из мучеников Лордов Искупителей, а таких множество, учитывая тот факт, что с незапамятных времен все, кого им не удалось обратить, жалели, что родились на свет. Мальчика, который смотрит в окно, зовут Томас Кейл, хотя никто никогда не называет его по имени, и если бы он сам назвал себя Томасом, это считалось бы тягчайшим грехом.
К окну его привлек звук, доносившийся от Северо-Западных ворот, — скрежещущий стон, который раздавался всегда в тех редких случаях, когда эти ворота открывали, словно рычал какой-то колосс, страдающий от нестерпимой боли в коленях. Кейл наблюдал, как двое Искупителей в черных рясах, выйдя за порог, впустили внутрь мальчика лет восьми, за которым следовал еще один, помладше, за ним другой… Всего Кейл насчитал двадцать, прежде чем другая пара Искупителей ввела в ворота последнего, и створки начали медленно, мучительно закрываться.
Выражение лица Кейла изменилось, когда он, наклонившись вперед, успел увидеть в проеме между створками простирающуюся снаружи Коросту. С тех пор как он попал сюда одиннадцать лет назад — говорили, что это был самый маленький мальчик из всех, кого сюда когда-либо привозили, — Кейл побывал по ту сторону стены всего шесть раз. Во всех шести случаях его охраняли так, словно от этого зависела жизнь его стражей (впрочем, так оно и было). Не выдержи он хоть одно из этих испытаний — а это были именно испытания, — его прикончили бы на месте. Из своей прежней жизни он не помнил ничего.
Как только ворота закрылись, Кейл снова переключил внимание на мальчиков. Ни один из них не был пухлым, но у всех были по-детски округлые лица. И все смотрели широко распахнутыми глазами на крепость, пораженные ее огромными размерами и мощными стенами, но, притом что странность окружения удивляла и вселяла трепет, испуганными ребята не казались.
Грудь Кейла наполнилась необычным ощущением, которому он не мог найти определения. Но, как бы ни завладело им это непонятное чувство, дар всегда быть начеку и прислушиваться к тому, что происходит вокруг, спас его и теперь, как много раз спасал в прошлом.
Он отошел от окна и двинулся дальше по коридору.
— Эй, ты! Стой!
Кейл остановился и обернулся. Один из Искупителей, необъятно толстый, со свисающими над воротником складками жира, стоял в дверном проеме. Из комнаты у него за спиной доносились странные звуки и шел пар. Кейл смотрел на него с бесстрастным выражением лица.
— Подойди сюда, чтобы я тебя видел.
Мальчик подошел.
— А, это ты, — сказал толстый Искупитель. — Что ты тут делаешь?
— Лорд Дисциплины послал меня отнести это в Барабан. — Кейл поднял повыше синий мешок, который держал в руках.
— Что ты сказал? Говори четче!
Кейл, конечно, знал, что толстый Искупитель глух на одно ухо, и намеренно говорил тихо. Теперь он повторил сказанное, на сей раз почти прокричал.
— Ты что, забавляешься, парень?
— Нет, Искупитель.
— Что ты делал возле окна?
— Возле окна?
— Не делай из меня дурака. Чем ты там занимался?
— Я услышал, что открываются Северо-Западные ворота.
— Господи, ты в самом деле слышал? — Похоже, это отвлекло толстого Искупителя. — Они явились раньше времени, — проворчал он раздраженно, развернулся и, заглянув обратно в кухню, откуда исходил зловонный пар (да, толстяк был именно Лордом Провианта, надзирателем над кухней, с которой Искупители кормились отлично, а мальчики — едва-едва), крикнул: — Дополнительно двадцать человек к обеду! — после чего снова обратился к Кейлу:
— Ты думал, когда стоял у окна?
— Нет, Искупитель.
— Ты грезил?
— Нет, Искупитель.
— Если я снова замечу, что ты слоняешься без дела, Кейл, я с тебя шкуру спущу. Слышишь?
— Да, Искупитель.
Когда Лорд Провианта зашел в кухню и стал закрывать за собой дверь, Кейл произнес тихо, но вполне отчетливо, так, что всякий, кто не туговат на ухо, мог бы разобрать:
— Чтоб тебе задохнуться в этом дыму, жирный швайн.
Дверь захлопнулась, и Кейл зашагал по коридору, таща за собой огромный мешок. Хоть порой он пускался даже бегом, не менее пятнадцати минут ушло на то, чтобы добраться до Барабана, располагавшегося в конце отдельного короткого прохода. Барабаном это сооружение называлось потому, что было действительно похоже на барабан, если не принимать во внимание того факта, что оно имело футов шесть в высоту и было встроено в кирпичную стену. По другую сторону Барабана находилось запретное помещение, строго отгороженное от остальной территории Святилища, где, по слухам, жили двенадцать монашек, которые готовили еду только для Искупителей и стирали их одежду.
Кейл не знал, что такое «монашка», и никогда не видел ни одной, хотя время от времени ему приходилось разговаривать с какой-либо из них через Барабан. Он не ведал, чем монашки отличаются от других женщин, о которых здесь вообще говорили крайне редко, да и то как о чем-то абстрактном. Существовало лишь два исключения: Святая Сестра Повешенного Искупителя и Блаженная Имельда Ламбертини, в одиннадцатилетнем возрасте умершая от транса во время первого причастия. Искупители никогда не объясняли, о каком трансе идет речь, а спрашивать дураков не было.
Кейл крутанул барабан. Повернувшись вокруг своей оси, тот вынес наружу широкий зев, в который Кейл положил синий мешок и снова крутанул барабан, после чего заколотил по нему кулаком — раздалось гулкое «бум-бум-бум». Через полминуты с другой стороны стены рядом с барабаном послышался приглушенный голос:
— Это что?
Кейл приложил голову к стене и, почти касаясь ее губами, чтобы его было лучше слышно, прокричал:
— Эти вещи Искупителя Боско должны быть готовы к завтрашнему утру.
— Почему их не принесли вместе с остальными?
— Откуда, черт возьми, мне это знать?
Из-за Барабана высокий голос с плохо скрываемым гневом прокричал:
— Как тебя зовут, нечестивый щенок?
— Доминик Савио, — солгал Кейл.
— Ну, Доминик Савио, знай: я пожалуюсь на тебя Лорду Дисциплины, и он с тебя шкуру спустит.
— Да мне плевать.
Еще через двадцать минут Кейл уже стоял в учебной контории Лорда Воителя, где не было никого, кроме самого Лорда, который не поднял головы и вообще ничем не дал понять, что заметил появление Кейла. Он продолжал писать в своем гроссбухе еще минут пять, прежде чем заговорил, по-прежнему не поднимая головы:
— Почему ты так задержался?
— Лорд Провианта остановил меня в коридоре внешней стены.
— Зачем?
— Кажется, он услышал шум снаружи.
— Какой шум? — Лорд Воитель наконец посмотрел на Кейла. Глаза у него были бледные, водянисто-голубые, но взгляд острый. От него не ускользало почти ничего. А может, и вообще ничего.
— Там открывали Северо-Западные ворота, чтобы впустить свежачков. Он не ожидал их сегодня. Я бы сказал, потерял чутье.
— Придержи язык, — сказал Лорд Воитель, но сказал довольно мягко по сравнению с обычной своей суровостью. Кейл знал, что он презирает Лорда Провианта, а посему позволил себе высказаться о том подобным образом, понимая, что это не очень опасно.
— Я спрашивал твоего друга о слухах насчет их приезда, — сказал Искупитель.
— У меня нет друзей, Искупитель, — ответил Кейл. — Они запрещены.
Лорд Воитель тихо рассмеялся — не слишком приятный звук.
— На этот счет у меня нет сомнений, Кейл. Но если ты такой зануда, ладно, я имею в виду того тощего блондина. Как вы его называете?
— Генри.
— Я знаю его имя. Но у него есть кличка.
— Мы зовем его Смутный Генри.
Лорд Воитель рассмеялся, и на этот раз в его смехе можно было даже уловить намек на обыкновенное добродушие.
— Прекрасно, — одобрительно сказал он. — Так вот, я спросил его, в какое время ожидаются свежачки, и он ответил, что точно не знает — где-то между восемью и девятью ударами колокола. Тогда я спросил его, сколько их будет. Он ответил: человек пятнадцать или около того, но может, и больше. — Лорд Воитель посмотрел Кейлу прямо в глаза. — Я выпорол его, чтобы в будущем он был точнее. Что ты об этом думаешь?
— Мне все равно, Искупитель, — безразлично ответил Кейл. — Как бы вы его ни наказали, он того заслуживает.
— Это верно. Приятно, что ты так думаешь. Так когда они прибыли?
— Без малого в пять.
— Сколько их?
— Двадцать.
— Какого возраста?
— Ни одного младше семи. Ни одного старше девяти.
— Каких разновидностей?
— Четыре мезо, четыре эйтландца, трое фолдеров, пять полукровок, трое майями и один мне неизвестно кто.
Лорд Воитель пробормотал что-то, словно лишь отчасти был удовлетворен точными ответами на все свои вопросы.
— Подойди. У меня для тебя задачка. Десять минут.
Кейл подошел к большому, двадцать на двадцать футов, столу, на котором Лорд Воитель развернул карту, слегка свешивавшуюся с краев. Кое-что на ней было нетрудно разобрать: горы, реки, леса, но на остальной части стояли многочисленные деревянные бруски с написанными на них цифрами и иероглифами, некоторые бруски были выстроены в определенном порядке, другие разбросаны хаотически. Кейл внимательно вглядывался в карту отпущенное ему время, потом поднял голову.
— Ну? — сказал Лорд Воитель.
Кейл начал отвечать.
Спустя двадцать минут, когда он закончил, его руки все еще были, как положено, протянуты вперед.
— Весьма недурно. Даже впечатляюще, — сказал Лорд Воитель.
Что-то изменилось во взгляде Кейла. Вдруг, с чрезвычайной проворностью, Лорд Воитель хлестнул по левой руке Кейла кожаным ремнем, утыканным крохотными, но густо посаженными шипами.
Кейл моргнул и скрипнул зубами от боли, однако почти сразу же его лицо вновь обрело выражение настороженного хладнокровия, какое Искупитель неизменно видел на нем при каждой их встрече. Лорд Воитель сел и уставился на мальчика, словно это был некий предмет, вызывавший одновременно интерес и недовольство.
— Когда ты усвоишь, что, демонстрируя изобретательность, делая нечто оригинальное, ты просто тешишь свою гордыню? Твое решение может сработать, но оно неоправданно рискованное. Тебе прекрасно известен проверенный ответ этой задачки. В войне заурядный успех всегда лучше блестящего. И тебе следовало бы научиться понимать, почему это так. — Он в ярости стукнул кулаком по столу. — Ты что, забыл, что любой Искупитель вправе убить на месте любого мальчишку, если тот сделает нечто неожиданное?
Снова грохнув кулаком по столу, Лорд Воитель встал и свирепо уставился на Кейла. Из четырех проколов на все еще протянутой вперед руке Кейла слабо сочилась кровь.
— Никто не станет потакать тебе так, как я. Лорд Дисциплины внимательно за тобой наблюдает. Ему каждые несколько лет требуется наглядный пример. Ты что, хочешь кончить героем Акта Веры?
Кейл молча смотрел прямо перед собой.
— Отвечай!
— Нет, Лорд.
— Думаешь, ты такой уж необходимый, ты, бесполезный нуль?!
— Нет, Лорд.
— Это моя вина, моя, моя страшная вина! — воскликнул Лорд Воитель, трижды ударив себя в грудь. — У тебя есть двадцать четыре часа, чтобы подумать о своих грехах, после чего ты смиренно предстанешь перед Лордом Дисциплины.
— Да, Искупитель.
— А теперь убирайся.
Опустив руки по швам, Кейл повернулся и пошел к двери.
— Не испачкай кровью ковер, — крикнул ему вслед Лорд Воитель.
Кейл отворил дверь здоровой рукой и вышел.
Когда дверь со щелчком закрылась и Лорд Воитель остался в своей учебной контории один, выражение его лица изменилось: едва сдерживаемый гнев уступил место задумчивому удивлению.
Оказавшись в коридоре, Кейл на минуту остановился в ужасающем коричневом свете, коим было отравлено все пространство Святилища, и осмотрел свою левую руку. Раны не были глубокими, потому что шипы в поясе предназначались для того, чтобы причинить сильную боль, но нанести лишь легко залечиваемые раны.
Он сжал кулак и съежился, голова его затряслась, словно глубоко внутри черепа пробежала дрожь. Потом он расслабил руку, и в мрачном свете стало видно, как на его лицо наползает выражение мучительного отчаяния. Оно исчезло уже в следующий миг. Кейл зашагал по коридору и скрылся из виду.
О книге Пола Хофмана «Левая рука Бога», официальный трейлер книги