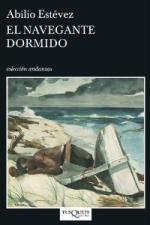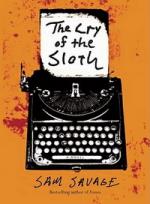Отрывок из романа
О книге Сэма Сэвиджа «Крик зеленого ленивца»
Уважаемый мистер Фонтини,
Должен вас уведомить. Шпаклевщик представил
счет за реставрацию потолка на кухне. Это
был, как, разумеется, не ускользнуло от вашего
внимания, довольно-таки солидный кус потолка,
больше, собственно, тех целых потолков, какими,
увы, многим бедным людям приходится
довольствоваться в своих жилых помещениях.
Более того, это уже повторный случай, что соответственно
усугубляет для меня бремя оплаты.
У меня не безграничный источник средств. Это
подтвердят вам многие. Короче, я не могу восполнять
чужие денежные средства в размере $400 из
моего собственного кармана. Прилагаю копию
вышеупомянутого счета для вашего ознакомления.
Будьте любезны его погасить в срок ближайшей
арендной платы.
Искренне ваш
Эндрю Уиттакер,
компания Уиттакера.
* * *
Милая Джолли,
Чек меньше, чем ты рассчитывала, но тут уж ничего
не поделаешь. Что бы там ни значилось в договоре
о разводе, ты не хуже меня знаешь, что мое имущество
не является «собственностью, приносящей
доход». Уже когда ты уезжала, все это трещало по
швам, а теперь до того заложено-перезаложено,
пришло в такой упадок, что еле-еле мне самому
дает возможность держать на плаву мой утлый челн,
покуда его мотает на океане говна, притом что он
убог и обременен лишь самыми скромными, насущными
пожитками. (То есть, я хочу сказать, убог мой
челн; океан говна, конечно, могуч и безграничен).
Говоря «пришло в упадок», я имею в виду — разваливается
на части. Миссис Крамб на той неделе
пыталась открыть окно у себя в спальне, и оно вывалилось
на улицу. Теперь ей придется вставить пластиковые
окна, куда она денется, а пока суд да дело,
я вынужден на двадцать баксов сбавить ей квартирную
плату. Что ни месяц возникают новые пустоты,
неостановимое кровотечение, буквально. Две квартиры
по Аэропорт-Драйв всё еще не сданы, хоть
я из кожи лезу вон, вплоть до того, что оплачиваю
бессрочное объявление в газете. Снаружи сорок градусов
жары, а я не решаюсь включить кондиционер.
Деньги, какие посылаю, я извлек, «перенаправил» —
таков, я думаю, официальный термин — из фонда
для содержания и ремонта. А ты сама прекрасно
понимаешь, что чем больше я его ужму сейчас, тем
меньше будут в дальнейшем мои доходы. Рекомендую
тебе над этим поразмыслить. Если позвонит
Тодд Фендер, я брошу трубку.
Они спилили высокий вяз, тот, что стоял напротив
через улицу. Последний вяз во всем квартале.
Когда пильщики убрались, я перешел через дорогу
и постоял на широком белом пне, глядя на наш дом,
жарящийся на солнце, лишенный благодатной тени.
И поразился даже — какой же у него неинтересный,
скучный вид.
Вот, пожалуй, и все. Меня уже не спрашивают,
как ты там и как мои дела. Наоборот, я ловлю на
себе взгляды немого сострадания, я прямо в нем купаюсь.
И на ходу я взмахиваю руками — лихо и бодро,
по-моему, — чтоб всех сбить с толку и смутить.
В былые времена я поигрывал бы стеком с набалдашником
слоновой кости, и, глядя на меня, народ
бы говорил: «Вот, идет сочинитель». А теперь он говорит…
Да, что он говорит?
Искренне твой
Энди.
* * *
Просторное уютное жилище! 1730 Южн. Сполдинг.
Дом на две кв. В кажд. кв. 2 ванные комн., с 1 ван.
в кажд. Удобства. Стирка/сушка. Свежепокрашено.
Ковер. Просторное старинное зд-е с множ-ом
усоверш-ний. Из верхн. кв. вид на небольшой пруд.
Центр. Несколько минут до автобусн. лин. $187
плюс оплата жилищн. услуг.
* * *
Милый Марк,
Сколько лет, сколько зим, я по пальцам сосчитал,
неужели уже одиннадцать? Обещали не терять друг
друга из виду, и вот… Думаю, и в ваши «Новости
востока» кое-что просачивается, доходит из наших
милых мест. Мне лично вполне хватает воскресного
приложения к здешнему «Каррент», чтобы
следить за твоей карьерой (вот, написал и хмыкаю
вслух, припомнив, как слово «карьера» считалось
ругательным в нашей хулиганской компашке, но
хмыканье мое тронуто печалью). Как-то «Новости
востока» поместили фотографию: ты на мотоцикле.
Машина, конечно, великолепная, никогда не видывал
столько хрома сразу. Хотел было послать эту
фотографию тебе, но подумал: ведь у тебя, наверно,
существует для вырезок собственное бюро. Всякий
раз, когда встречаю в печати твое имя, милый Марк,
или вижу восторженную рецензию на твой очередной
роман, к сердцу подступает жаркая волна радости
за успехи старого приятеля, радости, к которой,
должен признаться, примешивается и легкая доля
личного удовлетворения. А почему бы нет? В конце
концов, кто, как не я, вел нашу милую компашку по
пути экспериментов, которые ты и другие, включая
хитрюгу Вилли, довели потом до такого совершенства.
Я считаю себя искрой, из которой возгорелось
пламя. Жаль только, что плодотворная идея — брать
киногероев и непосредственно внедрять в роман —
так теперь опошлена иными горевоплотителями,
лишенными твоего таланта. Следует ли нам зачислить
в их круг и нашего Вилли? Что-то я за него побаиваюсь.
Но постой. Я ведь пишу тебе не для того, чтоб
ворошить старое или — переиначим фразу — перебирать
ворох старья. У меня есть друг в беде. Не
то чтобы друг из плоти и крови, хоть и таких, увы,
хватает. Я имею в виду «Мыло», художественный
журнал, небольшое литературное издание — я его
основатель и издатель — с двумя ежегодными приложениями:
«Мыло-экспресс» и «Лучшее в «Мыле».
Думаю, ты слышал толки о нас в разной полупочтенной
прессе, хоть и не подозревая, может быть,
о моей причастности (я не сую на обложку свое
имя), а возможно, даже заметил соответственное
упоминание в «Американ аспект» несколько лет
тому назад, в рецензии на «Лунный свет и лунную
тьму» Троя Соккала, где «неомодернисткие потуги»
«Мыла» противопоставляются — сочувственно, со
знаком плюс — «мрачному натиску» соккаловского
направления «Навоза и слизи». Конечно, они почти
всё на свете перепутали: никаким соперничеством
между «Мылом» и Соккалом даже и не пахнет,
а направление «Н. и с.» существует исключительно
в воображении Соккала. Я послал тебе тогда же не
сколько экземпляров журнала, но подтверждения
не получил. Не дошли, наверно.
Позволь тебе представить несколько наших, так
сказать, открытий. Это мы впервые опубликовали
душераздирающий травелог Сары Баркет «Сортиры
Анапурны», равно как и роман Ролфа Кеппеля
Зена «Шарикоподшипник». Оба произведения
были затем подхвачены крупными нью-йоркскими
издательствами, и с немалым успехом. Уверен, что
хотя бы эти названия тебе знакомы, если даже книг
ты не читал. (Должен, к сожалению, констатировать,
что читателю приходится тщательно исследовать
микроскопический шрифт страницы копирайтов,
чтобы дознаться о нашей роли при извлечении на
свет этих авторов, по правде говоря, жалких провинциалов
и с манерами подстать.) Зеркальная поэзия
Мириам Уильдеркамп тоже регулярно появлялась
на наших страницах в те поры, когда другие даже
не смотрели в ее сторону. Новейшее наше открытие
— Дальберг Стинт, который, полагаю, скоро
взметнет в литературе огромную волну. И все это
вдобавок к собственным моим рассказам, обзорам,
небольшим стихам на случай. Я издаю этот журнал,
можно сказать, единолично вот уже семь лет. Все
это время я перебарываю мертвящее равнодушие
вокруг, прямо-таки с паундовской яростью отстаивая
хоть какие-никакие стандарты. И могу с гордостью отметить, что кое-что нам удалось встряхнуть,
в положительном смысле этого слова.
Тем не менее очевидно, что предприятие, подобное
«Мылу», не может выжить на одной подписке.
Мне приходилось отрывать несчетные часы от собственного
творчества и обивать пороги с шапкою
в руке ради частных и общественных пожертвований.
Никогда их не хватало, и выживали мы только
за счет того, что заимствовали средства из моих
личных фондов. Мы с Джолли даже регулярно продавали
выпечку в Университетском парке, и был
период, когда нас это выручало, но с тех пор я лишился
ее поддержки, не только ее пекарского дара,
но и печатания на машинке и бухгалтерских услуг.
Вот уже два года, как она переехала в Нью-Йорк,
в Бруклин, изучать театральное искусство, несмотря
на то что прежде ни малейшего интереса к тетральному
искусству она не проявляла. Тем временем отношения
мои со здешней «творческой средой» совсем
закисли, отчасти, возможно, потому, что рядом
нет искрометной Джолли, которая умела вовремя
меня окоротить. Есть у меня, что греха таить, эта
страсть к вспышкам ненужной откровенности. Но
корень-то проблемы, думаю, в том, что постепенно
эти людишки сообразили, что я вовсе не собираюсь
отдавать мое «Мыло» под свалку для их посредственных
поделок. Дело до того дошло, что наши «Новости
искусства» считают своим долгом регулярно
перемывать «Мылу» косточки, полоскать «Мыло»
в своем «Ежемесячном обзоре», обзывая его то Шилом, то Сортирным мылом, то прочими неостроумными
прозвищами. Уже по одному этому ты легко
себе представишь, с чем нам тут приходится сталкиваться.
Иной раз и позавидуешь тем, кто живет себе
в Нью-Йорке.
При нынешней экономике — никсоновские
ребята явно не в состоянии с ней сладить — лично
мой доход сократился, прямо-таки съежился, а расходы
вздулись. Если не предпринять решительных
ходов, «Мыло» обречено будет катиться под откос.
И тут уж не спасет никакая выпечка. И вот, милый
Марк, я подхожу к самой сути моего слишком путаного
письма. Я наметил кое-что весьма значительное
на грядущую весну. Планы пока эскизны, но мне уже
видится некий симпозиум, плюс семинар, плюс отдых,
плюс писательская колония этак в апреле, как
раз когда появятся нарциссы. Моя идея — собрать
первоклассные таланты со всей округи и свести их
с платящей за билеты публикой для субботне-воскресных
семинаров и лекций. Как ты знаешь, народ,
посещающий подобные мероприятия, обыкновенно
не сильно разбирается в том, кто есть кто в литературном
мире (большинство, боюсь, не слыхивало
о Честере Силле или о Мэри Коллингвуд, а кстати, оба
обещали быть), так что было бы здорово заполучить
хоть одну фигуру «национального масштаба». А должен
тебе сказать, что после тарарама вокруг твоей
«Тайной жизни Эха» ты, безусловно, таковой фигурой
как раз являешься! Ну так как? Приедешь? К звучному
«Да» ты, я надеюсь, присовокупишь яркие идеи
для нашей программы, безусловно у тебя имеющиеся.
Пока ничто еще не закреплено.
Твой старый друг
Эндрю Уиттакер.
P. S. Ни я, ни журнал, к сожалению, не сумеем оплатить
тебе твое пребывание и даже покрыть дорожные
расходы. Мне очень неловко. Ты найдешь,
однако, в моем доме уютное пристанище и, когда
схлынут толпы, добрую компанию для полуночных
бесед. Знаю, тебя не отпугнет, если я честно скажу,
что рассчитываю на нелицеприятный разговор по
поводу кое-каких твоих недавних опытов.
* * *
Пакость, пакость. Ложь, подхалимство, идиотство. Эти
льстивые фразы. И как можно дойти до такой низости?
А нужна-то мне всего-навсего дверца, чтоб уйти,
удрать хотя бы на время от этого мира. В детстве бывало
— спрячусь в большой кладовке при родительской
спальне, свернусь калачиком в темноте, запах нафталина
лезет в нос, на буграх сижу, а это мамины туфли.
* * *
Уважаемая миссис Бруд,
Вот уже семь месяцев, как я от вас не получал арендной
платы. Дважды я посылал вам вежливые уведомления. В них не говорилось о расторжении контракта,
не содержалось сердитых слов, никто вам
не угрожал принятием законных мер и грубым выдворением.
В свете всего этого вы легко можете себе
представить мое удивление, когда сегодня утром
я вскрыл ваш конверт и выпал из него вовсе не чек,
отнюдь не денежный перевод. Нет, то, что выпорхнуло
на пол, был ваш поразительный ответ. Мадам,
позвольте мне припомнить обстоятельства наших
прений, когда вы пришли ко мне пять месяцев тому
назад, уже при двухмесячном сроке своей задолженности.
Вы были расстроены, вы были даже, можно
сказать, убиты, а поскольку я не Скрудж и бессердечно
не деру три шкуры со своих арендаторов, я не
оставил вас на пороге под дождем, я пригласил вас
в дом, я предложил вам сесть. Все стулья были заняты
моими бумагами и книгами, и мы вынуждены были
разделить тот краешек тахты, который был еще свободен.
Вы промокли, вы тряслись от холода. Я принес
вам стаканчик мартини и немного орешков. Я терпеливо
выслушал рассказ о несчастном случае, постигшем
вашего супруга при пользовании электроблендером,
и о связанных с ним медицинских расходах,
как и рассказ о несправедливом аресте вашего сына
и связанных с ним юридических расходах. Растроганный,
я произносил сочувственные банальности,
обычные в подобных обстоятельствах. Однако, прося
вас не беспокоиться, мог ли я хотя бы отдаленно
себе представить, что вы это примете за разрешение
впредь и вовеки жить на квартире у меня бесплатно!
Что же до вашего нынешнего письма, я решительно
не постигаю смысла вашего утверждения, что, если
я стану настаивать на покрытии задолженности, вы
будете «вынуждены все рассказать супругу». Рассказать
супругу — но что?? Что законный хозяин дома,
в котором вы проживаете, хотел бы получить скромную
плату? И что вы хотите сказать своей фразой
«если вы пожелаете снова меня увидеть»? На что это
вы намекаете? Вы плакали. Вы сидели на моей тахте.
И разве это не совершенно естественно, что я был
в высшей степени смущен? Я обнял вас, как обнимал
бы плачущего ребенка. Я бормотал: «Ну, ну, да
ладно, ладно». И если я себе позволил погладить вас
по голове и отвести от ваших губ взмокшую седеющую
прядь запачканным в чернилах пальцем — после
того, как вы, можно сказать, свалились на мою
голову, — в этом не было (смею ли признаться?) решительно
никакой сексуальности. Просто я считал,
что эти жесты придадут веса тем словам сочувствия,
каковые, приведись мне вновь их произнесть, будут
исключительно формальны. Возместите, пожалуйста,
7 x $350 = $2450.
Искренне ваш
Эндрю Уиттакер,
компания Уиттакера.
Уважаемый автор,
Благодарим за то, что предоставили нам лестную
возможность ознакомиться с вашей рукописью. После долгих размышлений мы, к сожалению, сочли,
что в настоящее время не сможем ее использовать.
Издатели «Мыла».
* * *
Милая Джолли,
Почему я никогда не задумывался над тем, что творилось
с папой? Давление у него подскакивало так,
что глаза лезли на лоб, из-за кожной болезни спина
и ягодицы так чесались, что он, бывало, стоит на
кухне и скребется металлической лопаткой, пока
рубашка не пойдет кровавыми полосами, и вдобавок
он взял манеру за ужином напиваться до бесчувствия.
Мама норовит, бывало, отдернуть тарелку,
едва завидит, что он клюет носом, но иной раз он
все же плюхался лицом в котлеты с картошкой или
что там она еще наготовила, в яблочный сок, свиные
отбивные, ну, я не знаю, прежде чем она успеет
их подхватить, но чаще он сползал бочком со стула.
Мне даже в голову не приходило, что эта грустная
комедия как-то связана с тем, что2 он думал весь
день, что2 он весь день вынужден был делать. Просто
я считал, что это в порядке вещей, так в жизни
мужчины и должно быть. А теперь все это происходит
и со мной. Я хочу сказать — теперь у меня у самого
такая жизнь. Сегодня вымогаю у жильцов задержанную
ренту, выслушивая их слезные жалобы
на то, что засорился, видите ли, толчок, нет спасу от
мышей, не греют печки, обвалился потолок. Вот не
понимаю я этих людей. Они что, нарочно перелезают
в исподнее, чтоб открыть на звонок? Или так
им сподручней демонстративно чесаться, пока я говорю?
Назавтра я вишу на телефоне, стараюсь уломать
каких-то мастеров, чтобы работали в кредит.
А когда нахожу кого-нибудь, он так омерзительно
халтурит, что мне приходится идти и все за ним
перелопачивать, сам не знаю как, но я, по крайней
мере, работаю задешево. Как тебе такая моя эпитафия:
«Он работал задешево»? А когда проклятая
штуковина опять ломается, они ведь мне звонят,
они мне угрожают. Нет, я кончу тем, что тоже буду
повсюду таскать с собою пистолет, как папа. А есть
же еще эти крутые парни — есть банки, электросеть,
телефонный узел, особенно телефонный узел.
Мне часто снится: бегу, а меня преследуют люди
в доспехах. Сам себя пугаю мыслью, что того гляди
с воем выскочу на улицу. Или возьму папин пистолет,
войду себе спокойно через стеклянную дверь
в какую-нибудь контору и — бабах! Бах-бах-бах!
И так неделя за неделей, я совершенно выбиваюсь
из сил. Псориаза пока нет, голова моя покуда смело
парит над блюдом жареной колбасы, но я измучен,
выпотрошен, я изведен. Когда наконец попадаю домой,
я валюсь на диван, и грудь у меня ходит ходуном,
как после тяжелой физической работы. Может,
хоть позвонила бы как-нибудь.
Энди.
* * *
Уютный дом для спокойной семейной жизни!
Чарлз корт 73. Одноэтажный дом для одного семейства
в живописной округе. 2 ванные ком. 1 ванна.
Просторные клад-ки. Плотн. ограда. Мощен. двор.
Освещен. парковка. 10 мин. ходьбы до магазинов
и заправочн стан-и. $275 + жилищн. расходы.
* * *
Дорогая мама,
Надеюсь, что, когда до тебя дойдет это письмо, ты
уже совсем поправишься. Что правда, то правда, насморк
ужасно неприятная штука, и со стороны Элен
было некрасиво смеяться над тобой и прятать твои
бумажные платочки клинекс, если, конечно, все так
и обстояло на самом деле. И несмотря на все твои
намеки, я-то как раз прекрасно понимаю, какую
скуку может нагонять живая изгородь, если кроме
нее не на чем взгляд остановить. Однако я убежден,
что, если бы ты всмотрелась повнимательней, постаралась
бы увидеть каждый листок отдельно, а не как
часть общей массы, все они тебе бы показались куда
увлекательней, чем ты предполагала, и скрашивали
бы твои мирные вечера. Я всегда считал, что людям
бывает скучно по той простой причине, что они не
всматриваются в детали. Я надеялся в этом месяце
приехать, но мой шевроленок, кажется, опять забарахлил.
Что-то там у него с радиатором, что ли, и при нашей нынешней дикой жаре он вскипает даже
от коротеньких бросков до магазина. Я спрашивал
Клару насчет твоего фена. Она говорит, что его не
помнит. Как только смогу, повезу тебя кататься.
Махнем на Вудхейвен, сходим на могилу Уинстона.
Знаю, ты останешься довольна, и я, конечно, тоже.
Кстати, ты совершенно несправедливо считаешь,
что мне всегда было «с высокой горы плевать» на
Уинстона. Я даже говорил с его преподобием Стадфишем
как раз на прошлой неделе. Он пообещал
рассмотреть этот вопрос, хоть с ходу предупредил,
что законы церкви на сей счет весьма суровы. Впрочем,
едва ли тебя это обескуражит, поскольку он
всегда недолюбливал Уинстона после того, что2 он
себе позволил на свадьбе Пег, в смысле, что он, Уинстон,
себе позволил. Не знаю, послужит ли для тебя
эта мысль хотя бы легким утешением, но я лично
убежден, что, где бы сейчас ни пребывал Уинстон,
ему там хорошо.
Целую крепко.
Энди.
* * *
Самое первое мое воспоминание: мама расчесывает
волосы. Сухо, жарко, и в бледных сумерках
я вижу искры, блошками прыгающие с волос на
щетку. Яркими такими блошками. То был мой первый
смутный промельк догадки о том, какую роль
играет в нашей жизни электричество. Самое мое
раннее воспоминание — мамины руки. Чистый
алебастр. Белые, в синих прожилках. Тонкие, в синих
прожилках руки, выдающие аристократизм.
Лежу, среди шелков и кружев, в плетеной корзине
на крыльце. Она разговаривает по телефону — с кем,
интересно? — и говорит (мне ясно помнятся слова,
хотя, конечно, тогда еще несколько месяцев оставалось
до той поры, когда мой словарь достаточно обогатился
и я смог понять их смысл, а пока суд да дело,
я мог просто их твердить, молча, как бы про себя
выпевая): «Пришлите окорок, немножечко картошки,
два фунта спаржи, кварту молока, коробку
„Тайда“». Часто оглядываюсь назад, на это воспоминание,
и диву даюсь, как это люди могли заказывать
еду и прочее по телефону. А, говна пирога.
* * *
Уважаемый мистер Полтавский,
В ответ на ваш вопрос о требованиях, предъявляемых
к предлагаемому материалу, посылаю вам
список наших стандартных правил. Хорошо бы побольше
авторов интересовалось нашими условиями,
прежде чем посылать никуда не годную ерунду, тем
самым губя понапрасну мое и свое собственное
время. Отдельное спасибо за то, что присовокупили
конверт со своим адресом и почтовой маркой, чего
тоже далеко не от каждого из вас дождешься.
* * *
Руководство по предложению материала для опубликования в нашем журнале.
«Мыло» — общенациональный журнал, посвященный
всем видам художественной литературы, включая
рассказы, стихи, рецензии и эссе. Мы регулярно
издаем по шесть номеров в год плюс ежегодные антологии.
Среди наших авторов есть и опытные мастера
с мировым именем, и талантливые новички. Хотя мы
всячески приветствуем художников, пролагающих
новые пути как по части формы, так и по части содержания,
однако при публикации не руководствуемся
никакими иными критериями, кроме художественного
совершенства. В суровом климате нынешней
американской словесности, при несдержанных эмоциональных
всплесках, с одной стороны (пережитки
так называемого движения битников), и бесформенных
грудах псевдомодернистского хлама — с другой,
«Мыло» идет своим срединным курсом. Мы не публикуем материалов на случай, поздравительных открыток в стихах, вышивок по ткани. Сатира приветствуется, однако при персональных выпадах правило
гласит: поменьше грязи. Непристойность допустима,
но не до#&769;лжно запускать ею в ныне здравствующее
лицо. Оригинальность необходима. Действующие
лица не могут именоваться N или Х. Манифесты
должны отстаивать позиции, о которых прежде никто
не слыхивал. Мы не публикуем произведений ни
на одном иностранном языке. Иностранные фразы могут быть разбросаны там и сям по тексту, если же
они идут косяком, ваша работа будет отвергнута как
претенциозный вздор. Все материалы должны быть
напечатаны с двойным интервалом. Страницы в многостраничных
рукописях следует нумеровать. В качестве
вознаграждения автор получает два номера
журнала бесплатно и двадцатипроцентную скидку
на все номера сверх того в неограниченном количестве.
Автор должен соблюдать два главных правила.
Главное правило № 1: не посылай свой единственный
экземпляр. Главное правило № 2: присовокупляй
конверт с маркой и своим адресом. Одновременное
нарушение обоих правил обречет вас на полное уничтожение
ваших трудов.
* * *
Дорогая миссис Лессеп,
Благодарим вас за то, что предоставили нам возможность
прочесть во второй раз «Вербины сапожки».
После долгих размышлений мы сочли, что это произведение
по-прежнему не соответствует нашим
требованиям. Простите, но вы, ошибочно поняв
нашу фразу «в настоящее время не соответствует
нашим требованиям», сочли, что снова можете его
прислать. В издательском мире слова «в настоящее
время» означают «никогда».
Э. Уиттакер,
издатель «Мыла».
Купить книгу на Озоне