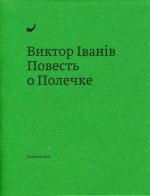- Максим Осипов. Волною морскою. — М.: АСТ: CORPUS, 2014. — 288 с.
Польский друг
История начинается не с анекдота: анекдот разрушает, уничтожает ее. «Как Ока? — Ко-ко-ко». Конец, смех. Истории надо расширяться, двигаться.
Вот девочка прилетает в большой западноевропейский город. В одной руке — сумка, в другой — скрипичный футляр. Молодой пограничник спрашивает о цели приезда. Долго рассказывать: надо кое-кому поиграть, один инструмент попробовать… Девочка плохо знает язык, отвечает коротко:
— Тут у меня друг.
Пограничник разглядывает ее паспорт: надо же, почти сверстники, он думал — ей лет пятнадцать. А почему виза польская? Он пустит ее — Евросоюз, Шенгенское соглашение, — но она должна объяснить.
Польскую визу получить легче любой другой. После небольшой паузы девочка говорит:
— В Польше у меня тоже друг.
Пограничник широко улыбается. Ничего, главное, что пустил.
Это уже начало истории.
Девочка учится музыке лет с шести, как все — со старшего дошкольного возраста, теперь она на четвертом курсе консерватории. Ее профессору сильно за восемьдесят, всю свою жизнь она посвятила тому, чтобы скрипка звучала чисто и выразительно. В целом свете не сыщешь педагога славней.
— Слушай себя, — говорит профессор. Это в сущности все, что она говорит. — Что с тобой делать, а?.. Подумаешь, она любит музыку. Вот и слушай ее на пластинках. Ну, что ты стоишь? Играй уже.
Выдерживают не все, но в общем выдерживают. Один и тот же прием приходится повторять годами, пока она вдруг не скажет: была б ты не такой бестолковой… Значит, вышло и будет теперь выходить всегда.
На сегодня закончили. Девочка укладывает скрипку в футляр.
— Скажи, — неожиданно спрашивает профессор, — а на каком инструменте ты в детстве хотела играть?
Странный вопрос. На скрипке конечно же.
Профессор как будто удивлена:
— И как это началось?
Так, объясняет девочка, на старой квартире скрипка была, восьмушка, даже без струн, и вот она повертелась с ней перед зеркалом…
Профессор произносит в задумчивости:
— Значит, твоя мечта сбылась?..
Что это было — вопрос или утверждение? И кого она вообразила себе в тот момент — не эту ли свою ученицу лет через шестьдесят? Или что-нибудь вспомнила?
Мы рассматриваем фотографии тысяча девятьсот тридцать четвертого года. На них будущему профессору десять лет. Те же правильные черты, отстраненность, спокойствие. Программка: детский концерт — Лева, Яша, она. Если бы снимки были лучшего качества, то слева на шее у каждого из детей мы бы заметили пятнышко, по нему можно опознать скрипача.
Следом еще фотографии, из эвакуации, и снова Лева, Яша, с взрослыми уже программами, еще — Катя и Додик, так и написано. «Значит, твоя мечта сбылась…» — тоже, конечно, история, но развернуть ее не получится, не нарушив чего-то главного, чего словами не передашь.
«Одной любви музы´ка уступает», так сказано. Уступает ли?
Вернемся к польскому другу: вскоре он опять помог девочке.
Из Европы она привезла себе редкой красоты бусы, и на вопрос одной из приятельниц (именно так, нет у нее настоящих подруг) ответила, сама не зная зачем:
— Польский друг подарил.
Приятельница тоже скрипачка, многословная, бурная — пожалуй что чересчур. Иногда, впрочем, ей удаются яркие образы:
— Открываешь окно, а там… военный! — Так она передает свои ощущения от какой-то радостной модуляции.
Замуж тут собралась, удивила профессора:
— Замуж? Она же еще не сыграла Сибелиуса!
Пришлось приятельнице к другому преподавателю перевестись.
— Рада за тебя, подруга, — отзывается она по поводу бус. — Думала, так и будешь одна-одинешенька, как полярный кролик.
Так польский друг стал приобретать кое-какое существование. А вскоре выручил, как говорится, по-взрослому.
Найти скрипку — такую, чтобы она разговаривала твоим голосом, — всегда случай. У этой, внезапно встреченной, про которую вдруг поняла, что с ней уже не расстанется, звучание яркое и вместе с тем благородное. Не писклявое даже на самом верху. Итальянская, по крайней мере наполовину, среди скрипок тоже встречаются полукровки: низ от одной, верх от другой.
Нестарая — так, сто с чем-то лет. Добрый человек подарил, сильно немолодой. Много всего любопытного остается за скобками, но ни девочка и уж ни мы тем более никогда не узнаем подробностей. Человек добрый и обеспеченный и с больной совестью, а у кого из добрых людей она не больна? Подарил с условием, что она никому не станет рассказывать.
Приятельнице тоже понравилась скрипка.
— Сколько? Для смеха скажи.
Девочка пожимает плечами: какой уж тут смех?
— Опять польский друг подарил? Да-а, страшно с такой по улице.
— А с ребенком не страшно по улице? — Приятельница уже родила.
— Никогда не любила поляков, — признается она. — Зря, получается?
Получается, зря.
— Гордые они, с гонором.
Девочка друга в обиду не даст.
— Это не гонор, — отвечает она, — это честь.
— Он приезжает хоть?
— Ничего, если я не буду тебе отвечать?
Приятельница все про себя рассказывает — и про мужа, теперь уже бывшего, и про того или тех, с кем встречается. Какие там тайны? — подумаешь, ерунда!
— Как зовут его, можно узнать? — Обиделась: — И целуйся с ним, и пожалуйста.
Так о польском друге становится известно в консерватории. Щедрый, со вкусом, есть чему позавидовать. «В тихом омуте черти водятся», говорят про девочку люди опытные. Но они ошибаются: в этом омуте нет никаких чертей.
Окончание консерватории — дело хлопотное. Хочется для экзамена по ансамблю выучить что-нибудь необычное. Девочка слушает музыку для разных составов, вот — трио с валторной, может — его? Спрашивает у валторниста с курса, считается, лучшего:
— Знаешь такую музыку?
— Нет.
— А хочешь сыграть?
Валторнист прислушивается к себе.
— Нет.
На госэкзамене пришлось обойтись без валторн.
Теперь, когда консерватория позади, нам вместе с девочкой надо переместиться в будущее. Не только слушать, смотреть, записывать, но и угадывать, воображать. Можно ли, например, было предвидеть будущее детей с той фотографии тридцать четвертого? Вероятно, да. Потому что, во-первых, случайностей нет, а во-вторых, судьба — одна из составляющих личности, ее часть.
Конечно, многие внешние обстоятельства угадать нельзя. Пусть случайностей нет, но неопределеность, и очень большая, имеется. Например: сохранится ли наша сегодняшняя страна? Ее предшественница при всей своей мощи оказалась недолговечнее обыкновенной скрипки, для которой семьдесят лет — считай, ничего, несерьезный возраст, семидесятилетние инструменты выглядят совершенно новыми, ни одной трещины, мастера даже их пририсовывают иногда. Теперь нам кажется, что стране нынешней, наследнице той, в которой выросли Лева с Яшей и Катя с Додиком, не уготована длинная жизнь, трещинам на теле ее нет числа, и она распадется, рассыплется, хотя, возможно, получится и не так. Не надо выдумывать, пусть история сама развивает себя.
Или вот: новая техника. Зачем уделять внимание вещам, которые обновляются столь стремительно? Лева с Яшей прожили жизнь, ничего не узнав о компьютерах и, говоря откровенно, вряд ли хотели бы знать. До совершенства всем этим штукам еще далеко, имеет ли смысл разбираться в том, как они устроены? Опять-таки: на чем станут люди перемещаться лет через тридцать, к окончанию нашей истории? С помощью каких устройств будут переговариваться, на чем слушать музыку? Не хочется фантазировать, да и не все ли равно?
Кое в чем мы, однако, уверены. Смычки будут по-прежнему обматывать серебряной канителью или китовым усом, в колодки — вставлять перламутр, а на детских скрипках, восьмушках и четвертушках, не перестанут появляться тонкие дорожки соли, от слез: дети играют и плачут, не останавливаясь, не прекращая играть.
На серьезные вещи — на политику, экономику — музыка влиять не начнет, а если и поучаствует в них, то по касательной, косвенно. Выяснилось ведь недавно, что, когда дети находились в эвакуации, производитель роялей «Стейнвей» договорился с американским командованием, и оно разбомбило «Бехштейн», конкурента, разнесло его в пыль, до последней клавиши. Наивно себе представлять мировую историю как соперничество фортепианных фабрик, тем более что ни «Ямаха», ни «Красный октябрь» ни в чем таком не замешаны.
Зато приблизительно в те же дни рябое низкорослое существо отпустит шуточку в адрес германского друга, бывшего: у него, скажет он, — Геббельс, а у меня — Гилельс. Чувства, которые вызывает эта острота, убеждают нас в ее подлинности, в том, что именно он ее произнес.
Впрочем, за этой политикой мы уклонились от главной темы — отношений девочки с польским другом. Рывками и с повторами история идет вперед.Поездки, поездки — на фестивали, на конкурсы: не жизнь, а сплошной рев турбин, стук колес, вряд ли за следующие десять-пятнадцать лет возникнут новые виды транспорта. После тридцати двух уже не играют на конкурсах, но появляются первые ученики. Разумеется, будет всякое, человеческое, как в любом деле, но не они решают — не интриги, скандалы и закулисные договоренности. В чем разница между скрипачом, который, стоя перед оркестром, исполняет концерт Сибелиуса, и теми, кто ему сидя аккомпанирует? — они тоже умеют этот концерт играть. Уровень притязаний, личности? Говорят: судьба — но это ведь все равно как ничего не сказать.
По возрасту вовсе не девочка, она сохранит, закрепит что-то детское в своем облике. Артисту необходима поза — слово нелестное для профессии, зато точное. Хирургу, учителю, даже военному — им тоже требуются, как угодно: молодцеватость, индивидуальное отношение, — а уж артисту без позы не обойтись. И большая удача, если твоя фигура, тонкая, чуть угловатая, и детское выражение лица соответствуют тому, что ты делаешь, если в тебе самой от игры возникают и радость, и свежесть, и удивление.
Итак, она музыкант — прекрасно наученный, с маленькой тайной, о наличии польского друга, кажется, знают все. И даже если у нее появятся дети и муж — должны появиться, куда же без них? — хотя при такой сосредоточенности на игре, на штрихах, интонации, можно и правда остаться одной — так вот, даже им она не раскроет тайну. Улыбнется, не станет рассказывать, да никто и не спросит ее ни о чем.
Дача, дом на Оке. Примерно месяц в году это большая река. По утрам она ходит смотреть на разлив: на желтоватую воду, на торчащие из воды прутики. Удивительно, с каким постоянством ежегодно воспроизводится эта жалкая красота.
— Как Ока? — спрашивает приятельница, только проснулась. Позаниматься приехала, у нее осложнения: конкурс надо сыграть в оркестр, чтоб не выперли. — Может, для смеха вспомнить Сибелиуса?
Очень вышла из формы с окончания консерватории. Кладет инструмент:
— А давай выпишем Рому с Виталиком, как ты думаешь? Шашлычков поедим, поговорим за жизнь.
Можешь с Ромой меня положить, а можешь с Виталиком. Тебе кто больше нравится?
Очень заманчиво, но, увы. Должен явиться один человек…
— Польский друг? Я смотрю, это серьезно у вас.
Да уж, серьезнее некуда.
— Надо, выходит, и мне отчаливать. Не хочется твоему счастью мешать.
— Доброе у тебя сердце, — скажет она приятельнице на прощание.
— А ума нет совсем, — засмеется та.
Приятельница уедет, а она в тот день будет смотреть на весеннее небо и на деревья. Поиграет не много, но хорошо: навыки, приобретенные в ранней молодости, не теряются.
Еще, конечно, умение слушать себя.
Предложения, аналогичные этому, с шашлычками, с Ромой-Виталиком, часто к ней поступают в поездках — там легко образуются связи, которые трудно потом развязать. Но не в одних лишь делах практических выручает ее польский друг. И не то что она забудет, что он — только выдумка для приятельниц, пограничников, или, скажем, заинтересуется польской культурой как-то особенно, или станет учить язык: поляки, которых ей придется встречать, и правда окажутся с гонором. Да и виза польская давным-давно кончится. Евросоюз, Шенгенское соглашение — кто знает, что с этим Евросоюзом произойдет?
Человек разумный не верит фантазиям, но то, о чем говорят десятилетиями, тем более шепотом, приобретает важнейшее свойство — быть. Так легенды — семейные и общенациональные — начинают если не исцелять, то, во всяком случае, утешать. Лет с сорока (ее лет) польский друг станет ей иногда сниться, а верней — грезиться. Ни имени, ни голоса, ни лица, так — что-то неопределимо-приятное. Утром, незадолго до пробуждения. Если польский друг появляется накануне важных концертов, значит, все пройдет хорошо.
С годами количество этих самых концертов несколько снизится, зато станет больше учеников. Педагогический дар у нее не такой мощный, как у профессора, да и детей она предпочитает хвалить.
И хотя в похвалах ее есть оттенки, и очень существенные, слез в ее классе проливается меньше, чем во времена Кати и Додика. Все равно какой-то уровень влажности неизбежен, даже необходим.
К окончанию нашей истории музыкальный мир вряд ли сильно расширится. С миром взрослым, миром производительных сил и производственных отношений, музыка будет вести все то же параллельное существование. Немолодая уже женщина, она опять прилетает в западноевропейский город — тот, с которого все началось. Фестиваль камерной музыки, очень привлекательный вид музицирования и для участников, и для слушателей: уютный зал, всегда полный, программа отличная — счастье, когда зовут в такие места.
Сохранятся ли через тридцать лет бумажные ноты? — и без них много всего надо везти с собой: скрипку, смычки, канифоль, струны, одежду концертную. Польский друг не объявлялся давно, но размышлять о нем некогда, на сцену приходится выходить каждый день. Все играется с одной репетиции, максимум с двух, без ущерба для качества — настолько высок уровень исполнителей. Утром порепетировать, днем отдохнуть, вечером посмотреть на партнеров, одного или нескольких, кивнуть: с Богом, вытереть руки платком перед самым выходом — и сыграть.
Дело идет к развязке, последний день. Трио с валторной, то самое, наконец-то она сыграет его, да еще заключительным номером. И валторнист изумительный, так говорят — она его раньше не слышала.
Что-то он, однако, опаздывает на репетицию. Они с пианистом, рыжим стареющим мальчиком, давно ей знакомым, посматривают свои партии, ждут. Наконец дверь отворяет некто с альтом: их разве не предупредили? — все сдвинулось. — А валторнист? — Съел вчера что-то несвежее, но к концерту поправится. Валторнисты любят поесть, им это требуется для вдохновения, для дыхания.
Альтист улыбается. Его вызвали только с утра, но он эту музыку знает, всегда мечтал поиграть в их компании, надеется никого не разочаровать. Впрочем, он и нужен только для репетиции. Высокий, немножко седой — ладно, не время разглядывать, уже задержались на час.
Начинают играть. Очень скоро оказывается, что эту музыку она себе представляла именно так. С конца первой части в ней поднимается радость, особенная, из каких-то неизвестных отделов души, ничего похожего прежде не было. Надо следить за музыкой, не за радостью, слушать себя и других, но радость присутствует и растет.
Музыка имеет дело с едва различимыми длительностями. Ритм, даже не ритм — метр, биение пульса, самое трудное — добиться того, чтобы был одинаковый пульс. Остальное — громче-тише, штрихи — поправить было бы проще, но и тут ничего поправлять не требуется: хорошо у них получается, прямо-таки пугающе хорошо.
В звуке альта много страсти, тепла, желания поговорить о важном, о главном, узнать про нее, о себе рассказать. Скрипка ему отвечает:
— Смотри на деревья и небо и меньше думай о важном, — приблизительно так.Доиграли, выдохнули. Пианист подает голос:
— Там, где трели, я не очень мешал?
Нет, он вообще не мешал.
— Между прочим, у меня в этом месте соло. Можно, наверное, повторить?
Они переглядываются — альт и она: можно, но мы не станем этого делать, лучше уже не получится.
Немец польского происхождения. Всю свою жизнь он провел в этом городе. И ее видел, девочкой на прослушивании в школе музыки, он тогда тоже на скрипке играл. Подойти не решился. Дела у него обстояли неважно, пока не перешел на альт. Теперь в здешнем оркестре работает. Здесь приличный оркестр. А играла она замечательно, чисто и выразительно, он всю программу ее может назвать.
Неслабый бульдозер, или 9 высказываний Дины Рубиной
Вчера в «Парке культуры и чтения» прошла встреча с Диной Рубиной. Публика жаждала благодарить и спрашивать. Впрочем, писательница считает зрительские симпатии минутной слабостью, а мысль, что ее книги используют в качестве путеводителя по Израилю и вовсе не приводит ее в трепет. За полчаса она лихо раскрыла сюжетные интриги своих романов и подарила каждому по ангелу под обложку.«Прочтение» делится самыми интересными ответами, каждый из которых напоминает отдельный рассказ.
О трилогии «Русская канарейка»
Все герои — мои дети, но когда вы создаете центральную фигуру, в ней должна быть искра Божья. Неважно, авантюрист он или поддельщик картин. Необходимо любить героя. Одна героиня из последнего романа должна была просто родить главного персонажа и смыться в сторонку. Однако я до сих пор с ней вожусь, а она все диктует и диктует свои правила.
У каждого писателя есть две-три волнующие его темы, о которых он думает постоянно. Новый роман, несмотря на неожиданный для меня сюжет, продолжат тему рода, семьи, пересечения человеческих судеб, одиночества и любви. Трилогия «Русская канарейка» мне очень дорога, поскольку это последняя любовь.
О съемках фильма по роману «Синдром Петрушки»
Сейчас в Петергофе идут съемки фильма по моему роману «Синдром Петрушки». Для меня это огромное событие. Главные роли играют люди, которых я обожаю: В роли Пети-кукольника Евгений Миронов, а Лизу, его жену и куклу, играет Чулпан Хаматова. Я ахнула, увидев ее: это была Лиза из внутреннего пространства моего воображения. Я была куплена с потрохами, хотя ненавижу кинематограф и сценаристов. Всех! Поскольку они отнимают у меня моих героев… Конечно же, я шучу.
О медвежьей услуге
Грех и преступление говорить человеку, который взял в руки перо, что стоит и чего не стоит делать. У маститого писателя тоже есть свои предпочтения, и о коллегах он порой высказывается совершенно умопомрачительно. Бунин, например, писал: «А Алешке Толстому нет места в русской литературе!» Если человек взялся писать, то, как говорится, перо ему в… Вдруг получится! Десять лет он может создавать всякую муру, а потом попасть в тюрьму, выйти и написать гениальную вещь! Так было с Сервантесом. А представьте, сказал бы Лопе де Вега: «Сервантес, ну какого ты… пишешь? Нельзя, это большая ответственность».
О читательском признании
Во время презентации романа «Белая голубка Кордовы» мне из зала пришла записка: «Какая же вы сволочь, Дина Ильинична, зачем вы его убили?» Я берегу ее, понимаю, что это — выражение любви. А как-то на выступлении в Израиле ко мне подошла женщина со словами: «Я приехала из Ростова и хочу передать привет от соседки. Она цыганка и все время сидит в тюрьме. Выйдет недели на две, а потом опять садится. Она мне сказала: „Людка, ты в Израиль едешь, найди там писательницу, Динрубина зовут. Она из наших, из цыган. Ты ей передай, если возьмут ее, пусть просится на нашу 275-ю зону строгого режима. Мы ее здесь подкормим и в обиду не дадим“». Я поняла, что это тоже признание в любви.
О политике
Я не отвечаю на вопросы о политике. Не только потому, что не имею права, покинув Россию, комментировать действия ее властей. Я уже все прокомментировала, когда уехала почти 25 лет назад. Сейчас я житель другой страны и только ее могу и хаять, и защищать. Писатель — частное лицо, его дело писать книги. Прекрасно, если они каким-то образом влияют на общественное мнение. Но в первую очередь он художник и уже в десятую — какой-то трибун. Наверное, создав роман «Что делать?», Чернышевский изменил реальность, но это плохая книга и плохой писатель.
О жизни и литературе
Я циник и пессимист, и не думаю, чтобы книга кого-то могла изменить. Может, минут двадцать после прочтения человек находится под впечатлением, хочет на какое-то время остаться и пожить с героями. Проходит время, и он снова занят собой. И это правильно. Я не могу создавать мир, не связанный с пространством, в котором живут мои читатели. Я же не Толкиен. Однако литература никогда не равна жизни, это всегда сконструированный мир. Там существует все то, с чем мы сталкиваемся каждый день, но в концентрированном виде.
О вдохновении
Я ненавижу слово «вдохновение». Для меня норма — проснуться в три часа утра, дотянуть, лежа в кровати, до четырех, понять, что ты больше ни за что не заснешь, почапать к компьютеру и начать работать. К 12 часам дня у меня заканчивается шестичасовой рабочий день, я гуляю с собакой и занимаюсь другими делами. Если за это время у вас получилось два абзаца, значит, вы победили. Вдохновение наступает, когда роман написан, и его надо завтра отослать в издательство. Ты сидишь и думаешь: «Вот этот эпитет надо перенести или написать не „он сказал“, а „сказал он“, не золотистое море, а блещущее». Тогда и приходит вдохновение, полет фантазии. Все остальное — каторжная работа очень неслабого бульдозера.
О чтении во время работы
Когда я пишу, то стараюсь не читать других авторов, кроме тех, кто помогает мне и не сбивает с интонации. Я всегда читаю прозу Мандельштама, Цветаевой. Могу перечитать Лоуренса Даррелла, Бунина, Чехова, Набокова. Все остальное мне очень мешает. Конечно, друзья присылают мне свои произведения, и в ответ надо написать: «Вася, ты гений». Ведь мы, писатели, такие ранимые и несчастные. С одной стороны, уверенные в том, что мы гении, а с другой — что полное дерьмо.
О переезде в Израиль
Переезд — это культурный шок, обморок, нокаут новой жизни. Со временем ты смиряешься с солнцем, чокнутыми людьми и нищими. Любой писатель очень тяжело переносит встречу с собственным народом. В Израиле не покидает уверенность, что библейские истории произошли на самом деле. Из моего окна виден перекресток — место встречи с милосердным самаритянином. Если посмотреть налево, увидишь деревню Азарию, где произошло воскрешение Лазаря. Там находится его могила. Это историческое и культурное пространство, которое заставляет думать.
На золотом крыльце сидели…
- Людмила Маркина. Исторические сказки. — М.: Арт-Волхонка, 2014.
«Исторические сказки» — комплект из трех книг, написанных Людмилой Маркиной, заведующей отделом живописи XVIII — первой половины XIX веков Третьяковской галереи, доктором наук, профессором, автором многих искусствоведческих статей, а также биографий художников Дмитрия Левицкого и Владимира Боровиковского, выходивших когда-то в издательстве «Белый город».
Первая книга серии «Сказка о русской императрице Елизавете Петровне и граде Москве» появилась еще в 2011 году и была приурочена к открытию в Третьяковской галерее выставки «Елизавета Петровна и Москва». Она стала довольно успешным «сказочным» дебютом автора. Потом была опубликована «Сказка о том, как немецкая принцесса Фике стала русской императрицей Екатериной Великой» и вот, наконец, «Сказка о царе Петре I и столице Санкт-Петербурге».
Эти книги по сути и не сказки вовсе — за традиционным зачином прячется набор фактов, мифов и курьезов из жизни трех российский монархов. Фактов как общеизвестных, так и совершенно неожиданных. Например о том, что императрица Анна Иоанновна ненавидела ворон. «В кремлевском дворце у нее в каждой хоромине висели заряженные ружья. Как только раздавалось противное карканье, Анна Ивановна палила в раскрытые окна».
Юная «цесаревна Елизавета любила блины и яичницу, но больше всего „конфекты“ и „мармелады“, поэтому всегда отличалась „крепким сложением тела“, а царь Петр обидно дразнил дочку „бочкой“». Екатерина же еще в пору своего немецкого детства страдала от диатеза. В повествовании нет сюжета как такового, нет встроенности в фактологический контекст — это не «История России в рассказах для детей» Александры Ишимовой.
Особый вес и прелесть придают изданию иллюстрации «господина живописца» Виталия Ермолаева — «фамильяра ордена куртуазных маньеристов» и известного московского художника. Ермолаев — полноправный соавтор Людмилы Маркиной. Иллюстрации в книге — репродукции его масляных полотен, посвященных русской жизни XVIII века. Барочные, карнавальные, избыточные, они усиливают и подчеркивают авторскую иронию, связывают воедино несколько обрывочные эпизоды повествования и отвечают за ту самую «сказочность», с которой не вполне справляется текст. Есть и роскошные «принцессочьи» наряды, и русская зима, и шествие слонов потешной свадьбы, и яркие декорации Кускова, Коломенского, Измайлова, Строгановского дворца и Царского села, на фоне которых прогуливаются юные императрицы в окружении карлов и арапчат.
Все книги серии можно приобрести по отдельности, но в комплекте они «звучат» по-другому. Само собой, например, напрашивается сравнение детства немецкой принцессы Софии Фредерики Ангальт-Цербстской и русской цесаревны «Лизетки». Одна должна была беспрекословно подчиняться «Правилам трех „У“» (уважение к старшим, усидчивость в учебе, умеренность в еде), годами не снимать специальный корсет для исправления осанки и приносить себя в жертву честолюбивым мыслям о короне. Другая — резвилась в царских конюшнях и солдатской слободе, любила сладко поесть и предавалась любви с бандуристом Алешей Розумом.
Юные читатели (сказки подойдут тем, кому еще нет 10 лет) смогут сделать собственные выводы. Например, узнать, что цари и царевны тоже были маленькими: болели, проказничали, любили сладости. И тогда история, которая в глазах детей всегда выглядит сказкой в силу своей отдаленности во времени, вдруг станет ближе, реальнее. Словом, приобретет смысл.
Виктор Iванiв. Повесть о Полечке
- Виктор Iванiв. Повесть о Полечке. —М.: Коровакниги, 2014.
После выхода в начале этого года «Повести о Полечке» автор продолжил работу над произведением. Третья часть книги, отрывок из которой приведен ниже, публикуется впервые.
Песнь третья, сиреневая
Ирине Шостаковской
Умиравшим от страха так хочется жить, не пред собственными глазами, где за сто лет неделя прошла, пассатижи сдавив на розетке из проволоки вшивой, обтрясая рыбу о Бискайский залив, пока служба не подошла к справедливым. Онемевшим от мертвого сна так хочется встать, и тела не шевелятся дотла, дотемна, до потемок. Только дух водит перегретым на небо лететь и в жару застать осеннем мертвое тело старика, которого не воскресить никому из потомков. Только от прорух и выбитых челюстей домов того паренька, которого ноги сами начали уносить в закоулки, так, за десять лет впервые выстроились свадьбы и похороны, даты и годовщины в почетный караул, как на параде планет назывные угроханы, а названные ищут в горах аул, где наездные метают ножи и взглядом убивают в упор, черных штор занавеску обдирая с обоев заколоченной двери в четырех стенах, в лямке топор, на персту наперсток, живые глаза обрисовывают никакое существование всей жизни, наступившей на страх как на ухо. Рассечение черепа, оказавшееся сразу в четырех комнатах, на стадионах с концертами наступающей зари, истерики вымученной, завернутой в тряску одеял, посмотри на север, на юг посмотри, стой прямо и падай ровно, оживая от мысли, что ног нет в штанах, сушащихся на вкладыше I lOve you. И, починяя обломанные стены, садись верхом и беги по коридору, не напомнив ни о себе, ни о ком, в марте наступившему новому году. Что еще сказать про то, что нас больше нет, на больничном, на штурме поликлиник, пьяных больниц чумы, то что нет больше петель для топоров, нету больше тебя, пророк Магомет, нету лежбищ для котиков на полстранички, нету штопора, нет самолета, только вылет воздушных шаров, да туда, где нет даже озона и невесомости, бессильного сна, нету города Маймы, никакого города нет.
Только все осталось по-прежнему, первая минута ускоряется за два часа, а последняя просыпается в шесть утра, позолочена Лотоса взлетная полоса, рухнул сон и сгорели все числа и столбики, перепонки и буквы из заброшенного за голову ведра, и степные курганы устроились прикорнуть вовремя. Золотая пыль фотовспышек, город, вынутый из ужасного шторма, это водка «Маккормик» и пасека вышек за полночью. Но покамест мы рубимся, изнеженный водохлёб, выжимая лилии смердящие и газы черемухи, вечный хлеб ячменится, целуя горло взахлеб, в усыпальницах тех мумий, по которым мы сделали промахи. И пока колосится смертельный январский день разверткой в ослепительное пламя стрекозиной братвы, мусорную корзину поставив на голову, ты шествуешь мимо бывшей «Черной вдовы», мимо новой белой вдовы, мимо цирка уродов Москвы, и я зажевал только чешую нефтепровода. И в каждом сельпо на свете серп Мельпомены поминая битыми менисками, я хватаю яйцо горячее слоника-птички, в морской пене рожденного одессита с двумя пустыми бензина канистрами. И тогда вспоминаю я каждое четвертое Рождество, что был сон на горах, по которым мы взбежали, прыгая с лавины на лед реки и обратно на новую лавину, как ночные бьются во сне в лампе джина мотыльки, оторвавшись и съев часов черных белого дня половину. Только время ночь, только солнце равноденствия и второе полнолуние уже за неделю, сей свой сон синий, в оторочку замотав шарфик, снятый с моей головы, и младенец хватающий тебя за шнурок, Медея, в парке где только листья травы, приклеённые к асфальту безмозглому холодеют. Задувая свечу над трупом, в каморке болезной матери, в шифере кровель обломанным шагом ноги ставя в провал, авраамической кинохроники предъяви нам в отпуске на кровати, в пенсионном бальзаме и начни свой новый безысходный и радостный карнавал.
Что было до, что после, отразится на экране годов, которых не два с половиной, а втрое больше, чем семеро одного не ждут, каждый год случается одно и то же в один день пустой, беззаботный и вот, так я его с облупившейся кожей, сбегаю со сломанных перил, только позже и еще попозже. Позже, чем родничок засеребрится сединой и плеткой волос, и загорится плетением чудесных мошкариков знойных, изнемогая под снегом поцелуя взасос, что унес за собою беспокойный покойник. Что садится в машину и в то же время жалобу пишет на то, что Бухара и Сахара ему не отвечают, взламывает льдину хребтом, и балуется как ребенок в цирке шапито, и ответ на письмо всегда, о, всегда, получает. Если встанет со стула мой инсулиновый сын, инфузории испугаются, как одна уже испугалась, и останется с ней кто-то один на один и в лодку погрузит, пока кромка льда на губах обнажалась. Так, в индийском метро видишь пирамидальные тополи, прозябая ночью под клыками мертвого двухместного мамонта, рушащегося под соседями сверху, ты выбираешься и едешь в затон, лишь ударив палец о гиблую и красную стенку, в домотканом пальто, и греешь синей лампой памяти ушибленную коленку. Так, в предместье шапки скинув с обдолбанных голов, все садятся в такси и маршрутки под пение, пение в переносном смысле, годовалых и голодных котов, перекормленных таблетками, потерявших последнюю венку. Так снимает с твоих площадей, гонщик, укутанный в плащ, плюща и мирта, запахшего волчьей мочой и мазутом, ты бросаешься в зеркало и ловишь во сне потлач, кроме шуток, вот уже более 15-ти суток. Так раззеленя садочки, ранку с зубного мостика, моя мамка с кистенем в шапке шушукает, и на костяной ноге добегает до солнышка на востоке и западе, так кунштюк сняв с носка, в платочке пляшет барсук, в кровостоке и в Белостоке, и в общем-то в ахуе. Так садится в рыдван электрички гитарист с седой бородой из подземного единственного перехода, и за пятаки пять деревень покупает, так от пяток сверкающих из реки управдом, как утопленница задумчивая мимо спутника твоего проплывает. Так с умершей земли исходя седьмой год, из-под камня насупленного перекрашивая рекламы, поворот солнцепека кладешь ты как временный жгут, пережегший себе все автомобильные травмы. Так взрывают петарды под вечер, каждый день в один час, там где кони скакали, и дрались прошлым летом под фонарями, от разборок ваших мне умирать невпопад, жизнь стоящая третий день под глазами в глубоком стакане. Треснет ли твой граненый стакан в этом году, снимут с поезда и повезут в холодильник, я не знаю, потому что у кого написано на роду, это глубже земли, как рептильный репейный будильник и знамя. Мертвого не оживить слабым телом осенним и продувным, может быть стоит жить лишь за то, что кто-то многое понял, возвращайся живым, с того света возвращайся живым, бесконечной дорогой в «восьмерке» летя на балконе. Подоконник обосранный птицами, Линия «Стриж», черная сетка грачей собора последних лун, дай мне запястье, или Юра Юркун у крови воркуй как Париж, как племянник, что вытащил из реки невод нашего прошлого счастья. Здесь не будет игры и стрельбы, тихо, глухо как в гробе, в столетье если ты уложилась и не вернулась пока, о тоска моя, бабушка жизнь, я поверю лишь только тому, что гопака одноногого узнавая, как лажу и сажу в мокрую стынь, ничего никогда не сбывается, ничего никогда не бывает.
Волосок упырька и корона собачья, и корыто разбитое в сказках, в водолазках, наоборот, развернет это новое старое, 70-летнее блюдо, кто идет, кто стоит, кто ползет через свой огород, кто возделывал сад, а кто виноградарь Иудин. Раздувая духового оркестра заскорузлое колесо, вынимая из пачки металлического «Беломора», я плюю на ветру и жгу папирос ядовитую эту смолу, прислонившись к стволу дерева, что не облетает корою, и в стальном скрежещущем спуске глубже шахты, глубже метро горняки ничего не нашли бы, ни золота алхимического, ни разворота газеты светил только если, я убил бы злодейски тебя, о, веревка из свежей пеньки, и под виселицей бы проснулся вновь этого бесконечного если. И удерживать грезу на ширине плеч, в стояке непрерывном на марше сумерек, Запорожская сечь, стран Полдневных, если б умер рок, и если бы съел всю картечь, легкими неживыми осязая пол облачных неба. Где земля, там и я, а где ты, отозвавшийся бойко, где эхо, кто слышит, кто поет — только звук комариного писка, никогда не умрет над болотами Севера, словно язык василиска кусающая одалиска. Я стою, ты лежишь подо мною как пропастей ряд, только словно те, что угрожают нам облавой простуды, и обломами кинешь ты кони, патрульный наряд, и прикид на цветущем от запаха почек балконе. Это завтра пускай совершится и произойдет, если год за неделю, и если в секунде столетье, небожителей грязь как из глаза камень спадет, со слезою росистого утренника, в ё-моё междометие, действуй!
Перемену квартала, два сна со цветами в зубах, перекусывая на ходу провода и снимая цепи пехоты, с пахоты мирового и с пьяного богомола кулак лишь стучится в разбитые тысяч глаз разнесенные стекла курорта. Доктор Врач, Доктор Врач, Доктор Врач, почему ты теперь меня старше и родишь скоро внука, ну а я не сойду с чепухи оголтелого пуха, и с министром Мистраля дружу, как пойму, что теперь не теперь спит Вселенная та же, виснет как нетопырь, с отрубленным слухом.
Я спущусь в лестниц бред, никому не во вред и навряд ли что скоро, ниже адского пламени, ниже ворот Сатаны, ниже выбитых настежь ворот, из тюрьмы подземельной в другую большую тюрьму-нах, и орехи Нух-Нух из посконного стойбища рвот, и из скорой весны, из чудовищного Пополь-Вуха. Я спущусь той же лестницей, город весь растворив, лишь с твоими живыми руками, что держат в руках мой рубильник, что как солнце, как дыма клубы, как восторга касторка, как циклоферон камнепадами, донышком подзатыльник. Прорезая поверхности скошенных нив под уклон, продлевая проблемного дня боль из вынутой комы, пломбы солнц восьмикратно пробитых звездных чащоб, словно огненные руша вокруг катакомбы.
Городя города, словно в ножички, мертвых пчел и мух сонных, тропиков и муссонного климата, вы увидите новую землю, лишь как зубы посеянные в поле могильниками спустят в Иркут, unlimited, и instead и зареванных тревожных будильников, я как кисельные берега вам не внемлю. Невменоз, страшной мороси ход, гибельных кос зареванных лунных дорожек, сполосни, дед Мороз, дед Жара, череп назойливых ос, ознобишина и обложек дырявого смрада встревоженный подбородок.
И растаявший изумруд, как умрут в нем и сплавятся по дорожке ходьбы, в чечевичной похлебке, у старого сонного шпица, со шприцом молотьбы, с Христовым шприцом голытьбы, я не знаю, Австралия вам или Ливия снится.
Ну и лыбиться будешь, ущербный, конечно не так, не абнормал напасти и притолок Козерога, отломившей с горла и рассеявший твой кадиллак, Элвис Пресли в наших бессчетных сугробах, от суглинка и устрицы, усмирив голубям бешбармак, и не приняв сыновнюю злобу обратно в утробу.
Я тебя не успел проводить, но спровадить уже не могу никого, потому что здесь нет никого кроме нас, и по-прежнему в комнате двое. Только всадник и тень коня, только покойник с звездою во лбу, только воющих мачт корабли циклопических Вия и Цоя.
Как по проводу ток, как поземки осколки к земле, не на новой земле и не в Астрахани масхада, на Восходе 15, и может еще кроме где, не найдете вы однажды больше восставших из ада лет двадцать.
Кумполы поплыли, Волга хлынь, Волга хлынь, Волга хлынь, и замой на штанах моих следы Ойкумены, как выходит из Леты Ахилл, так на лето фуражку надень, так воспой его гнев, ну а я подплываю к Сиренам.
Стартовал международный конкурс «Нарисуй Кота Moor’a»
Конкурс юных чтецов «Живая классика» совместно с компанией Rоss&Moor объявил о старте конкурса «Нарисуй Кота Moor’a» — кота из произведения Э. Т. А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра».
Творить участники могут в любой технике, используя обычный карандаш или современные дизайнерские программы. Главное условие — необходимо изобразить рядом с котом логотип компании Rоss&Moor.
Всем, кто хочет победить в конкурсе, нужно зарегистрироваться в официальной группе компании Ross&Moor в контакте: http://vk.com/rossandmoor и прислать фотографию своей работы по адресу: habarova@liveclassics.ru. В теме укажите: «Кот Moor». Не забудьте также написать свои данные: ФИО, регион, населенный пункт, телефон и адрес электронной почты.
Счастливчика, который займет первое место, определит жюри. Победители (2 и 3 места) определятся в ходе голосования в группе конкурса.
Победители получат:
1 место — смартфон RMD-600;
2 место — портативную акустическую систему Ross&Moor Miniboom;
3 место — внешний аккумулятор Ross&Moor PB018 Mini.
Прием конкурсных работ — с 15 марта по 10 мая 2014 года.
Подведение итогов конкурса состоится 15 мая.
Борис Гройс. Коммунистический постскриптум
- Борис Гройс. Коммунистический постскриптум. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. — 112 с.
Данная книга вышла в рамках совместной издательской программы Центра современной культуры «Гараж» и издательства Ad Marginem.
Предисловие
Поскольку темой этого текста является коммунизм, следует сначала уточнить, что здесь подразумевается
под этим словом. В дальнейшем я буду
понимать под коммунизмом проект, цель которого —
подчинить экономику политике, с тем чтобы предоставить последней суверенную свободу действий.
Медиумом экономики являются деньги. Экономика
оперирует цифрами. Медиумом политики является
язык. Политика оперирует словами — аргументами,
программами и резолюциями, а также приказами,
запретами, инструкциями и распоряжениями. Коммунистическая революция представляет собой перевод общества с медиума денег на медиум языка. Она
осуществляет подлинный поворот к языку (linguistic
turn) на уровне общественной практики. Ей недостаточно определить человека как говорящего, как это
обычно делает новейшая философия (при всех тонкостях и различиях, характеризующих отдельные философские позиции). Пока человек оперирует в условиях
капиталистической экономики, он, по большому
счету, остается немым, поскольку его судьба с ним
не говорит. А поскольку человек не слышит обращенного к нему лично голоса судьбы, он в свою очередь
не может ей ничего ответить. Экономические процессы имеют анонимный и невербальный характер.
С ними не поспоришь, их нельзя переубедить, переговорить, склонить словами на свою сторону — можно
лишь приспособиться к ним, приведя в соответствие
с ними свое поведение. Экономический провал
невозможно опровергнуть никакой аргументацией,
а экономический успех не требует дополнительного дискурсивного обоснования. При капитализме
окончательное оправдание или осуждение человеческих действий носит не вербальный, а экономический характер и выражается не в словах, а в цифрах.
В итоге язык оказывается не у дел.Только в том случае, если судьба обретает голос,
если она не сводится к чисто экономическим процессам, а изначально формулируется вербально и определяется политически, как это происходит при коммунизме, человек действительно начинает существовать
в языке и посредством языка. Тем самым он получает
возможность оспаривать, опротестовывать, опровергать судьбоносные решения. Такие опровержения
и протесты не всегда эффективны. Часто они игнорируются или даже подавляются властью, но это
не делает их бессмысленными. Протестовать против
политических решений, прибегая для этого к медиуму языка, вполне разумно и логично, если сами эти
решения сформулированы в том же медиуме. В условиях же капитализма любая критика и любой протест
бессмысленны в принципе. При капитализме язык
функционирует всего лишь как товар, что с самого
начала делает его немым. Дискурс критики или протеста считается успешным, если он хорошо продается, —
и неудачным, если он продается плохо. Таким образом,
он ничем не отличается от любых других товаров,
которые не говорят — или только и делают, что говорят, оставаясь лишь саморекламой.Критика капитализма и сам капитализм оперируют разными медиа. И поскольку капитализм
и его дискурсивная критика медиально гетерогенны,
им не дано встретиться. Только критика коммунизма задевает общество, на которое она направлена.
Следовательно, необходимо сначала изменить общество, вербализировать его, дабы затем могла осуществляться его осмысленная и эффективная критика.
Перефразировав известный тезис Маркса, согласно
которому философия должна не объяснять, а переделывать мир, можно сказать так: чтобы критиковать
общество, нужно сначала сделать его коммунистическим. Этим объясняется инстинктивное предпочтение, отдаваемое коммунизму носителями критического сознания, ведь только коммунизм осуществляет
тотальную вербализацию человеческой судьбы,
открывающую пространство для тотальной критики.Коммунистическое общество может быть определено как такое общество, в котором власть и критика
власти прибегают к одному и тому же медиуму. Если
следовать данной дефиниции, то ответ на вопрос,
можно ли считать бывший советский режим коммунистическим (а сегодня, когда речь заходит о коммунизме, этот вопрос возникает неизбежно), должен быть
положительным: да, можно. Исторически Советский
Союз так далеко продвинулся в реализации коммунистического проекта, как никакое другое общество
до него. В тридцатые годы здесь была отменена любая
частная собственность. В итоге политическое руководство страны получило возможность принимать
решения, не зависящие от частных экономических
интересов. Не то что бы эти интересы были оттеснены
на второй план — их теперь попросту не существовало.
Каждый гражданин Советского Союза состоял на государственной службе, жил в государственной квартире,
делал покупки в государственных магазинах и ездил
на место своей государственной работы на государственном транспорте. Какие экономические интересы
мог иметь этот гражданин? Его интерес состоял лишь
в том, чтобы дела этого государства шли как можно
лучше и с ростом государственного благосостояния
росло бы его собственное благосостояние — легально
или нелегально, благодаря упорному труду или за счет
коррупции. Таким образом, в Советском Союзе имело
место фундаментальное тождество личных и общественных интересов. Единственное внешнее ограничение носило военный характер: Советский Союз должен
был обороняться от своих врагов. Но уже в шестидесятые годы военный потенциал страны был так велик,
что возможность вторжения извне можно было отнести к разряду невероятных. С этого времени советское
руководство не вступало ни в какие «объективные»
конфликты — ни с внутренней оппозицией, которой просто не существовало, ни с внешними силами,
которые могли бы как-то ограничить его административную власть в стране. Так что в своих практических
решениях оно могло позволить себе полагаться лишь
на собственный политический разум и внутренние
убеждения. Конечно, поскольку его политический
разум был диалектическим, то в один прекрасный
день он привел это руководство к решению отменить
коммунизм. Однако эта отмена не означает, что коммунизм в Советском Союзе так и не был реализован.
Напротив, как будет показано далее, только это решение сделало реализацию, воплощение, инкарнацию
коммунизма полными и окончательными.В любом случае, сказать, что Советский Союз
потерпел экономический крах, нельзя, поскольку
такой крах может произойти только в пространстве
рынка. Но рынка в Советском Союзе не существовало.
Следовательно, экономический успех или неудача
политического руководства не могли быть установлены «объективными», то есть нейтральными, внеидеологическими, методами. Определенные товары
производились в Советском Союзе не потому, что они
пользовались спросом на рынке, а потому, что они
соответствовали идеологическому представлению
о коммунистическом будущем. Товары, не поддающиеся идеологической легитимации, не производились.
Причем это касалось не только текстов или имиджей
официальной пропаганды, а любых товаров. В условиях советского строя каждый товар превращался
в идеологически релевантное высказывание, подобно
тому, как при капитализме каждое высказывание превращается в товар. Можно было по-коммунистически
жить, по-коммунистически есть, по-коммунистически
одеваться — или, наоборот, не по-коммунистически,
а то и по-антикоммунистически. Поэтому в СССР
можно было протестовать против ботинок или против
яиц и колбасы, которые продавались советских магазинах, и критиковать их в тех же терминах, что и официальное учение исторического материализма. Ведь
у этого учения был тот же источник, что и у ботинок,
яиц и колбасы, а именно — соответствующие решения
политбюро ЦК КПСС. При коммунизме все было таким,
каким оно было, потому что кто-то сказал, что это
должно быть так, а не иначе. А все, что решено с помощью языка, может быть подвергнуто критике, сформулированной на том же языке.Таким образом, вопрос о возможности коммунизма тесно связан с фундаментальным вопросом
о возможности политического действия, осуществляемого в языке и посредством языка. Проблему можно
сформулировать следующим образом: может ли язык —
и если может, то при каких условиях — приобрести
достаточную силу принуждения, чтобы посредством
него могло осуществиться управление обществом.
Часто такая возможность отрицается: в наше время
широко распространено мнение, что язык сам по себе
не имеет абсолютно никакой силы и власти. Это мнение
довольно точно отражает положение языка в условиях
капитализма. При капитализме язык и в самом деле
власти не имеет. Обычно, исходя из такого понимания
языка, в коммунизме также пытаются найти (и небезосновательно) аппараты подавления, скрывающиеся
за фасадом официального языка и заставляющие
людей его принимать и с ним соглашаться. Казалось
бы, долгая история политических репрессий в коммунистических странах полностью подтверждает эту
гипотезу. Но при этом остается открытым вопрос,
почему эти аппараты принуждения идентифицировали себя с определенной идеологической установкой
и действовали в ее интересах — а не в пользу других,
альтернативных идеологий. Ведь лояльность политических аппаратов по отношению к той или иной идеологии не является чем-то само собой разумеющимся.
У них должны быть основания, чтобы выработать
ее и сохранить в дальнейшем. Кстати, эти аппараты
проявили достаточную пассивность в последний
период существования коммунистических государств
Восточной Европы. Так что в условиях коммунизма
аппараты подавления не могут быть четко отделены
от всего остального общества, ведь в обществе, которое
состоит из одних государственных служащих — а ситуация в Советском Союзе была именно такова, — вопрос
о том, кто, кого и как подавляет, ставится иначе, чем
в обществе, где аппараты власти более или менее четко
отделены от гражданского общества. Когда речь идет
о государственном насилии в коммунистических государствах, не нужно забывать, что оно осуществлялось
через язык — через приказы и инструкции, которые
могли исполняться или не исполняться. Впрочем,
руководство коммунистический государств понимало
это гораздо лучше своих противников. Поэтому оно
инвестировало так много сил и энергии в формирование и поддержание языка официальной идеологии
и поэтому малейшие отклонения от этого языка вызывали у него глубочайшее раздражение. Оно знало, что
не имеет в своем распоряжении ничего кроме языка —
и, если потеряет контроль над ним, то потеряет и все
остальное.При этом марксистско-ленинское учение о языке
носит амбивалентный характер. С одной стороны,
каждый, кто знакомился с этим учением, узнавал, что
господствующий язык — это всегда язык господствующего класса. С другой стороны, он узнавал также, что
идея, которая овладевает массами, становится материальной силой и что сам марксизм всесилен, потому
что верен. Далее будет показано, что формирование
коммунистического общества тесно связано с этой
амбивалентностью. Но сначала необходимо исследовать вопрос о том, как функционирует «идеальное»
языковое принуждение, которое может «овладеть»
отдельным человеком, а то и целыми массами, и превратиться тем самым в революционную силу, учреждающую новую власть.
Абрам Рейтблат. Писать поперек
- Абрам Рейтблат. Писать поперек: Статьи по биографике, социологии и истории литературы. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. — 400 с.
Пушкин — гимнаст. Такая формула в названии одной из статей сборника подобна известной мистификации Сергея Курехина и Сергея Шолохова «Ленин — гриб». Или, скажем, курсирующей недавно социальной рекламе «Занимайся чтением», где Пушкин в тренировочном костюме обращается с призывом к читателю: «Начинай с небольших текстов и постепенно увеличивай нагрузку». Гений Пушкина, почти как авторитет Вождя революции, аккумулирует вокруг себя огромное количество высказываний (публицистических, аналитических, подражательных и пародийных), за слоем которых весьма сложно отыскать собственно фигуру когда-то здравствующего писателя.
Одеть «солнце русской поэзии» в Adidas, пусть и не без доли иронии, — значит подтвердить актуальность чтения для современного человека, найти общие точки соприкосновения «бакенбард» и поколения нулевых. Абрам Рейтблат не создает авангардную провокацию, его статьи также не нацелены на популяризацию словесности. «Писать поперек» — результат почти тридцатилетнего восприятия и изучения литературы как социального института, основная функция которого — «поддержание культурной идентичности общества на основе тиражируемой письменной записи».
Определение места литературы в ряду прочих медиа (кино, телевидение, интернет), ее возможной сферы влияния в условиях бесконтрольного потока информации сегодня, а также выявление механизмов мифотворчества, способов идеологической экспроприации художественных текстов и их канонизации положены в основу научных изысканий Рейтблата.
В первой части сборника представлены статьи, с разных сторон характеризующие устройство литературной фабрики смыслов. Исследуются взаимоотношения «автор — издатель», «критик — исследователь», вопросы журнальной полемики (например все того же А.С. Пушкина и Ф.В. Булгарина), обсуждается традиция вручения книги в качестве подарка от автора и коммуникативная функция инскрипта в данном случае.
Обращаясь к целым комплексам текстов и вычитывая только их стереотипические свойства, Рейтблат строит образ еврея-современника в русской драматургии XIX — начала XX веков, выявляет модели социального воображения советского человека (на материале жанра научной фантастики 1920-х годов).
Такая исследовательская оптика, в целом, не типична для русского литературоведения, поэтому часто Рейтблат вступает в скрытую полемику с представителями имманентного подхода. Можно предположить, что именно этим обусловлен выбор материала иностранной литературы в освещении социологии чтения конца XIX века: так же, как в свое время Юрий Лотман использует перевод Василия Тредиаковского («Езда в остров любви») в качестве примера трансплантации поэтики для только зарождающейся русской литературы, Рейтблат связывает появление массового чтения именно с изданием переводных текстов.Вторая часть также посвящена по большей части теоретическим вопросам, имеющим отношение к процессу создания биографий. Однако этот раздел прямо связан и с жизнеописанием самого Рейтблата, автора множества статей в авторитетном издании словаря «Русские писатели. 1800–1917». Показательным в этом отношении является биография известного публициста, публикатора «Протоколов сионских мудрецов» Сергея Нилуса, открыто проповедующего антисемитские взгляды. Статья по форме повторяет словарную дефиницию (с принятыми в таких изданиях сокращениями, выделением шрифтом) — это достаточно резкое критическое высказывание в адрес редколлегии «Русских писателей», не решившейся включать биографию Нилуса по идеологическим причинам, пренебрегая при этом исторической достоверностью, высшей научной ценностью.
Как бы Рейтблат не был далек от имманентного анализа художественных текстов, его историко-литературные разработки (представленные в третьем разделе сборника) продолжают традицию формальной школы, точнее, младшего ее поколения (Лидия Гинзбург, Борис Бухштаб, Николай Степанов и т. д.): проверяя на практике эволюционные принципы, сформулированные мэтрами (Юрий Тынянов, Борис Эйхенбаум), младоформалисты на семинарах исследовали литературу второго и третьего рядов, залатывая историческое полотно вокруг признанных художников слова.
Так, Рейтблат в нескольких статьях описывает противоречивую личность Виктора Буренина, популярного в конце XIX века журналиста и критика, автора памфлета «Бес в столице», сатирически изображающего журналистику начала 1870-х (сравните с «Мастером и Маргаритой»), полемические выпады которого серьезно отразились на литературной репутации Семена Надсона, романтического идола поколения рубежа веков. Реконструкция исторических предпосылок популярного в советское время жанра пьесы-сказки (наглядный пример — «Золушка» Евгения Шварца) уводит исследователя вглубь XIX века и требует прочтения «насквозь» целой массы фольклорных, романтических, почвеннических и фантастических текстов.
Предыдущие издания Рейтблата, ставшие своего рода классикой социологии литературы, — в первую очередь «Как Пушкин вышел в гении» (НЛО, 2001) и «От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы» (НЛО, 2009) — уже содержат в себе отчетливую манифестацию метода, используемого в сборнике «Писать поперек». Неповторимая особенность данной книги — ностальгия по временам литературоцентричности, личностное, фактически родительское отношение к полю литературы. Теплый вдохновенный тон, более привычный для мемуаров, редко сопутствует научному исследованию. Однако в сочинении Рейтблата он чувствуется между строк, подобно случайно промелькнувшей праздной мысли в процессе важной деловой встречи.
Четыре книги о мозге для людей, которые хотят им пользоваться
Пока мы пытаемся отстоять последние крупицы здравого смысла в информационном потоке недавних мировых потрясений, нейробиологи и психологи выяснили о нашем мозге уже практически все. Специалисты научились транслировать на экраны с помощью камер сигналы радости и горя, вспыхивающие в коре больших полушарий. Разделили истинные и ложные воспоминания. Даже разыскали центр, отвечающий за религиозный экстаз, и успешно простимулировали его электродами. Для тех, кто уже понял, что наш мозг не обычное how-to-do устройство, и хочет им управлять, «Прочтение» выбрало четыре книги.
Дэвид Рок. Мозг. Инструкция по применению. Как использовать свои возможности по максимуму и без перегрузок — М.: Альпина паблишер, 2013
Исследование, проведенное американцем Роком, сосредоточено на важных для современного человека вещах, таких как выживание в стрессовых ситуациях или организация повседневного труда. Включиться в чтение книги будет проще всего тому, кто либо привык к существованию тайм-менеджмента и составляет расписание на день, либо хочет научиться это делать. На жизненных примерах, особенно актуальных для офисных служащих, автор показывает, почему человек отвлекается во время работы и какие процессы при этом происходят в мозге, а после предлагает инструкцию, как оптимизировать решение задач в полевых условиях. Идеальная книга для прокрастинаторов, желающих управлять не только временем, но и собой.
Ася Казанцева. Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости. — М.: Corpus, 2014
Внутри этой книги скрывается не совсем то, что заявлено на обложке. Причины глупостей, совершаемых по команде мозга, в ней разбираются очень подробно, но кроме глупостей Ася Казанцева описывает и способы если не избавления от них, то хотя бы защиты. Например, разбираясь в причинах курения и попытках отказа от него, можно понять, почему бросить курить так легко для некоторых из нас и почти невозможно для многих других, а также отчего нельзя поучать окружающих, даже если очень хочется. Язык книги чуть менее сух, чем у Рока (здесь инструкций-списков вы не найдете, равно как и конспектов решений), а примеры из жизни помогут лучше разобраться в каждой из представленных проблем.
Дик Свааб. Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2013
Это теоретический труд известнейшего исследователя мозга из Нидерландов, начавшего свою работу еще тогда, когда техника значительно уступала нынешней, а общество принимало отличные от популярных теории очень близко к сердцу. В свое время публикация его работ на родине вызвала бурное возмущение тех, кто был оскорблен фактической отменой для людей «свободы выбора», которой восхищался герой Достоевского. По мнению ученого, причина абсолютного большинства «нестандартных» состояний тела и сознания (например транссексуализма) закладывается еще на стадии формирования мозга. Теоретически сложная книга написана легко читаемым слогом. Примеры и вовсе выглядят как лирические отступления, а критические точки трудов Свааба, чуть было не стоившие ему в свое время карьеры (и даже жизни), актуальны в наши дни ничуть не меньше.
Рита Картер. Как работает мозг. — М.: Астрель, Corpus, 2014
Большое и подробное издание Картер в оригинале называется «Mappind the Mind», и основной его идеей является создание точной карты человеческого мозга. Каждый его элемент в сочетании с прочими контролирует ту или иную эмоцию, побуждение, реакцию. Неизученных нами участков мозга все еще много, но теперь человечество уже не прячется от неизвестности, как средневековые картографы, заполнявшие чудовищами белые пятна географических карт, а старается познать ее. По словам Картер, ей всегда «не терпелось узнать, как работает человеческий мозг». Книгу легко прочтет даже не посвященный в нейробиологию. Первые главы изложены довольно просто, сложность текста возрастает по мере приближения к концу книги. Многие американские студенты и вовсе использовали пособие Картер в качестве учебника.
Сын своего народа, или 7 изречений Саши Филипенко
Писатель, сценарист «Прожекторперисхилтон» и ведущий телеканала «Дождь» Саша Филипенко встретился с петербуржцами 29 марта в читальном зале Библиотеки Гоголя. Беседа лавировала между проблемами острополитического характера, вопросами о смысле жизни и дискуссией о моральных ценностях. «Прочтение» выбрало семь высказываний автора, в которых проявляется его отношение к окружающему и романному миру.
О Петербурге
Когда я выбирал вуз для продолжения образования после минского университета, моя бабушка сказала: «Любой образованный молодой человек должен пожить в Петербурге». Послушавшись ее, я в конце октября приехал в этот город и внезапно для самого себя оказался в фатально грязном месте, где было слякотно и промозгло. Я не увидел того, что обещала мне бабушка, напротив — столкнулся с высоким уровнем агрессии в обществе, к которому был не готов. В первый же день на пешеходном переходе меня дважды чуть не сбил автомобиль… И только по прошествии пяти-шести лет я смог признаться себе, что мои чувства по отношению к Петербургу изменились.
О «трудностях перевода»
В минском университете меня учили начинать предложение со слова «вероятно», потому что мы все, обладая сформированной годами личной позицией, тем не менее ничего не знаем до конца и можем только предполагать. С приездом в Россию мне пришлось испытать лингвистическое потрясение: здесь люди начинают монолог со слов «на самом деле». Не потому что собеседник хочет убедить вас в своей точке зрения, просто никто не сомневается в истинности сказанного. Или в том, например, что надо войти в вагон до того, как люди оттуда вышли.
О романе «Бывший сын»
Я называю эту книгу компиляцией поводов или энциклопедией причин, по которым мы покидаем родную страну. Фабула такова: главный герой Франциск в 1999 году попадает в давку в подземном переходе Минска возле станции метро «Немига», впадает в кому и проживает большую часть жизни современной Белоруссии в бессознательном состоянии. Он просыпается накануне выборов президента в 2010 году, участвует в митинге и после его разгона, отказываясь сражаться с режимом, уезжает из страны.
Я был в Минске 19 декабря 2010 года. И когда отправлялся туда, я знал: то, что произойдет на площади, куда выйдут после оглашения результатов и мои друзья, будет финалом романа. Мне всегда хотелось написать поколенческую вещь, взять один период из жизни государства и одной семьи. В Белоруссии живет девять миллионов человек, при этом три миллиона находится за ее пределами, в эмиграции. Мне было важно понять, почему люди продолжают уезжать и почему я сам стал бывшим сыном своей страны.
О политизированности романа
Я не считаю, что «Бывший сын» политизирован. Я не писал агитку, а пытался передать жизнь такой, какая она есть — со спорами о деньгах, мечтах, политике. Ничего нового о личности Александра Лукашенко в книге нет, и запрещать ее не за что. В черный список обычно попадают тексты, которые могут открыть вам глаза на скрываемые до сих пор аспекты. А мой герой просто не может принять эту всем известную коматозную действительность. Кстати, несмотря на строгость режима, о которой принято говорить, в Белоруссию сейчас вернулась писательница Светлана Алексиевич. Она живет в Минске и иногда устраивает встречи с читателями, во время которых под окна зачем-то пригоняют оркестр, и музыканты громко бьют в тарелки.
О мессианстве
У меня нет иллюзий относительно того, что я смогу повлиять на мир при том количестве произведений, которые сейчас пишут и том количестве информации, что нас окружает. Но я верю, что моя книга может стать маленьким осколком в витраже вашего представления о жизни. В идеале мне хотелось бы, чтобы «Бывший сын» вошел в факультативный список литературы по истории Белоруссии как наглядное изображение этих десятилетий.
О билингвизме
Я учился в школе на белорусском языке и разговаривал на нем с одноклассниками, при том что в семье мы общались только по-русски. Сейчас я пишу на обоих языках, разделяя между ними прозу и поэзию. Так, петь колыханные (колыбельные) сыну и сочинять стихотворения я продолжаю на белорусском. И конечно, мне хотелось бы, чтобы мой сын знал язык своего отца.
Об известности
Медийность помогает в том случае, когда ты ходишь по издательствам и предлагаешь рукопись. В таком случае она не сразу оказывается в урне с макулатурой, ее читают. Моя известность мешает, скорее, тем людям, кто знает меня по работе на «Дожде» и «Первом канале». Им кажется, что роман должен быть написан в легком и шутливом стиле. А эта книга печальная, серьезная, в нее я вкладывал совершенно другой образ. «Бывший сын» это единственное высказывание, в котором я убежден и в которое я верю.
Хор оглашенных
- Майя Кучерская. Плач по уехавшей учительнице рисования. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 314 с.
В оратории эстонского композитора Арво Пярта «Плач Адама», пронзительной уже по своей литературной сути, есть фрагменты, заставляющие чуткого к музыке слушателя невольно вздрагивать и вжимать голову в плечи. Громкость, с которой исполнители сотрясают голосом своды зала, колеблет чувство глубокого трагизма и вносит в восприятие даже некую неловкость.
«Плач по уехавшей учительнице рисования» Майи Кучерской — сборник из четырнадцати рассказов, написанных за двадцать лет, — оглушает похожим образом. В первую очередь прямотой. Во вторую — надрывностью. Оба этих свойства вызывают у меня болезненную рефлексию. Ни в жизни, ни в произведениях искусства я не люблю смотреть на то, как люди балансируют на грани эмоционального срыва, как они повышают голос и захлебываются плачем. Пристыженный соглядатай, я многажды оставляла книгу со словами: «Нет, это уже слишком». (Кучерская написала бы «too much».)
Возвращало к чтению имя на обложке. Широкий круг читателей добавляет к нему, будто теги, слова «церковь», «православие», «патерик». Автором «рассказов для унывающих» Майю Кучерскую представляют по-прежнему. Короткие зарисовки из приходской жизни, милые и чудные анекдоты о духовных отцах и детях внесли оживление в диалог религиозной и светской литературы, прозвучали как легкая шутка, оборвавшая тягостное молчание посреди собрания родных, но разобщенных временем и обстоятельствами людей.
Выпущенная вслед за «Современным патериком» книга «Бог дождя», наполовину состоящая из последования к воцерковлению, а на вторую половину оказавшаяся мучительной проверкой понятий веры и любви, также выдержала несколько переизданий и разошлась внушительным тиражом по полкам студенчества.
Писательская честность Майи Кучерской и степень ее близости к читателям с тех пор только возрастали. В разрозненных рассказах, что появлялись в толстых журналах и тематических сборниках («Русские дети», «Все о моем доме», «Русские женщины»), ароматы елея и ладана доносились разве что случайным порывом ветра. Со страниц романа «Тетя Мотя» запахло домашней едой, свежеотпечатанными газетами, быстрорастворимым кофе. А еще гостиничными номерами — и от наполнявшей их пыли (а может быть, скорби) першило до слез. Так Майя Кучерская от большого института русской православной церкви обратила читательский взгляд к тому, что названо «церковью малой».
На днях в книжном магазине, где я задумчиво стояла у стеллажа с современной русской прозой, продавец посоветовала взять новинку — «Плач по уехавшей учительнице рисования». На мое вежливое «Это я уже читала, спасибо», девушка доверительно спросила: «И как?». Неопределенные движения рукой, игра бровями, внезапно проступившее косноязычие позволили тогда уйти от прямого ответа. Едва ли стоило говорить ей, что это жутко громко и запредельно близко — мне указали бы на отдел иностранных бестселлеров.
Смерть, насилие, голод, болезни — эти явления, неизменно приносящие глубокую боль, иногда кажутся ничем в сравнении с муками богоданного чувства. Мечта познать любовь, разделить ее и вместе согреться в лучах этого сияния слишком часто, чем можно вынести, воплощается грубо и как-то… по-земному.
Не обедневшая страстность вызывает «Плач…» Майи Кучерской, но попрание иконы, которую герои видят в своих возлюбленных. Так, оскоромившись духом либерализма, легко додумать в рассказах «Сказки на крыше» и «Игра в снежки» гомосексуальность персонажей. Впрочем, последний из них прямо иллюстрирует конфликт — достаточность духовной связи для одной из девочек и желание физической близости другой. Соображения, подтолкнувшие автора к выбору такого сюжета, представлены риторическим вопросом в предисловии к журнальному варианту этого произведения: «Не есть ли любовь, которая забывает о поле, искаженное, переведенное на грубый земной язык предвестие тех таинственных, будущих райских отношений?»
Принцип эквилибристического трюка заложен в большинстве новелл сборника: исполняя в воздухе сложную фигуру (как правило, петлю), автор приземляется точно на колеблющийся канат, удерживаясь от низвержения в бездну пошлости. Угнетенные женщины, неопределившиеся мужчины, ранимые дети, опустошенные писатели и — пчелы, жалящие до смерти. Населяй эти персонажи страницы книг другого автора, цвет лица бы портился от тошноты. Но угол зрения Майи Кучерской (острее не придумать!) упирается во тьму подсознания человека и немилосердно выхватывает сигнальным фонарем подступы к греху, отчаяние, самообман — то, что знакомо до появления на щеках обжигающих пятен.
Зажать уши, закрыть глаза и спрятаться в домик, точно та кукла на обложке, на которую умелый художник насадил скворечник до самых плеч, хочется из чувства внезапной наготы. Игра в «я — не я», когда смена местоимений третьего лица на первое происходит в рамках одного повествования или когда в образах узнаешь черты не только автора, но и свои, и ближних, чересчур схожа с реальностью.
Сколько людей ищут после прочтения обратную связь с писательницей, не знаю, но уверена, что их немало, потому что лично написала ей краткое письмо:
«Дорогая (Зачеркнуто.) Уважаемая (Зачеркнуто.) Слов не подобрать —
Майя Александровна!Постройте ковчег вашего сострадания и никогда больше — слышите? — никогда не погружайте скитальцев в пучину погибели».