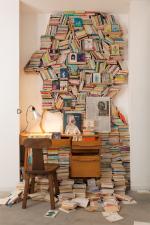- Алексей Самойлов. Единственная игра, в которую стоит играть. — СПб.: Гуманитарная Академия, 2014. — 606 с.
На сцену нас не тянуло, но театр значил для нас страшно много.
Мое первое театральное потрясение — Николай Симонов в «Живом трупе», первый раз я увидел его еще школьником, семиклассником, когда приезжал на зимних каникулах из Петрозаводска в Ленинград, а всего видел раз четырнадцать. Через много лет я познакомился с ним, когда брал интервью для газеты в петрозаводской гостинице «Северная», случайно упомянул об увиденной недавно в Москве, в Вахтанговском театре «Принцессе Турандот» (возобновлении спектакля самого Вахтангова), сгорая от стыда, по просьбе Николая Константиновича, показывал великому артисту, как вахтанговцы это делают, и был вознагражден за все… Симонов признался, что был влюблен в «Турандот» и дважды, зайцем, хоронясь под полками вагона, мотался из Питера в Москву в начале двадцатых годов, а потом сыграл передо мной, единственным зрителем, множество сцен из вахтанговского спектакля — и столько упоения, веселого озорства было в импровизациях артиста, названного при жизни «великим русским трагиком»…
Как-то я рассказал Иннокентию Михайловичу Смоктуновскому о том, с какой неожиданной стороны открылся мне Симонов, играя-вспоминая «Турандот». И Смоктуновский, только что вернувшийся из Ленинграда, со съемок телевизионной версии «Моцарта и Сальери», признался, что никогда не предполагал, сколько в Симонове веселья, какая бездна юмора — «о деликатности, такте, доброте уж и не говорю, это все отмечали, кто имел счастье встречаться с Николаем Константиновичем».
Смоктуновский — князь Мышкин — второе мое театральное потрясение. Не только мое, наше: все мы, кто учился и жил в Ленинграде во второй половине пятидесятых, открывали мир в себе и себя в мире с помощью Достоевского, Товстоногова и Смоктуновского. О спектакле БДТ «Идиот» написаны монбланы статей. Тонкому критику Раисе Беньяш в книге «Без грима и в гриме» удалось зафиксировать «неповторимое в самом летучем и ускользающем из всех искусств — искусстве актера». Анализируя спектакль Товстоногова она писала: «Безумие Мышкина — это у Смоктуновского заболевание справедливостью. Оказавшись перед необходимостью выбирать между собственным счастьем и справедливостью, он пожертвует счастьем. И никогда — справедливостью».
С Иннокентием Михайловичем я познакомился через Орлушу, который женился на актрисе БДТ и какое-то время жил в одной коммунальной квартире на Московском проспекте с семьей Смоктуновских. К этому времени мы уже окончили университет, разъехались по разным городам, но при первой возможности наведывались в Ленинград и собирались то на Марата у Бубриха , то, по старой памяти, у Рокового на Маклина, то у Орлуши…
Трудно себе представить более непохожих людей, чем Симонов и Смоктуновский. В Симонове ничего лицедейского — он простодушен, скромен до застенчивости, нерасчетлив, размашист, широк, в нем живет, если вспомнить толстовского Федю Протасова, «не свобода, а воля», и эту волю и одиночество художника он оберегает от случайного прикосновения, от непрошенного вторжения, оберегает тем, что уходя в себя, отмалчивается, проводит часы за мольбертом, за прогулками по набережным Невы… Смоктуновский заслоняется от словословия, бесцеремонности, невежества, всякого «сора» жизни системой тщательно продуманных уловок, уходов, уклонов, нырков. Он ценит в себе совсем не то, чем восторгаются критики, об этом мы разговариваем иногда во время встреч в Ленинграде и у него дома, на Суворовском бульваре в Москве (он пишет воспоминания, статьи для нашего журнала, и я встречаюсь с ним как редактор с автором). Он не считает себя актером-интуитивистом, чей эмоциональный аппарат от природы настроен на волну чистой, беспримесной правды, актером с поставленным от природы вкусом, актером, чувствующим фальшь кожей — тоже от природы. Его не устраивает подчеркивание — «от природы», ему не нравится, когда пишут о его гениальных прозрениях, догадках, намекая, что он сам не ведает, что творит. Однажды он сказал мне: «Знаете, кто я такой? Я трудяга, не без способностей. А истинный, от Бога, талант был Павел Луспекаев…» Гордится выстроенностью, продуманностью своих ролей, тем, что контролирует разумом даже самые невероятные по крутизне спуски в глубины психики своих героев. А как он вознегодовал, когда в рукописи книги о себе прочитал, что на войне был недотепистым интеллигентом, неуместно штатским вроде сыгранного им математика Фарбера в фильме «Солдаты». Никогда не видел его на таком градусе возмущения: «Да я вот этими руками… Да я же в разведке воевал… Да мы же „языков“ добывали… Да я все умею вот этими руками, понимаете? Зачем же меня с моих героев списывать?..»
Эту книгу написала наша общая с артистом знакомая, написала талантливо, и далеко не все доводы артиста показались мне убедительными, хотя, конечно, судить о том, каким он был на войне, ему сподручнее, чем критику, в этом у меня сомнений нет… Что до остального, жалею, что книга не увидела свет полностью. В одном из напечатанных из нее отрывков о Смоктуновском — Куликове из роммовской картины «9 дней одного года» сказано: «Все сплошная игра. И все правда».
Невероятно сложная материя — душа артиста, душа, рождающая другую душу. Воистину: все сплошная игра, и все правда. Если, конечно, артист подлинный. Если не щадит себя и живет на сцене «на разрыв аорты».
Как-то в присутствии Смоктуновского гроссмейстер экстра-класса, человек среднего возраста, игравший претендентский матч с молодым соперником, пожаловался, что на пятом часу партии доска покрывается туманом и он не может заставить свой мозг работать с прежней точностью. «Странно, — качал головой гроссмейстер, — неужели преждевременная старость? Полная опустошенность, странно…» Когда гроссмейстер ушел, Смоктуновский признался:
— И у меня теперь появляется такое чувство — всё, пустой… Это естественно. Если ты уважал зрителя, любил искусство — ты все отдавал. А «актер актерычи», они, — тут Иннокентий Михайлович промурлыкал густым «фиоритурным» голосом, пародируя «актер актерычей», — долго живут, размеренно. Все-таки жить жизнью другого человека, даже на время, — страшно тяжело. Черпаешь все из одного источника (он прижал ладонь к груди) и понимаешь вдруг, что все исчерпал.
…В моей жизни были театральные подмостки. В школьной самодеятельности играл Землянику в «Ревизоре», Сатина в «На дне». Три сезона выходил на сцену Петрозаводского русского театра драмы в спектакле «Губернатор провинции» в роли немецкого мальчика Вальтера. Это была пьеса братьев Тур и Шейнина на современную тему, действие происходило в только что поверженной Германии, в первые месяцы после войны, нас, участников и зрителей спектакля, отделяло от этих событий каких-нибудь два-три года. На меня ходили смотреть весь наш класс и все ребята со двора, чувствовать себя премьером было сладостно, и все же я едва не бросил театр после четвертого, кажется, спектакля. Мой герой и сверстник был сыном ярого нациста, учился в гитлеровской школе, и, когда советский полковник просил Вальтера почитать какие-нибудь стихи, которые они учили в школе, он читал (надо признаться, читал он, то есть я, со всей мыслимой остервенелостью):
Мы идем, отбивая шаг.
Пыль Европы у нас под ногами.
Ветер битвы свистит в ушах.
Кровь и ненависть, кровь и пламя!Полковник горестно качал головой, рассказывал Вальтеру про Гёте и Гейне. Немецкий мальчик, оболваненный фашизмом, постепенно открывал совсем другой мир, начинал понимать мрак и ужас недавней жизни. На это должно было уйти время — месяцы и месяцы в реальной жизни — два действия на сцене. Но некоторые зрители четвертого спектакля не захотели ждать чудесного преображения волчонка, и стоило мне истерически выкрикнуть в лицо полковнику: «Кровь и ненависть, кровь и пламя!», как с балкона раздались крики: «У, недобиток, Гитлер паршивый…» — и еще похлеще…
Доиграл спектакль я еле-еле, слезы душили, непроизвольно текли по моим тоном покрытым, припудренным щекам. На следующий день прямо из школы я прибежал в театр, меня трясло от обиды, я чувствовал себя опозоренным навеки, рыдал в кабинете главрежа и просил снять меня из спектакля, заменить, не выпускать больше на сцену в роли фашистика. Борис Михайлович Филиппов долго успокаивал меня, говорил: чудак-человек, такие крики означают признание, ты, стало быть, здорово вжился в образ, тебе поверили, а твоя репутация ученика четвертого Б 9-й средней школы Петрозаводска, председателя совета отряда, вовсе не пострадала вчера, поскольку на сцене ты не петрозаводский пионер, а сын нашего злейшего врага, воспитанный врагом по образу и подобию…
Я никогда не был и не мог стать хорошим актером и рад, что удержался от соблазна (театр давал мне рекомендацию) поступать в театральный институт и связать свою жизнь с подмостками. Во мне сидел внутренний контролер, он мешал безоглядной вере в предполагаемые обстоятельства, стреноживал воображение, фантазию, не давал растворяться в чужой жизни.
Ученые лаборатории психологии актерского творчества при Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии, проводившие экспериментальное исследование актерской одаренности, установили, что высокий рациональный контроль над своим поведением сильно мешает органичности сценической жизни и является одной из главных причин того, что способности не всегда реализуются в деятельности. Не знаю, были ли у меня какие-то актерские способности, но потребность к перевоплощению, безусловно, была. Однако проклятый контролер, постоянно разъедающая рефлексия, помноженные, как говорят ныне моя дочь и ее сотоварищи, дипломированные психологи, на высокую внутреннюю напряженность и сильную внутреннюю тревожность, развили мучительное чувство — чувство стыда самого себя, большую помеху в любом творчестве, не только сценическом.
У Акутагавы, классика японской литературы, об этом сказано убийственно точно: «Тому, кто хочет писать, стыдиться себя — преступно. В душе, где гнездится такой стыд, никогда не пробьется росток творчества». И еще сказано у Акутагавы: «Только стой крепко на ногах. Ради самого себя. Ради твоих детей. Не обольщайся собой. Но и не принижай себя. И ты воспрянешь».
Не обольщайся собой. И не принижай себя. Возможно ли, следуя этой программе, изгнать из души стыд самого себя?..
И еще один вопрос. Что делать с быстротекущей жизнью, которая становится с каждым прожитым тобой годом все серьезнее, как под грузом лет сохранить веру в подлинность игры, потребность в игре, стремление к игре и способность ей время от времени полностью отдаваться, выходить из нее освеженным и готовым к дальнейшим поискам?..
Искусство слушателя
- Дмитрий Бавильский. До востребования. Беседы с современными композиторами. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. — 792 с.
После книги Элмера Шёнбергера «Искусство жечь порох» у нас еще не выходило такого подробного и полезного сборника о современной музыке, как «До востребования» Дмитрия Бавильского. Полезного не в том смысле, что много можно извлечь оттуда сведений (хотя, да, можно, и много), а в том, что когда читаешь, хочется лезть в интернет и слушать. Или даже ходить на концерты.
Бавильский взял интервью у современных российских композиторов, поговорил с ними и об их собственных сочинениях, и о контексте, и о старых мастерах, и об учителях. Автор изначально и сознательно занимал позицию заинтересованного любителя — смотрел на вещи не изнутри, знал гораздо меньше своих собеседников. Ему приходилось, преодолевая себя, задавать вопросы, которые, как он знал, могли бы показаться композиторам глупыми, банальными и прочее — но ведь это те самые вопросы, которые мог бы задать о современной музыке его читатель. При этом Бавильский не остается в роли профана, он слушает, развивается, изучает контексты, делает выводы. Поэтому разговор и получается интересный, поэтому и эффект такой — читателю тоже хочется пройти этот путь. Никаких предисловий, сразу о деле весьма таинственном: кто знает, что такое музыка сейчас?
Во-первых, мало кому известно, что происходит в актуальной «серьезной» музыке. Сложилась уникальная ситуация: музыка осталась наедине с собой — и вздохнула с облегчением. Она не пытается нравиться широкому кругу, а решает свои задачи. Впрочем, оставаясь при этом музыкой для слушателя, но только добровольного, готового сделать шаг навстречу. Сделавший этот шаг будет вознагражден новыми наслаждениями, это я говорю как человек, недавно открывший для себя, например, Галину Уствольскую, о которой Бавильский поговорил с молодым композитором Георгием Дороховым — перед самой его смертью.
Но неожиданно (во-вторых) оказывается, что все это касается не только музыки современной. Бавильский и его собеседники говорят и о способах восприятия, о том, как играют и слушают музыку прошлого: тот ли самый у нас Бах, что был во времена Баха? Что нам дал Чайковский, что в нем становится слышно, когда слушаешь его в ином контексте? Выясняется, что композиторы, как и мы, предаются в качестве слушателей разным музыкальным порокам и добродетелям. В чем-то их слушание отличается от нашего; в чем-то оно характерно, современно. Но они способны обдумать свое восприятие, и мы можем думать вместе с ними, менять свою точку слушания, заходить в музыку с непривычной для нас стороны.
Вообще говоря, искусство слушания — первое дело для писателя нашего времени. И читать эти интервью приятно уже потому, что вопрошающий умеет слушать и чувствовать не только музыку, но и слова — интонации, эмоции, иронию, печаль. Даже если вы совсем не интересуетесь музыкой, «До востребования» можно рассматривать и просто как сборник бесед; все равно будет интересно. И это тоже возможный источник наслаждения. А открыл нам его не кто иной, как Дмитрий Бавильский. Большое спасибо.
Владимир Шаров. Возвращение в Египет
- Владимир Шаров. Возвращение в Египет. — М.: АСТ, 2013. — 768 с.
Папка № 7
<…>
Дядя Юрий — Коле
В общем, мы решили, что человек лучше Всевышнего, добрее Его, милосерднее, оттого теперь мы Его и не слышим.Коля — дяде Ференцу
После ареста отца я, по совету мамы, от него отказался. Далось мне это легко. В своем заявлении в деканат я написал, что с раннего детства воспринимал его лишь как тяжкую недобрую силу. Любила меня и воспитывала одна только мать, потому и ношу ее фамилию, то есть Гоголь. Доводы произвели впечатление, меня даже оставили в комсомоле. Позже, уже из лагеря, отец всё это одобрил.Коля — дяде Артемию
В академии, хоть и не без проблем, я удержался, а через год добровольно перевелся на заочное отделение и пошел работать в газету «Сельская новь». Там каким-то начальником был давешний мамин приятель, и меня взяли в качестве разъездного внештатного корреспондента, проще говоря, собирать для других материал. За два года я частью исколесил, а куда чаще (такие были дороги) исходил пять областей — три нечерноземных: Ивановскую, Ярославскую и Калининскую, и две черноземные: Тамбовскую и Воронежскую.Как ты знаешь, когда началась коллективизация, двадцать пять тысяч кадровых рабочих из Питера, Москвы, других крупных промышленных центров были посланы в деревню руководить сельским хозяйством. С юности приученные к коллективному труду, они должны были привить его навыки крестьянину, по самой своей сути, что бы кто ни пел про общину, единоличнику. Оттого все наши колхозные неурядицы.
Газета собиралась дать целую галерею портретов этих новых председателей колхозов и совхозов, хороших и плохих, умных и глупых, оказавшихся на своем месте и попавших в деревню как кур в ощип, так там и не прижившихся. Надо сказать, что со сбором материала я справился, более того, за год под моей собственной подписью вышло восемнадцать очерков, но не в этом суть, — у меня скопилась целая уйма других, совершенно не подходящих для газеты историй. Разнообразие типов советских помещиков, их колорит, их разброс от неслыханной жадности, въедливости до ни с чем не сравнимого самодурства — редкое.
Гоголь за всё это поклонился бы в ноги. Как ты помнишь, он вечно жаловался, что ему не хватает живой фактуры, а без нее писать нечего и пытаться. Чуть не в каждом втором письме просил своих корреспондентов присылать всё, что они увидят или услышат занимательного; у меня после двухгодичной командировки подобной нужды не будет уже до конца жизни. Всем этим я завален, а яркость такая, что бьет в глаза. И вот я с согласия того же маминого знакомого решил написать заявку на книгу о нынешней сельской жизни, но не документальную, не публицистическую, а, так сказать, стопроцентную беллетристику. В общем, нечто вроде «Мертвых душ», но уже на нашем, советском материале. С советскими типами дворян и с советскими типами крестьян, впрочем, тут, по моим наблюдениям, нового заметно меньше.
Заявку эту я сделал, написал, по-моему, всё чин чином, вдобавок завлекающе и, перед тем как отослать в издательство (предполагался «Советский писатель»), попросил прочитать маму. Думал, можно сказать, был уверен, что ей понравится. Но она самым решительным образом забраковала. Заявила мне, что Ад Николаем Васильевичем уже написан, все теперь знают, что он есть, и этого Ада вполне достаточно, детали, антураж не имеют значения. Больше того, я не понимаю, во что лезу, и могу всех сильно подставить. Так что, если семья мне хоть сколько-нибудь дорога, о заявке лучше забыть.
Тата — Артемию
Он убеждал меня, что во время скачек движения лошадей истеричны и неряшливы, у них нет возможности следить за своими ногами, и они разбрасываются ими, как человек словами, когда он в бешенстве, оттого захлебываясь и задыхаясь, кричит. Что на финише во все стороны летят комья земли — лошадь роет и роет ее копытами, хочет уйти как можно глубже, а земля выталкивает ее обратно. Другое дело рысистые бега. В них ничуть не меньше напряжения, в ход тоже идут последние силы, и всё-таки строчка, которой лошадь прошивает дорожку, такая ровная, аккуратная, что кажется, и она, и наездник безразличны к земле. В этом упорядоченном беге есть много спокойствия и достоинства, сдержанности и умения себя вести. Лошадиная стихия, из-за безумия напора которой упряжка ни с того ни с сего может понести, вдребезги разбить экипаж, здесь окончательно введена в рамки и канонизирована.Коля — дяде Ференцу
После ареста отца мама поначалу думала, что коммунисты сами дали ей мужа и сами его забрали. Теперь они в расчете: ее и власть больше ничего не связывает.Коля — дяде Петру
Мама просила, да и я до этого думал о простом продлении «Мертвых душ». Сделал даже либретто второй и третьей частей поэмы. Но получилось неудачно. Я взял неверный тон, хотел стилизовать то время и ту речь, но знал ее плохо, оттого фальшивил. Впрочем, разумное зерно, может, и было. Посылаю вам пару первых страниц. На язык внимания не обращайте, он как был убог, так им и остался, но что касается сути, буду рад вашему мнению.28 ноября 1844 года в Сенат поступило прошение от лишенного всех прав состояния бывшего дворянина Чичикова П.И. о повторном рассмотрении его дела. В нем утверждалось, что Павел Иванович Чичиков, скупая так называемые «мертвые души», преследовал исключительно благонамеренные цели, в суде же сам себя оклеветал. Объясняя мотивы, Чичиков писал, что его дед, тоже служивший по таможенному ведомству, происходил из семьи закоренелых староверов. Когда при императрице Елизавете Петровне в России на отступников усилились гонения и священникам было велено доносить, кто ходит к исповеди, а кто уклоняется, дед был еще ребенком, но, как и прочие еретики, стал наговаривать на себя такое, что ни один священник не решался дать ему отпущение грехов и привести к причастию. На этот же путь встал и он, надворный советник Павел Иванович Чичиков, когда увидел, что, что бы он ни предпринимал, все его поступки истолковываются превратно.
С детства он, Чичиков, отличаясь мечтательностью, много думал о возможности построения Рая здесь, на земле, и о том, где, в какой части России его следует основать. Не имея точного плана, он сначала выбрал путь ревнителей благочестия, из числа которых был, как известно, и преосвященный патриарх Никон. Ревнители склонялись к тому, что сама церковная литургия уже есть подобие Рая на земле, и, если песнопения в храмах будут длиться, не прерываясь, круглые сутки, а прихожане, причащаясь по много раз на дню, вкушать лишь плоть и кровь Христовы — то есть просфоры и вино — грех с подобным не совладает: с позором бежав, поле боя — человеческие души — на веки вечные оставит Спасителю.
Впрочем, повзрослев, он пришел к выводу, что этот путь — епархия Синода; ему, мирянину, сюда мешаться не след. Но Синод, хотя он трижды туда обращался, ни о чем подобном думать не желал, и церковные службы шли тем же порядком, что и раньше, даже на святую Пасху — до Рая на земле они много недотягивали. Тогда, заново всё обдумав, он, Чичиков, пришел к убеждению, что, коли мы святой народ и земля наша тоже святая, Рай определенно должен быть заложен в пределах империи — или в Новороссии, или в Крыму, или в степных заволжских просторах от Саратова и дальше на юг и восток, где еще со времен бабки нынешнего царя императрицы Екатерины Великой стали селиться немцы-колонисты. Резон простой: земли эти пустые, малонаселенные, и грех тут еще не успел укорениться.
Ни о каком своем прибытке он не заботился, но, разобрав вопрос, решил, что коли мы воскресаем во плоти, то, скорее всего, Рай переполнен, оттого и людей, сколько бы они при жизни ни мучились, берут туда с большим разбором. И вот он, Чичиков, собрался взять на вывод кусок нашей Святой земли и, прирезав его к Раю, испоместить на ней души усопших крестьян, которые пока еще числились за своими помещиками, но уже были обращены к одному Господу. Думал на радость Всевышнему щедро наделить их тучным плодородным черноземом, которого в центральных губерниях России так не хватает. Это предприятие казалось ему во всех смыслах богоугодным.
Еще он предполагал, что, подняв целину и ее засеяв, крестьяне в первый же год начнут обживаться на новом месте, рыть колодцы, ставить избы и храмы, а то, что в итоге построится, и будет градом Божьим на земле.
Коля — дяде Юрию
Мать и после лагеря при всяком удобном случае подводит меня к мысли, что, если бы Николай Васильевич в свое время завершил поэму, нам бы не пришлось пройти через то, что и врагу не пожелаешь. Так что мне всегда было трудно это не перенять, не думать, забыть, что кто-то, скорее всего, именно я, обязан закончить прерванную на середине работу.Коля — дяде Петру
Считая нашим семейным предназначением дописать «Мертвые души», мама с детства говорила мне: «Ад» написан, «Чистилище» было написано, и от него осталось несколько глав, в их числе и финальные, хотя трудно сказать, тот ли это вариант, что устраивал самого Николая Васильевича. Но жизнь, объясняла мне она, сделается невозможна, если мы смиримся, что в ней есть лишь ад, в лучшем случае чистилище, что мы так греховны, что даже самые праведные из нас не могут рассчитывать на иное.Мать тогда верила, что шанс на выздоровление не потерян (первая часть «Мертвых душ» — это болезнь), но путь предстоит долгий, тяжелый, и без проводника его не пройти. Больше того, до конца его не пройти и с провожатым, если впереди на самой линии горизонта мы однажды не увидим парящий над землей, снаружи и изнутри весь переполненный светом Небесный Иерусалим. Без этого и не только слабые скоро изверятся, решат, что идут неправильно. То есть каждый должен знать, что град, в котором все мы совокупно и без изъятия обретем спасение, есть, что не зря милость Господня не оставляла нас даже в самых страшных обстоятельствах. Гоголь, несомненно, был прав, когда этот наш путь к Богу начинал с ада, считал, что никакой другой дорогой, кроме как через ад, к Раю не выйти. В первой части «Мертвых душ» мы спускаемся в самое жерло дьявольской воронки, на нас столько грехов, они так тяжелы, что тянут и тянут вниз. Зло засасывает нас, и, сколько ни рыскай руками, уцепиться не за что.
Болезнь чересчур запущена, и поначалу никакие лекарства не помогают. Прежде чем думать о спасении, мы должны ужаснуться тому, что творили, навечно и невзирая ни на какие оправдания, откреститься от любого зла. Оно больше не должно быть для нас искушением, соблазном, только чем-то грязным и постыдным, мерзким и подлым. Мы должны перестать понимать, чем же оно могло нас завлечь. Но на это нечего рассчитывать раньше, нежели дойдем до самого дна, до дантовского Коцита, пока не узнаем всего греха и весь его и навсегда проклянем.
И вот, когда мы с ног до головы будем в струпьях и коросте — отметинах, зарубках наших грехов, когда сделаемся так себе отвратительны, что даже не сможем представить Бога, который нас пожалеет, оттого и не станем никому молиться, — мы повернем и без надежды, без упований начнем выбираться из этой бездны. Пойдем к добру, может быть, лишь потому, что спускаться дальше некуда, а остановиться еще страшнее, чем идти. Кто-то, кому мы безразличны, глядя со стороны, наверняка скажет, что наша обратная дорога — точный слепок пути, которым незадолго перед тем мы спускались в ад. Но это чушь; не может быть ничего более непохожего, чем путь во зло и путь к добру. На этой дороге нам всё будет внове, и, чтобы опять не сбиться, не уйти в сторону, ее следует со всей тщательностью описать, расчертить и разметить, поставить верстовые столбы, указать колодцы и места для стоянок, приметные скалы и деревья.
В общем, вторая и третья части «Мертвых душ» нужны, чтобы не плутать. Но, конечно, главным ориентиром, главным свидетельством, что наконец мы идем правильно, будет вера. Шаг за шагом в нас начнет воскресать спасительная надежда на Всевышнего, о Котором прежде мы и думать забыли. Именно вера будет вести нас, поддерживать, когда пойдем над пропастью и тропинка под нами то и дело будет осыпаться, ноги скользить вниз. Но Господь уже не оставит, пусть и по краю карниза, но мы пройдем, не свалимся снова во зло.
Мать говорила, что, почему так получилось, что мы, Гоголи, всё это должны написать, никто сказать не может, даже не знает — не самозванчество ли это. Может быть, мы и ни на что не способны, и Гоголь тоже ничего не мог: как и мы, был обыкновенным самозванцем. Но это не наша печаль. Господь сам укажет — мы или не мы. В любом случае, работа должна быть исполнена на совесть, путь проложен по всем правилам топографической науки, так, чтобы Новый Израиль стал, будто избранный народ на Синае. Народ, впереди которого в столбе огня и дыма идет и ведет его сам Господь.
<…>
Кровные отношения
Почти через год после каннской премьеры в широкий прокат вышел фильм Джима Джармуша «Выживут только любовники» (Only Lovers Left Alive) — «ретромантический» вампирский триллер с элементами гипноза.
К размышлениям над тем, чем питается великая любовь и может ли она длиться вечность (если эта вечность тянется по-настоящему долго, особенно под конец), режиссер добавляет любопытные расчеты. Можно ли найти для любви другую меру, кроме любви без меры? Решая новым способом эти вечные задачи, Джармуш погружает зрителя в легкий транс: на интеллектуальных снобов он воздействует особенно успокоительно, на их ироничных высмеивателей — скорее, возбуждающе.
Образы вампиров — бессмертных существ, которые нуждаются в человеческой крови, — веками будоражили умы и сердца романтиков. Неудивительно, что вурдалаки стали одними из первых фантастических героев кинематографа — и с тех пор ни на десятилетие не исчезали с экранов. Поначалу посвященные им фильмы относились исключительно к жанру хоррора, где те воплощали потусторонние темные силы, чуждые всему человеческому: о самом знаменитом вампире графе Дракуле (герое Брэма Стокера) снято почти две сотни фильмов, немногим меньше — о Кармилле (персонаже одноименной новеллы Ле Фаню) и «кровавой графине» Эржебет Батори. Первые киновампиры, как нетрудно заметить, были аристократами.
Постепенно уходя от этой грубоватой метафоры и заодно вводя вампиров в контекст современной культуры, кинематографисты усложнили и одновременно «очеловечили» их образы. С начала 1980-х годов носферату и вовсе начали олицетворять некий универсальный нонконформизм — похожие на обычных людей, но неуловимо другие, обладающие магическим источником независимости и власти (часто — еще и исключительной красоты), они превратились в существ притягательных и вызывающих далекие от банального страха эмоции.
Жанр «кино о вампирах» заметно расширил свои рамки, освоив территории комедии, драмы, детектива, эротики и их многочисленных производных. Посвятить фильмы кровопийцам не погнушались, например, Тони Скотт, Нил Джордан, Роберт Родригес, Мэтт Ривз, Пак Чхан Ук, Абель Феррара и Фрэнсис Форд Коппола. Соединяя в разных пропорциях элементы крепкого жанрового и экспериментально-эстетского кино, они коллективными усилиями постепенно превратили вампирскую тему едва ли не в обязательную часть программы по совершенствованию подлинного режиссерского мастерства.
То обстоятельство, что к ней обратился и Джим Джармуш, не слишком удивляет: в сущности, он давно собрал внушительную коллекцию сюжетов, так или иначе ассоциирующихся с бессмертием, вечностью и отчужденностью от толпы — главными характеристиками современных вампиров. Режиссер все знает о ночи («Ночь на Земле», 1991), посмертных путешествиях («Мертвец», 1995) и чувстве принадлежности к высокой касте («Пес-призрак: путь самурая», 1999), а кроме того — о мифологии американского рока («Таинственный поезд», 1989), из которой вырастает значительная часть ключевых метафор его новой картины «Выживут только любовники».
Адам (Том Хиддлстон) — вампир-мизантроп и выдающийся музыкант — прячется от всего мира на окраине Детройта и подумывает застрелиться с помощью деревянной пули 38-го калибра. Его возлюбленная жена Ева (Тильда Суинтон) обитает в Танжере, где проводит время за чтением и беседами с Кристофером Марлоу (Джон Херт) — тоже вампиром и (все-таки) истинным автором всех шекспировских произведений. Эти трое давно никого не убивают, предпочитая доставать кровь через проверенных докторов; люди тем временем не следят за здоровьем и пичкают себя всякой дрянью — словом, портят кровь и себе, и вампирам, так что проблема питания становится для вторых все более трудной. Беспокоясь об Адаме, Ева летит в Детройт, где они проводят прекрасные ночи в беседах о науке и искусстве. Идиллию портит младшая сестра Евы Ава (Миа Васиковска) — наглая оторва заявляется к ним без приглашения, и интеллигентные родственники, как водится, пасуют перед ее пролетарским напором.
«Любовники» открываются крупным планом вращающейся на проигрывателе пластинки — по такой траектории они движутся и дальше: неспешно развиваясь, все действие происходит в нескольких замкнутых камерных пространствах, словно бы не сходя с места; возникновение всякой новой «мелодии» начинается не с движения или жеста, а со слова. Адам и Ева любили друг друга долгие века — и чувственное влечение, не исчезнув, но поутихнув, уступило место интеллектуальному притяжению. Впрочем, в истинно гармоничных союзах одно всегда питает другое: воспоминания и идеи, которыми обмениваются герои, ласкают их слух и распаляют страсти подобно прикосновениям.
Тот же эффект, впрочем, оказывают они и на зрителя: Джармуш переполнил свое кино цитатами и автоцитатами, аллюзиями и намеками, реминисценциями, ребусами и оммажами до того ощутимого предела, за которым всякий наблюдатель не может не испытать либо затянувшийся экстаз узнавания (который точно ждет интеллектуальных снобов), либо легкое щекочущее раздражение от некоторой навязчивости культурных кодов. Это тот самый случай, когда попытка составить расширенный комментарий к фильму неизбежно оборачивается блужданием по лабиринтам собственной памяти и фантазии — которому, разумеется, нет конца.
Имена, даты, города, кафе, марки музыкальных инструментов… В такой игре есть немало прелестей, главная из которых заключена в возможности посмеяться над самим собой. Так, в какой-то момент начинаешь разглядывать надкушенное яблоко на айфоне Евы и думаешь, что «это уж все-таки слишком» (обращаясь больше к себе, чем к автору). Герои презрительно называют людей «зомби», но ясно, что для Джармуша все мы — те же вампиры: питаемся культурными и научными достижениями ушедших поколений, легко перемещаемся между самыми отдаленными географическими точками и «помним» далекое прошлое, которое не застали, но всегда можем увидеть на YouTube, старых фотографиях и в кино.
Удивительно, однако, что при всей своей символической насыщенности «Любовники» относятся к нечастому роду кино, восприятие которого зависит скорее от тончайших особенностей темперамента человека и того, насколько близок лично ему стихийный набор словно бы случайно разбросанных в кадре деталей. С известной долей дерзости можно предположить, какой зритель проникнется к ленте самыми нежными чувствами. Вовсе не тот, кто сходу вспомнит сначала библиографию Уоллиса Дэйва, а потом Дэвида Уоллеса или, услышав о Детройте, тут же подумает о Motown Sound. Скорее, тот, кто любит вечером поджемить в гараже, а за обедом почитать Шекспира — ну, или Марлоу на худой конец.
Умберто Эко. Сотвори себе врага
- Умберто Эко. Сотвори себе врага. И другие тексты по случаю. — М.: АСТ: CORPUS, 2014. — 352 с.
Глянец и молчание
Те из вас, кто помоложе, полагают, что «глянцевые штучки» — это обольстительные девушки из развлекательных телепередач,
а самые молодые убеждены к тому же, что
«бардак» — просто большая неразбериха. Людям же
моего поколения известно: с точки зрения исторической семантики, «бардак» — дом терпимости и только потом, метафорически, этим словом стали обозначать любое место, лишенное порядка, так что
постепенно изначальное значение забылось, и теперь все, вплоть до кардинала, используют его, чтобы указать на беспорядок. Так что, хоть «бардаком»
и назывался дом терпимости, моя бабушка, женщина
очень строгих правил, говорила «не устраивайте бардак!», имея в виду «не шумите!», совершенно не учитывая изначальное значение. И точно так же молодые
люди могут не знать, что «глянцевыми штучками» назывались распоряжения на хорошей бумаге, направляемые в редакции газет из той канцелярии фашистского режима, что курировала культуру (и называлась
она Министерством народной культуры, сокращенно — МинКульПоп, потому что там были начисто лишены чувства юмора, которое позволило бы избежать
такого неблагозвучия). Эти «глянцевые штучки» предписывали, о чем следует упоминать и о чем умолчать.
Так что «глянцевая штучка» на журналистском жаргоне стала символизировать цензуру, призыв затаиться,
стушеваться 1. Те же «глянцевые штучки», о которых
мы говорим теперь, — это нечто прямо противоположное: это, как нам всем известно, триумф открытости,
видимости, более того — славы, достигаемой одной видимостью, когда простое мелькание на экране уже считается отличным результатом — такое мелькание, что
в прежние времена считалось бы просто постыдным.Перед нами два вида глянца, которые я хотел бы
увязать с двумя видами цензуры. Первая — цензура посредством замалчивания. Вторая — цензура через шум.
Иными словами, «глянцевая штучка» — это символ телевизионного события, явления, спектакля, новостной передачи и т. д.Фашизм понял (как вообще понимают все диктатуры), что девиантное поведение провоцируется тем,
что о нем пишут в газетах. Например, «глянцевые
штучки» предписывали «не упоминать о самоубийствах», потому что через несколько дней после рассказа о самоубийстве кто-нибудь в подражание тоже
совершал подобное. И такой подход был абсолютно
оправдан, потому что даже партийным чинам приходили в голову не одни лишь ошибочные идеи. Нам ведь
известны события национального масштаба, которые
становились таковыми лишь потому, что о них раструбили СМИ. Например, события 77-го года или «Пантера» 2 — очень незначительные эпизоды, из которых
пытались раздуть «новый 68-й год» лишь потому, что
газеты начали твердить: «Возвращается 68-й!» Тем, кто
жил в то время, прекрасно известно, что они были созданы прессой, как создаются прессой разбойные нападения, самоубийства и стрельба в школе: один такой
инцидент в школе провоцирует множество подобных, и кто знает, сколько румын были вдохновлены
на ограбления стариков, потому что газеты объяснили
им, что этим занимаются исключительно иммигранты
и что это очень просто — достаточно спуститься в подземный переход у железнодорожной станции и т. д.Раньше «глянцевая штучка» говорила: «Чтобы
не провоцировать людей на поступки, считающиеся
неподобающими, достаточно не говорить о них». Сегодняшний глянец говорит: «Итак, чтобы не говорить
о неподобающих поступках, давайте много-много говорить о другом». Я всегда думал: случись мне узнать,
что завтра газеты напишут о каком-то моем неблаговидном поступке, который очень повредит моей репутации, первое, что я сделаю, отправлюсь и заложу
бомбу рядом с вокзалом или полицейским участком.
И назавтра первые полосы всех газет будут посвящены этому событию, а мой личный грешок окажется
в хронике на одном из внутренних разворотов. И кто
знает, сколько бомб в действительности было заложено именно для того, чтобы увести с первой полосы другие новости. Я использовал «звучный» пример
с бомбой, потому что это прекрасный пример громкого шума, который заставляет умолкнуть все остальное.Шум как прикрытие. Я бы сказал, что идеология такой «цензуры через шум» может быть выражена в терминах Витгенштейна: о том, о чем следует молчать,
следует много-много говорить. Канал TG1 дает нам
образец такой техники: двухголовые телята, уличные
кражи — все то, что во времена оны газеты сбрасывали
как раз в «подвалы», ныне занимает три четверти часа
в информационном выпуске, чтобы не было заметно,
как они замалчивают другую информацию — ту, которую должны были бы дать. В течение последних месяцев на наших глазах произошел форменный взрыв,
целая череда скандалов — от «Аввенире» 3 до судьи в бирюзовых носках, причем назначение их было совершенно очевидно: создать с помощью вереницы подобных псевдоскандалов шум, чтобы заглушить то дело,
о котором надлежало молчать. И заметьте себе: прелесть шума в том, что, чем больше его производится,
тем меньше он связан с самим событием, его спровоцировавшим. Случай судьи в бирюзовых носках — яркий пример, потому что этот судья не делал ничего
особенного — просто курил, ждал очереди в парикмахерской, и на нем были бирюзовые носки. Но этого хватило, чтобы заполнять целые страницы в течение трех дней.Для создания шума необязательно придумывать
новости. Достаточно запустить новость настоящую,
но не имеющую никакого значения, и она, тем не менее, создает тень ожидания — просто самим фактом
своего запуска. Судья надел носки бирюзового цвета — это правда, и притом правда совершенно незначительная; но поскольку ее преподнесли с таким
видом, будто это намек на что-то неудобосказуемое,
сообщение оставляет след, осадочек. Сложнее всего опровергать малозначительную, но правдивую новость.Ошибка антиберлускониевской кампании в «Репубблике» состояла в том, что газета слишком напирала на новость значительную (вечеринка в доме
Ноэми 4). Если бы они написали, например, что «вчера утром Берлускони отправился на пьяццу Навона, повстречал своего кузена, и они вместе выпили
по кружке пива… Что бы это значило?!», сообщение
породило бы такой шлейф сплетен, косых взглядов,
недоумений, что для председателя совета министров
они были бы куда хуже намеков об отставке. В общем,
слишком значащий факт может быть опротестован,
а вот обвинение, которое не есть обвинение, опротестовать невозможно.Однажды, когда мне было лет десять, какая-то синьора остановила меня в дверях кафе со словами: «Напиши за меня письмо, а то я руку повредила. А тебе
лиру дам». Я был хорошим мальчиком и ответил,
что ничего мне от нее не нужно и я напишу письмо
просто в качестве любезности, но синьора настояла на том, чтобы хотя бы угостить меня мороженым.
Я написал письмо и рассказал об этом дома. «Боже ты
мой, — ахнула мама, — тебя заставили написать анонимку, что же будет, когда это откроется!» «Но в письме, — сказал я, — не было ничего дурного». И действительно — оно адресовалось состоятельному торговцу,
которого я тоже знал, потому что у него был магазин
в центре, и в нем говорилось: «Нам стало известно,
что вы намереваетесь просить руки синьорины Х. Хотим сообщить, что синьорина Х принадлежит к состоятельной и уважаемой семье и пользуется расположением всего города». До той поры я еще ни разу
не сталкивался с анонимкой, которая восхваляла бы обвиняемого, вместо того чтобы поносить его.
Но в чем же состоял смысл подобного письма? Поскольку у нанявшей меня синьоры, очевидно, не было
ничего, о чем можно было бы сообщить, она хотела,
по крайней мере, создать подозрительный фон. Получатель должен был задаться вопросом: «Почему
мне об этом сообщают? Что бы это значило: пользуется расположением всего города?» Кажется, коммерсант решил отложить свадьбу из-за страха ввести
в дом слишком обсуждаемую особу.Для шума даже не требуется, чтобы передаваемое сообщение было интересным: оно все равно перекроется другим, и вместе они как раз и создадут
ощущение шума. Иногда он принимает уже совершенно избыточные формы. Несколько месяцев назад в «Эспрессо» вышла прекрасная статья Берселли, в которой он задается вопросом: а вы замечаете,
что реклама больше ни о чем нам не сообщает? Поскольку невозможно доказать, что одно чистящее
средство лучше другого (и впрямь — они все одинаковы), за пятьдесят лет не изобретено иного способа
говорить о чистящих средствах, кроме как выпуская
на сцену домохозяек, которые отвергают две баночки ради правильного продукта, или заботливых бабушек, сообщающих, что пятно не поддавалось,
пока они не применили подходящее средство. Так
вот, реклама чистящих средств производит интенсивный, молотом бьющий шум, он возникает от одного и того же сообщения, выученного всеми уже
наизусть, так что оно стало крылатым: «OMO отстирывает добела» и т. д., назначение сообщения двояко: отчасти повторить название марки (в некоторых случаях это правильная стратегия: случись мне
зайти в супермаркет за стиральным порошком, я бы
спросил Dixan или OMO, потому что слышу о них вот
уже пятьдесят лет), отчасти — заставить позабыть,
что в отношении чистящих средствах невозможен
никакой эпидиктический дискурс, то есть их невозможно ни восхвалить, ни опорочить. И то же самое
происходит в других видах рекламы. Берселли замечает, что ни в одной из реклам TIM, Telecom и т. д. невозможно понять, о чем идет речь. Но, о чем идет
речь, и не важно: возникает большой шум, благодаря
которому сотовые телефоны продаются. Думаю, что
продавцы телефонов просто договорились отказаться от рекламы конкретных товаров и пришли к соглашению по поводу некой обобщенной рекламы, призванной распространить саму идею существования
сотовых телефонов. А выберешь ли ты в конце концов «Нокию» или «Самсунг» — решают другие факторы, а не реклама. То есть основная функция рекламы-шума — чтобы вам запомнился скетч, а не продукт.
Подумайте о самых удачных, самых приятных рекламах — некоторые из них даже забавны, — а потом
попробуйте повспоминать, к какому продукту они
относятся. Случаи, когда название продукта по благоприятному стечению обстоятельств ассоциируется с той или иной рекламой, крайне редки. Вот
несколько примеров: малыш, с ошибкой выговаривающий Simmenthal; или «No Martini, no party»; или
«От „Рамадзотти“ всегда хорошеет». Во всех прочих
случаях шум покрывает тот факт, что превосходство
продукта продемонстрировать невозможно.Интернет, поскольку в него не вмешивается цензура, естественно, предоставляет максимум медийного шума, из которого невозможно получить никакой информации. Точнее так: поначалу, получая
какую-то информацию, невозможно понять, насколько она заслуживает внимания; потом вы начинаете пытаться уточнить ее в интернете. Но только мы,
научные работники, посидев в интернете десять минут, начинаем отцеживать информацию и собирать
лишь те данные, которые нас интересуют. Все же прочие зависают в блогах, на тематическом порно и т. д.,
но в остальном не то чтобы много ходят по сайтам,
так что достоверную информацию им собрать просто
неоткуда.Говоря о шуме, создаваемом не с целью цензурировать что-либо, но фактически выполняющем роль
цензуры, необходимо упомянуть также газеты на шестидесяти четырех полосах. Шестьдесят четыре полосы — это слишком много для того, чтобы вычленить
новости, действительно того заслуживающие. Тут, конечно, мне кто-нибудь скажет: «Но я беру газету ради
той новости, которая мне интересна». Конечно, но те,
кто так поступают, — это элита, умеющая обращаться с информацией, и причина, по которой продажа
и чтение газет катастрофически падают, прекрасно
известна. Молодежь теперь не читает газет — гораздо
удобнее взглянуть на страницу «Репубблики», «Коррьере делла сера» в интернете, потому что у компьютера один экран, или взять бесплатную газетку на остановке, потому что там все, что нужно, сказано на двух
страницах.Имеется, таким образом, сознательная цензура,
работающая при помощи шума, — и это происходит
в мире телевидения, через постоянное производство
политических скандалов и т. д., — и цензура бессознательная, но роковая, та, в которой по соображениям,
что сами по себе вполне вески (привлечение рекламы, продаваемость и т. д.), переизбыток информации
сливается в шум. Это (и здесь я перехожу от вопросов
коммуникации к вопросам этики) породило психологию и этику шума. Кто он, тот идиот, который шагает
по улице с айподом в ушах, который и часа не может
пробыть в поезде, читая газету или любуясь пейзажем,
а должен немедленно извлечь свой сотовый и сначала сказать «я выехал», а потом «я подъезжаю»? Эти
люди не могут больше жить вне шума. И поэтому рестораны, достаточно шумные сами по себе из-за движения посетителей, предлагают еще больше шума
с помощью двух включенных телевизоров и музыки;
а если вы попросите их выключить, на вас посмотрят
как на сумасшедших. Столь интенсивная потребность
в шуме действует как наркотик и мешает выделить то,
что по-настоящему очень важно. «Redi in interiorem
hominem»5 — да, в конечном счете примером для подражания в мире политики и телевидения завтрашнего дня все еще может оказаться Блаженный Августин.И только в молчании работает единственное
и по-настоящему действенное средство передачи информации — молва. Любой народ, даже подавленный
самой тиранической цензурой, все-таки в состоянии
узнать, что творится в мире, благодаря молве. Редакторам известно, что книги-бестселлеры становятся таковыми не благодаря рекламе или рецензиям, а благодаря тому, что по-французски называется
bouche oreille, по-английски — word of mouth, а мы называем «стоустой молвой»: книги добиваются успеха
только благодаря ей. С исчезновением тишины исчезает и возможность уловить эту молву — единственное основополагающее и заслуживающее доверия
средство передачи информации.Вот почему в заключение я хочу сказать, что одна
из этических проблем, стоящих перед нами, — как
вернуться к молчанию? И одна из семиотических проблем, которой мы могли бы заняться как следует, — изучить функции молчания в разных типах коммуникации. Подойти вплотную к семиотике тишины — это
может быть семиотика молчания в умолчаниях, семиотика молчания в театре, семиотика молчания в политике, семиотика молчания в политических дебатах,
то есть умение «держать паузу», молчание для нагнетания саспенса, угрожающее молчание, сочувственное молчание, заговорщицкое молчание, молчание
в музыке. Смотрите, сколько тем для исследования семиотики молчания. Итак, итальянцы, я призываю вас
не к рассуждениям, я призываю вас к молчанию.[Выступление на конгрессе Итальянской семиотической ассоциации в 2009 г.]
1 Прояснив изначальный смысл выражения «глянцевые штучки», я должен упомянуть, каким образом оно приобрело свое нынешнее значение. На самом
деле продюсер Антонио Риччи, запуская сатирическую телепередачу «Новости без передышки», действительно поначалу ввел в нее девушек на роликовых
коньках, которые подвозили двум ведущим листочки с новостями и поэтому
именовались «глянцевыми штучками». Если Риччи хотел скаламбурить, то он
выбрал для этого правильный момент: ко времени запуска «Новостей без передышки» (1988) еще были люди, которые знали и помнили, что такое «глянцевые штучки» МинКульПопа. Сегодня этого уже никто не помнит — и вот вам
еще один повод порассуждать о новостном шуме, о наслоении информации:
за два десятилетия историческая реалия оказалась полностью вычеркнута, потому что другая реалия стала активно ее перекрывать. (Прим. автора.)2 Речь идет о студенческих волнениях в 1977 г. в Болонье и Турине. Название
«Пантера» связано с тем, что в тот самый день, когда впервые после 1968 г. Римский университет оказался блокирован, из римского зоопарка убежала пантера. Ее искали целую неделю, сообщения об этих двух событиях шли рядом
во всех выпусках новостей, и постепенно одно стало отождествляться с другим.3 Главный редактор католической газеты «Аввенире» Дино Боффо был в августе 2009 г. обвинен в гомосексуальной педофилии (сам он категорически отрицал обвинения, утверждая, что это месть за критические публикации о сексуальной распущенности Берлускони).
4 Ноэми — девушка, 18-летие которой посетил Берлускони, после чего его супруга подала на развод, заявив, что «не желает быть женой человека, который путается с малолетками».
5 «Ищи внутреннего человека» (лат.) — из трактата Блаженного Августина
«Об учителе».
В пику традициям
- Мервин Пик. Цикл романов о замке Горменгаст. — М.: Гаятри/Livebook. — 2014.
Серия романов английского писателя и художника Мервина Пика о замке Горменгаст, созданная в середине двадцатого века, малоизвестна сейчас не только в России, но и в мире, несмотря на ряд театральных и радиопостановок, один мини-сериал от BBC и премию английского Королевского литературного общества. Сразу после публикации трилогия была признана великим произведением. Ее относили то к готическому роману, то к фэнтези, ей восторгались многие, но это были в основном литературные критики и филологи.
«Горменгаст» среди широкой аудитории так и не получил признания, каким обладает, например, «Властелин колец» (хотя эти книги созданы в одно время) или «Гарри Поттер». Сейчас о трилогии говорят либо как о вехе в истории фэнтези (и то с оговорками), либо как об образце необычной прозы, почитаемой «новыми странными», такими как писатель-фантаст Чайна Мьевилль.
Для того чтобы создать свою историю, Пик смешал традиции романа классической готики, как у основателей этого жанра Анны Радклиф или Горация Уолпола, с их описаниями ветхого, но все еще темного и опасного Средневековья, с дворцовыми интригами произведений эпохи Регентства, добавил элементы романа-воспитания и темного фэнтези — пусть без магии (в произведении нет ни одного волшебника, файербола или пророчества), но с древними ритуалами, циклопическими пространствами и бесконечной фантасмагорией.
Пользуясь гротеском в духе Джонатана Свифта, переходящим почти в абсурд, который внезапно становится жестоким реализмом, Пик превращает взаимодействие героев друг с другом в понятную человеческую драму. Кажется, автор придерживается традиций только для того, чтобы их нарушать. Все, кого мы видим — от нянюшки Шлакк до старшего лорда Гроана, — обладают набором разнообразных утрированных черт, постоянно отражающихся не только на внешности или на поведении, но и в речи. Диалоги и монологи персонажей порой заставляют вспоминать кэрролловскую «Алису в Стране чудес».
Проиллюстрировав произведения Кэрролла, братьев Гримм, Стивенсона, творчество которого оказало большое влияние на прозу писателя, Пик, конечно, и цикл о Горменгасте не оставил без изображений. Зарисовки сцен, портреты героев — некоторые закончены, некоторые в эскизах — сердобольно отсканированы и размещены в тексте. Кое-где пропечатался и фон — тетрадный лист в линейку, придающий иллюстрациям оригинальность и реалистичность. Лишив читателей возможности вообразить, как выглядел тот или иной персонаж, Мервин Пик с эгоистичностью художника взял на себя ответственность за создание вселенной Горменгаста целиком.
«Он проходил по заброшенным пустым дворам, вымощенным каменными плитами, между которыми, пробившись в щели, росли сорняки и трава. Он проходил там, где темные коридоры, в которые никогда не заглядывало солнце, неожиданно выводили на террасы, с которых открывался вид на раскинувшиеся кругом романтические руины, где царствовали крысы».
В Горменгасте в неизвестные века (время в этой вселенной не соответствует нашему) живут Гроаны, правители какой-то странной, малоисследованной даже ими территории. Каждый день обитателей замка расписан по минутам, однако занимаются они не только делами государственной важности, но и совершением множества ритуалов, например, бросанием жемчужин в ров возле замка или поливанием строго определенных камней в галерее вином. Смысл этих обычаев давно утерян.
Гроаны гордятся своим родом, но каждый из них понимает, что за историю и власть нужно расплачиваться личной свободой. Сепулькгравий Гроан, отец семейства, погружен в бесконечную меланхолию и больше всего на свете любит отдыхать в своей библиотеке, мать Гертруда научилась забываться в обществе птиц и животных, с которыми она легко находила общий язык, а старшая дочь Фуксия живет в собственном маленьком мирке, населенном друзьями, которых у нее на самом деле никогда не было. И только Титус Гроан, единственный сын и наследник, решился на открытый бунт и покинул замок, отказавшись от правления.
Главный конфликт книги основывается на необходимости выбора героев в пользу личности или рода, свободы или ответственности. На долю Гроанов выпадают и другие испытания — их власть над Горменгастом находится под угрозой: кухонный мальчишка, хитроумный бунтарь, Стирпайк во что бы то ни стало решил завладеть замком. Задумав четыре книги, Мервин Пик успел закончить лишь три из них.
В первом томе трилогии «Титус Гроан» автор как опытный шахматист расставляет действующие фигуры по местам, знакомя читателей с границами территории и стратегией борьбы за трон. Взросление и формирование характера Титуса приходится на вторую часть саги — «Горменгаст», в которой герой до времени противостоит Стирпайку и последствиям его интриг. «Титус один» — самая сюрреалистическая книга серии. Странствуя в поисках самого себя по миру, полному почти стимпанковских технологий, Титус пытается жить без Горменгаста…
(На этом рукопись обрывается.)
Книжная карта
Миф о том, что в регионах не читают или переворачивают страницы каких-то не тех изданий (потому что «те» до них просто не доходят), был развеян после общения с сотрудниками книжных лавок Екатеринбурга, Новосибирска и Ростова-на-Дону. Что читают россияне, живущие не в двух столицах, стало известно благодаря настойчивости редакции «Прочтения» и кропотливому составлению мартовских рейтингов продаж.
Книжный Магазин «42»
Ростов-на-Дону
Ростовчане предпочитают качественную периодику и нон-фикшн. Например, журнал Kinfolk Magazine, публикацией которого на русском языке занимается семейство Илларионовых. Потрясающие обложки «Кинфолка» могут стать решающим фактором при заказе нового номера на дом. Картинки там обалденной красоты. Впрочем, как во многих зарубежных изданиях. Книги издательства Corpus, Ивана Лимбаха, «Ад Маргинем Пресс» тоже пользуются спросом. Есть в топе продаж и Елена Трубина с «Городом в теории», изданным в НЛО. Жители юга России не меньше интересуются творчеством Иосифа Бродского, чем петербуржцы, привыкшие к культу поэта, и приобретают «Пристальное прочтение Бродского», опубликованное в местном «Логосе».
Полный рейтинг «42-го».
Книжная лавка «Йозеф Кнехт»
Екатеринбург
Жители уральского города не читают Алексея Иванова, возможно, потому, что, хоть и называют сами город Ёбургом, но совсем не любят, когда это делают чужаки, да и еще и на всю страну. С продукцией издательства Corpus здесь тоже знакомы не понаслышке. Местные жители на волне всеобщего бума приобретали комикс о холокосте «Маус» Арта Шпигельмана и «Улыбку Пол Пота» Петера Фреберга. Лидером продаж уже пятый месяц является Флориан Иллиес и его книга «1913. Лето целого века». В списке есть и Шарль Бодлер, и Фридрих Ницше, и еще несколько развивающих интеллект книжечек. Однако находкой, конечно, стала книга местного самыздательства «ИГНЫПС» — «Образы северного мира» Евгения Алексеева. Будете у «Кнехта», захватите экземплярчик.
Полный рейтинг «Йозефа Кнехта».
Книжный магазин «Плиний Старший»
Новосибирск
Выбор новосибирцев менее претенциозен, однако за новинками тут тоже следят. В рейтинге, разумеется, есть «Зов кукушки» Роберта Гэлбрейта, «Шантарам» Грегори Робертса (не совсем новинка, но все же) и переизданная в этом году «Азбукой-классикой» поэма Венички Ерофеева «Москва-Петушки». Любят здесь и основательного Бориса Акунина* и его исторические исследования, перечитывают Шекспира, — другими словами, пристально следят за литературным процессом. В рейтинге почему-то нет новосибирского автора, кандидата филологических наук Виктора Иванiва, проза которого неоднократно появлялась на страницах журналов и альманахов, развивающих авангардную традицию в русской литературе. Поддерживайте своих, господа сибиряки!
Полный рейтинг «Плиния Старшего».
* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Крахт Кристиан. Карта мира
- Крахт Кристиан. Карта мира. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. — 256 с.
Диснейленд с поркой
Сингапур. 1999
Сингапур — самый жуткий город из тех, какие я знаю. Ну да, я несколько преувеличиваю. Могадишо еще хуже. Кабул, естественно, тоже. Однако в этих двух городах царят анархия и непостижимое для западного наблюдателя безумие: за малейшую провинность в Кабуле, например, побивают камнями, а в Могадишо пристреливают.
В Сингапуре, напротив, господствует скорее противоположность анархии и безумию: улицы там чище, чем в Цюрихе, там существуют аж пять бутиков Prada и сотни кафе-мороженых Häagen Dasz, и каждый год правительство этого города-государства разрабатывает новый план на тему «Будьте взаимно вежливы», который рекламируется расклеенными повсюду афишами.
План текущего года, например, рекомендует здешним гражданам всегда пропускать соседа первым в лифт, не вешать белье над тротуарами, чтобы падающие с мужских рубашек капли не попадали за шиворот прохожим, — и, конечно, в очередной раз подтверждает охотно и часто формулируемый тотальный запрет на жевательную резинку.Запрет действительно соблюдается — в Сингапуре нигде не найдешь жевательную резинку, ни в газетном киоске, ни в супермаркете. Иметь в кармане брюк пачку жевательной резинки — это уже подрывное действие, а нанесение распылителем надписей на стены домов карается с такой же драконовой жесткостью, с какой, к примеру, в Афганистане наказывают тех, кто смотрит запрещенное телевидение: за это полагается порка.
В 1994 году американский тинэйджер Майкл Фей, который побаловался в Сингапуре с распылительным баллончиком и вдобавок отвинтил один маршрутный щиток, был приговорен к двадцати ударам ротаном по заднице. Ротан — это что-то вроде косички из прутьев, оставляющей на коже глубокие шрамы. Либеральная западная печать мгновенно подняла шум, и в итоге приговор Майклу Фею был смягчен: он получил всего четыре удара этой отвратительной плетеной розгой. Тем не менее…
Попробуйте представить себе этого подростка, привязанного к чему-то вроде спортивного козла, а челюсти ему соединили, чтоб не кричал, американским зубным зажимом. И как прыщавый мальчишка, корчась от боли, считает удары ротаном: один, два, три, четыре. Нечего ему было высовываться и нарушать общие правила — такова аргументация отцов города. А то, что в каждом подростке сидит маленький вандал, который должен рано или поздно проверить, как далеко простирается его свобода, нисколько не интересует правительство. Действительно: порядок, чистота, дисциплина — вот удручающие основы этого общества.
И в том, что негибкая политика и консервативная мораль всегда порождает реакционную эстетику, может убедиться любой гость, прогуливающийся по главной улице Сингапура — по Дороге фруктовых деревьев: весь день город кажется населенным одними женщинами, которые носят двойки1, жемчужные ожерелья, клетчатые юбки в складку и эти скверные туфли Todd; единственное содержание их жизни, похоже, заключается в приобретении невероятного количества все новых носильных вещей и в плохом настроении.
Их мужья целыми днями работают в Deutsche Bank/Morgan Grenfell и в Credit Suisse/First Boston, приумножая деньги островного государства, единственным шансом которого после выхода из Малайского союза в 1965 году было, естественно, построение такой экономики, которая целиком базируется на сфере услуг. В отличие от Малайзии Сингапур не производит товаров на экспорт и у него нет сельскохо-зяйственных площадей.Недостатки были превращены в достоинства, когда премьер-министр Ли Куан Ю либерализовал экономику и запретил свободу слова. Это привело к тому, что карликовое государство молниеносно стало одной из богатейших стран мира, но вместе с тем, к сожалению, — и одной из самых скучных.
Здесь, дорогой читатель, я бы на вашем месте похлопал меня по плечу. До сих пор все прекрасно описано, скажете вы. Я тоже так считаю. Отсутствие же личных, часто притянутых за волосы впечатлений, к которым вы привыкли в этой колонке, объясняется просто тем, что в Сингапуре у меня впечатлений вообще не было. С тем же успехом я мог бы целыми днями шататься по торговому пассажу в Геттингене. Но, дорогой господин Крахт, воскликнете вы, мне хочется больше субъективности, я ведь должен иметь возможность что-то себе представить! Путеводитель по Сингапуру я могу и сам почитать, для этого мне не нужен господин Крахт. Хорошо, я попробую.
Когда спускаешься вниз по улице, тебе вдруг приходит в голову мысль, что все жители Сингапура напоминают андроидов, лица их прямо-таки лучатся анемичностью и полным отсутствием эмоций, что приводит на память голливудские фильмы пятидесятых годов — об инопланетянах, которые высасывали мозг у американцев, жителей маленьких городков, но те этого даже не замечали, поскольку такой трансформации подвергались все.
Вечером я позвонил домой в Бангкок. Моя очаровательная, высокоинтеллектуальная спутница, которая обычно охотно ездит со мной, когда мне нужно написать репортаж для Welt am Sonntag, на сей раз решительно заявила, что останется дома.
«К фашистам? — сказала она. — Нет уж, мой дорогой, езжайте туда один». Так вот, когда я позвонил ей от фашистов, моя спутница сказала, что как раз в эту минуту она уплетает в уличном киоске в Бангкоке превосходный сомтам — остро приправленный салат из папайи с сушеными крабами, а потом спросила меня, как обстоит с едой в Сингапуре, и мне внезапно пришло в голову, что в Сингапуре, в отличие от всех других метрополий Азии, ты не можешь, если проголодаешься, поесть возле уличного киоска или в забегаловке — их тут просто нет.
Принимать пищу нужно в чистых торговых центрах либо на педантично вылизанной Лодочной набережной2 — в добросовестно восстановленных и стилизованных под старину причальных рядах, которые должны были бы напоминать Fisherman‘s Wharf3 в Сан-Франциско, но на самом деле в них ровно столько же красоты, аутентичности и способности доставлять удовольствие, сколько в смертельно скучном торговом центре на Потсдамской площади.
Ясно, в Китае до сих пор проводят публичные массовые казни посредством выстрела в затылок, а где-то дела обстоят еще и того хуже. Однако особое коварство Сингапура заключается в том, что там все выглядит как во Франкфурте — или в Диснейленде. Все здесь так же по-обывательски современно, так же безотрадно и так же обещает нездоровое — наперед отмеренное и до граммов взвешенное — удовольствие.
Ну а теперь, дорогой читатель, на секунду представьте себе, что во франкфуртском районе Борнхайм существовало бы формально узаконенное телесное наказание за то, что вы, к примеру, преднамеренно разбили в кабаке пивную кружку. Возникло бы у вас желание посетить такой город?
Или если бы при посещении Диснейленда вы купили себе билет на ревю с Гуфи4, а затем тайком пробрались на более дорогостоящую Дорогу ужасов Белоснежки, за что вас потом привязали бы к козлу, и потеющий мужик в костюме Дональда Дака5 высек бы вас заплетенными в косичку розгами. Понравилось бы вам такое? Конечно, нет.
Ах, Сингапур… Поскорее прочь отсюда. Мой самолет обратно в Бангкок отправлялся в 17 часов. Я поехал на такси в аэропорт за семь часов до вылета и расположился там в ресторане. Я съел шесть устриц, привезенных из Чили сегодня утром, которые стоили умопомрачительных денег, и выпил бокал чилийского белого вина. Я оглядывался вокруг.
Внутри аэропорт выглядел точно так же, как весь Сингапур — повсюду носились одетые в двойки зомби. Пол был выстлан темно-синим ковром, где-то работал невидимый аппарат, который распрыскивал в охлаждаемом кондиционерами воздухе экстракт с ароматом орхидей. Большие вывески напоминали, что под угрозой наказания категорически запрещено не спускать за собой воду в общественных туалетах. Я чувствовал, что нахожусь под наблюдением, но одновременно меня одолевала такая ужасная скука, что я купил себе десять почтовых открыток, которые адресовал друзьям в Германии. Авторучкой Edding с черными чернилами я большими прописными буквами написал на открытках: «Сингапур ужасен. Фу-у! Отвратителен».
И очень маленькими буквами — шариковой ручкой — приписал в низу каждой открытки: «Факт получения этой открытки адресатом — доказательство демократичности здешнего режима». А потом я отправил их. И знаете что, дорогой читатель? До сего дня ни одна из них не дошла. Quod erat demonstrandum6, говорю я по этому поводу — и с радостью ожидаю предстоя щей недели.
Через две недели после опубликования этого текста в Welt am Sonntag автору был на пять лет запрещен въезд в Сингапур. Сингапурская авиакомпания и сингапурское туристическое бюро два следующих года воздерживались от публикации своей рекламы в Welt am Sonntag.
1 Имеется в виду кардиган и джемпер, обыкновенно с короткими рукавами, из одинаковой шерсти.
2 Квартал Boat Quay вдоль реки Сингапур, артерия деловой жизни. В старину здесь была лодочная пристань, где выгружались товары, теперь бывшие склады и торговые дома перестроены в двести торговых заведений, ресторанов и баров.
3 Рыбацкая пристань — старый район Сан-Франциско на берегу Залива, где сейчас расположен дорогой отель Hilton San Francisco Fisherman’s Wharf.
4 Гуфи — один из героев мультфильмов У. Диснея, долговязый, нескладный и невероятно медлительный пес. Был создан в 1932 году.
5 Дональд Дак (Утенок Дональд) — вечно недовольный раздражительный утенок в матросском костюмчике, один из наиболее популярных мультипликационных персонажей, созданных на студии У. Диснея. Дональд Дак вскоре перекочевал в комиксы, в кино и на телевидение. Известны также приключения его шаловливых племянников — утят Хьюи, Дьюи и Луи и дядюшки — скупого миллионера Скруджа Макдака.
6 Что и требовалось доказать (лат.).
Вышел в свет новый альманах фантастики «Астра Нова»
Корабль-призрак разрезает волны вспенившегося от бешенства моря. Кренится мачта, и трещит под силой натяжения веревок древко, словно ждет момента, чтобы пронзить гладь неизвестной планеты и ютящихся вокруг нее спутников.
Такая сцена разворачивается перед читателем на обложке нового альманаха «Астра Нова», под которой собраны художественные произведения в жанре научной фантастики, мистики, магического реализма и альтернативной истории.
Четыре раздела «Текстура», «Микромир», «Метаморфозы», «Горизонт событий» представляют тексты двадцати трех авторов из России и зарубежья, среди которых Владимир Венгловский, Елена Шайкина, Станислав Бескаравайный и Наталья Духина, Павел Мешков, Владимир Близнецов, Екатерина Бакулина, Рустам Карапетьян и другие. Откликнувшись на тему номера «Дверь в стене» (в которой очевидна отсылка к одноименному рассказу Герберта Уэллса), фантасты приоткрыли завесу в мир своих образов, страхов и надежд.
Одной из особенностей содержания «Астра Новы», помимо малоизвестных переводов классиков жанра, стали публицистические материалы, посвященные проблемам литературы и творчества. Альманах, выходящий с периодичностью раз в квартал под руководством главного редактора Кирилла Берендеева и при поддержке издательства «Северо-Запад», может стать новой площадкой общения гиков и любителей фантастики.
Денис Драгунский. Архитектор и монах
- Денис Драгунский. Архитектор и монах. — М.: АСТ, 2013. — 350 с.
Господин репортер, если вы хотите понять, что здесь произошло, давайте начнем с самого начала, то есть с того момента, как я вошел в кафе «Версаль».
Итак, я вошел и сел.
— Изволили приехать на конгресс? — спросил официант, подавая мне книжечку меню.
— Вы уже все про меня знаете, — сказал я. — Однако интересно, откуда?
— Вена — город конгрессов, — сказал он.
— Да, да, конечно. Вы угадали. Я приехал на конгресс Европейского совета церквей. Кофе, пожалуйста.
— По-венски?
— Ну да, разумеется. Ведь в Вене любой кофе — венский.
— Так вам кофе по-венски? Или по-турецки? К сожалению, эспрессо италиано предложить не можем, у нас сломалась машина.
— Венский кофе по-турецки, — сказал я.
Он постоял, почесал нос, поставил в блокноте крестик и ушел.
Его долго не было.
Я повернулся к стойке. Зал был пустой и полутемный — хотя, наверное, мне так показалось после яркой улицы, да еще я сидел лицом к окну. Из окна был неплохой вид. Почти как старая Вена, приятно посмотреть. Никаких новых домов, никаких этих длинных шестиэтажных фасадов с широченными окнами и квадратными арками.
Да. Я повернулся к стойке. Но не потому, что кельнер куда-то делся. Я услышал, как сзади кто-то громко хлопает дверью клозета, а потом шагает, отодвигая стулья.
Человек подошел к моему столу и остановился, покачиваясь на каблуках. На нем был серый бархатный пиджак, светлая мятая рубашка со шнурком вместо галстука. На лоб падала седеющая прядь.
— Вы разве не видите, что здесь занято? — сказал этот господин.
— Я? Что я должен видеть? — я пожал плечами. — Почему занято?
— Вы, вы! Занято, занято! Вы что, не видите, что здесь лежит салфетка! — действительно, сложенная корабликом салфетка торчала около сахарницы. — Моя салфетка! Маленькому ребенку или тупому мужику ясно, что столик занят.
Я посмотрел на него еще раз. Это был он.
Он засмеялся:
— Есть две одинаково глупые фразы. «Я думал, что мы не встретимся никогда». Или: «Я знал, что мы обязательно встретимся». Рад видеть!
Мы обнялись и первый раз в жизни поцеловались.
А вот я знал, что мы встретимся.
Потому что первый раз мы встретились в тринадцатом году.
В этом самом кафе. В кафе «Версаль».
Я прекрасно помню, как подошел к стойке, спросил кофе и две булочки, выбрал столик у окна, сел. Буфетчик возился с кофейной мельницей. Я положил на стол газету, достал из кармана футляр с трубкой, спички и жестяную коробочку табаку. Набил, зажег спичку, но раздумал курить — немного побаливал желудок, а курить натощак нездорово. Впрочем, кофе натощак пить нездорово тоже, но я решил сначала съесть одну булку и даже запить ее водою — и крикнул официанту, чтоб он принес мне еще стакан воды. Погасил спичку, помотав ею в воздухе — я всегда так гашу спички. Сломал ее и кинул в пепельницу. Я часто переламываю пальцами погасшую спичку — должно быть, оттого, что правая рука у меня слаба от болезни или от природы, от природной болезни, так сказать. Пальцы у меня слабы, и мне хочется хоть иногда хоть что-то слабыми своими пальцами сломать, вообразить себя сильным на мгновение. Итак, я бросил сломанную спичку в пепельницу и почувствовал, что мне надо по малому делу. Я несколько секунд колебался, потому что по малому делу мне хотелось не так уж сильно, можно было сначала съесть булочку с водою, потом выпить кофе со второй булочкой, потом спокойно выкурить трубку и уже на прощание сходить в клозет, и это было бы тоже неплохо. Но я решил сходить в клозет перед кофе и булочкой — чтобы получить от этого венского завтрака полнейшее удовольствие, не омраченное даже легчайшим тревожным позывом. Эмигранты — народ небогатый, поэтому приходится экономить и рассчитывать все, включая простейший телесный комфорт.
Рассудив таким образом, я заткнул набитую трубку свернутым из бумажной салфетки шариком, чтоб не высыпался табак. Положил трубку обратно в футляр, защелкнул, положил в карман, а жестяную табакерку, спички и газету оставил. Спросил у буфетчика про клозет, и он тут же выдал мне пакетик порошкового мыла и маленькое вафельное полотенчико.
— Сколько? — спросил я.
— Клиентам бесплатно, — сказал он.
Прекрасно!
Я долго мыл руки и даже сполоснул лицо перед небольшим зеркалом, по бокам которого были матово вырезаны всегдашние венские плакучие ирисы.
Вытерев руки, я бросил полотенце в специальную корзинку сбоку раковины и вернулся в зал.
С неудовольствием я увидел, что за моим столиком кто-то сидит.
Не доходя до него шагов пяти, я остановился, заложил руки за пояс и покачался на каблуках. Потом кашлянул.
Он поднял голову и поглядел на меня с нарочитым равнодушием, он как будто делал вид, что меня не замечает, потом скосил глаза в сторону. Я рассмотрел его внимательно. Это был молодой человек, лет двадцати с небольшим, скорее худощавый. С широким носом и прыщеватым лбом, с черными волосами, которые спускались на лоб, со злыми губами. Глаза же его, большие и темные, были выразительны и, пожалуй, даже красивы — они делали его заурядное и нечистое — в самом прямом смысле нечистое лицо, пойти бы ему сейчас и умыться — глаза делали его лицо притягательным и значительным. Щеки его ввалились, шея была цыплячья, но ее окружал почти свежий белый воротничок с бархатным шнурком. Он барабанил по столу пальцами. Руки его были удивительно хороши.
Почему-то они напомнили мне руки моего отца, хотя похожего ничего не было. У отца были корявые ручищи с разбитыми, вечно черными ногтями, руки рабочего, мастерового, сапожника — отец и был сапожником, у него руки пахли дегтем и ржавчиной, кожей и клеем — но я любил руки отца, любил прижиматься к ним лбом, когда отец, выпив стакан вина после обеда и выйдя посидеть наружу, вдруг неожиданно задремывал, откинувшись затылком на деревянную стену нашего домика, чуть сползши со стула, сложив руки на животе, а я, тайком приблизившись, играл его руками, целовал и нюхал их, и не было лучше сына в те мгновения, о которых мой бедный папаша так и не узнал, наверное. Один раз, правда, я попробовал ему трезвому руку поцеловать, но он меня грубо и даже испуганно шуганул.
При чем тут отцовские руки? Да ни при чем, просто у этого молодого человека были очень красивые руки, и они мне тоже понравились, как в детстве нравились совсем другие руки моего отца. Даже сердце занялось на полсекунды. А у этого, наверное, пальцы пахли дешевым одеколоном, в лучшем случае.
И вообще он был похож на венского подонка, кокаиниста и урнинга, какие во множестве шлялись по здешним переулкам. Особенно черные усы. Черные плебейско-негодяйские усики, как у Шарло из комических фильмов. Впрочем, он мог быть и художником. Хотя художник, подонок — какая разница…
— Что вы на меня глядите так? — прервал он молчание.
— Этот столик занят, — сказал я.
Он молчал.
— Столик занят, — повторил я.
— Простите? — сказал он.
— Вы понимаете по-немецки? — спросил я. Разговор велся по-немецки, разумеется.
— Понимаю, — сказал он после паузы. — Понимаю также, что немецкий язык для вас неродной. Вы иностранец? Турист? Эмигрант?
— Какое это имеет значение? — возмутился я. — Я нахожусь в Вене на законных основаниях.
— Отлично, — сказал он. — Итак, что вам угодно?
— Это мой столик.
— У вас есть собственность на столики в этом кафе? — усмехнулся он.
— При чем тут собственность? Вы же видите — здесь лежит газета, спички и табак. Ясно, что кто-то уже сидит за этим столиком. Маленькому ребенку ясно, тупому мужику-крестьянину ясно!
— я почему-то стал распаляться. — Любому ясно, что столик занят! — я перевел дыхание, постарался успокоиться, ввести себя в рамки, хотя мне это трудно далось, обычно меня выводят из себя вот такие мелочи и вот такое непробиваемое хамство.
— Я не маленький ребенок и не мужик-крестьянин, как вы изволите видеть, — расхохотался он. — Должно быть, поэтому я так непонятлив.
— Послушайте, милый молодой человек. Здесь, в этом кафе, кроме нас с вами, нет ни одного посетителя. Смотрите, здесь еще, — я обернулся, — здесь еще шесть столиков. Вот, например, этот замечательный удобный стол, с двумя диванчиками, чем он вас не устраивает? Почему надо было непременно садиться за стол, где лежит чужая газета? Чужой табак и чужие спички?
— Я просто давно хожу в это кафе, — сказал он. — И привык сидеть у окна.
— Хорошо, — сказал я. — Отлично. Прекрасно. Не драться же мне с вами из-за таких глупостей. Пожалуйста. Сидите, любуйтесь пейзажем!
Я рукою указал на окно, где виднелся угол стены и кусок мостовой, взял свои пожитки и перенес за другой стол — за тот, с двумя диванчикам.
— Господин кельнер, — сказал я буфетчику, — я пересел вот сюда. Скоро ли мой кофе, моя вода и мои булочки? Воду с булочками сначала, кофе немного погодя.
— Момент, — сказал буфетчик. — Один момент.
Я вытащил из кармана футляр, вынул из него трубку, выковырял из нее крохотный бумажный кляп. Захотел сразу закурить, что называется, от нервов. Но снова вспомнил, что с утра у меня ничего в желудке не было. Курить натощак вредно, сколько раз самому себе повторять. Поэтому я пристроил трубку в пепельнице, подперев ее спичечной коробкой.
Молодой человек подошел к моему столику.
— Да, — сказал он. — Вы правы. Этот столик гораздо уютнее. И сидеть мягче.
И сел напротив меня, как раз в тот момент, когда кельнер принес большой стакан воды.
Он тотчас же схватил стакан и сделал несколько глотков. Он пил воду, как молоко или как бульон — казалось, он ее не просто пьет, а насыщается ею.
— Что вы на меня смотрите? — сказал он, отирая воду с усов. — Я заказал себе стакан воды, да, я себе заказал воду. Мне так кажется.
Мне показалось, что он готов заплакать.
Кельнер принес булочки.
— Еще четыре булочки, пожалуйста, — сказал я. — Еще кофе со сливками и стакан воды.
— Только не надо меня подкармливать, — сказал молодой человек. — Спасибо, впрочем. Но подкармливать не надо. Мы съедим все булки пополам. Две да четыре будет шесть, поделить на два, итого по три на брата. Особенное спасибо за кофе со сливками. Да, мы не познакомились. Он похлопал себя по карманам. — К сожалению, я забыл свои визитные карточки, вот ведь какая досада.
— Ничего, — сказал я.
Он приподнялся и с поклоном протянул мне руку.
— Адольф Гитлер, — сказал он.
— Йозеф Сталин, — сказал я и сильно закашлялся, как раз на слове Сталин. Так бывает, если долго не закуривать с утра. Утренний кашель курильщика. А может, от внутренней неловкости. Потому что я назвал ему свой псевдоним, который придумал буквально месяц назад. Псевдоним, которым собирался подписать свою еще не до конца написанную брошюру о национализме. Потому что Джугашвили было бы для паренька чересчур. А остальные мне уже разонравились. Иванович? Или Чижиков? Смешно. Я продолжал кашлять.
— Выпейте воды, — сказал он.
— Да, да, — я глотнул из стакана.
— Итальянец? — спросил он.
Возможно, ему послышалось Талини, или что-то в этом роде. Возможно, так оно и было, потому что я закашлялся, произнося свое новое имя.