Заза Бурчуладзе. Надувной ангел. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. — 144 с.
Новый роман современного грузинского прозаика Зазы Бурчуладзе, автора книг «Минеральный джаз» и «Adibas», продолжает выбранную автором нереалистическую стратегию письма. В этом галлюцинаторном мареве перемешаны сны и кадры из турецких
фильмов, дух Гурджиева покупает на Ширакском рынке мясо с костью,
а братья Фуко, монахи-акробаты из Капошвара, готовят великолепный
гуляш. Единственной незыблемой реальностью остаются голос автора и
его сложносочиненные отношения с Тбилиси и родной страной.
Ночной сеанс
В общение с духами мало кто верит, но их вызывают
снова и снова. Нино и Нико Горозии тоже не верили,
что им удастся войти в контакт с духом Георгия Гурджиева. Такие духи — все равно что голливудские звезды,
связаться с ними совершенно нереально.
Горозии сомневались, что у них что-то получится.
И все-таки погасили свет на кухне, выложили на стол
большой квадратный лист ватмана с нарисованным на
нем кругом, в который фломастером были старательно
вписаны буквы грузинского алфавита, а под кругом приписано «да — нет». На перевернутой тарелке тем же фломастером нарисована стрелка. На блюдечке в красный
горошек горела короткая толстая свечка, оранжевое пламя
которой выхватывало из темноты лишь ватман, тарелку
со стрелкой, выложенные на стол руки супругов и их лица.
Настенные часы показывали первый час ночи, но этого
не было видно в темноте. В раковине высилась гора немытой посуды. Пламя свечки туда тоже не дотягивалось.
В чашке с отломанной ручкой в остатках кофе с молоком
плавала дохлая муха. Запах в комнате стоял тяжелый —
смесь никотина, геля для мытья посуды и псины. В стоящем у стены кресле спал Фуко — белый бультерьер с розовой
мордой, размером почти что с кабана. От соседей доносились звуки телевизора. Где-то смотрели «Профиль«1: пригласили, видимо, какого-то остроумного гостя — зал то и
дело смеялся и старательно аплодировал.
Нино выглядела гораздо моложе своих лет, хотя никто
точно не знал, сколько ей было. Она работала мелкой
служащей в мэрии Тбилиси. Слегка сдувшаяся грудь,
большие голубые глаза, хорошая осанка, отсутствие целлюлита — миниатюрная женщина в стиле Барби. Никто
бы не смог сразу определить, что за ее добродушным
лицом и слегка меланхоличным взглядом укрыты твердая воля и железный характер.
Нико тоже не был богатырем. Впрочем, в отличие
от Нино, в его пропорциях ощущалось что-то невыносимое и даже неполиткорректное. Со своими пухлыми
щеками, округлыми губами и потухшими глазами он
походил на депрессивного психопата. Характер у него
такой мягкий, что хоть веревки вей.
В ту ночь на Нино были джинсовые шорты и белая,
почти прозрачная футболка, а на ногах резиновые
тапочки. Она только что вышла из ванной, и её короткие
растрепанные волосы еще не высохли. Запах шампуня
слегка оживлял тяжелый воздух в комнате. Она была без
лифчика: крепкие соски выпирали через футболку. Слегка
возбужденная, она хотела, чтобы Нико засунул руку под
футболку и потрогал ее за сосок… Но больше ничего.
А Нико смотрел на тарелку со стрелкой и думал о
лежавшем в холодильнике эклере, к которому не смел
притронуться. Вот уже неделю он не ел после шести
часов вечера и страшно мучился. На самом деле избыточный вес особо его не беспокоил — эта диета была скорее навязчивой идеей, чем необходимостью.
Мысль устроить спиритический сеанс появилась у Нины, когда она сидела на работе, убивая время в интернете. Нико ничего против этой затеи не имел. Разве ж
пойдешь против собственной жены? Тем более когда она
решила войти в контакт с покойниками.
Он всего лишь спросил:
— А почему именно с Гурджиевым? — а в душе добавил: «А не, скажем… скажем…» Хотел назвать другого,
более авторитетного покойника, но никого с ходу не
вспомнил. Кроме разве что попугая, который был у него
в детстве. Однажды утром, сняв ткань с клетки, Нико
увидел дохлую птичку. Она валялась на дне клетки и
была еще теплая. Когда он взял малюсенький труп попугайчика в руки, его головка упала набок.
— Как это почему, — Нино сделала паузу, — если что,
хоть по-грузински с ним сможем поговорить.
Дело в том, что Горозии толком не знали ни одного
иностранного языка. В самом крайнем случае Нино
могла бы припомнить несколько немецких слов, а
Нико — английских, еще меньше. К тому же Нино
настолько мало знала о Гурджиеве, что считала его
если не грузином, то, по крайней мере, родившимся
в Грузии. Нико, сомневавшийся в существовании языкового
барьера с духами, в глубине души согласился с женой.
В их отношениях было что-то такое, что существует
между матерью и сыном.
Когда-то Нико считался перспективным режиссером.
Сняв в двадцать лет студенческий короткометражный
фильм, он быстро оказался в центре внимания узкого, но
нужного круга. Тогда многие заговорили о его интуиции
и остром глазе. Все было вроде впереди у молодого человека: короткие романы с отчаянными домохозяйками,
длинный шарф вокруг шеи и бурный образ жизни. Все
кончилось, когда он познакомился с Нино. С ней Нико
быстро сдулся и размягчился. А видеокамеру как-то
непроизвольно сменил на фотоаппарат. За последние
три года даже в нескольких совместных выставках участвовал, хотя стало заметно, что его острый глаз уже притупился. Черно-белые портреты и пейзажи другие тоже
умели снимать. Причем гораздо лучше. Что Нико и
сам видел, но особо по данному поводу не переживал.
Поэтому его фотоаппарат теперь чаще лежал на полке
рядом с компакт-дисками и книгами. А интуиции сейчас
хватало только на то, чтобы не сморозить чего-нибудь
такого, что не понравится Нино. В конце концов, он уже
давно жил за ее счет. Так что, будучи рядом с женой,
Нико иногда говорил не то, что сам хотел сказать, а то,
чего от него ждали (как он сам считал).
«Мало ли что», — подумал в ту ночь Нико, выбросил
наконец из головы дохлого попугая и сказал:
— Пусть будет Гурджиев, — пожал плечами и почему-то добавил: — Посмотрим.
Учитель танцев
Нино не ожидала, что что-то получится, даже когда
повела тарелку со стрелкой по кругу над пламенем
свечки и положила на картон. В Исландии как раз начиналось извержение вулкана Эйяфьядлайокудль, когда
в Тбилиси Горозии прикоснулись к тарелке и закрыли
глаза. Нино больше шептала, чем говорила из сердца:
«Гурджиев, иди к нам!.. Гурджиев, иди к нам!..»
Когда тарелка сначала завибрировала, затем резко
замерла, а в прихожей что-то затрещало и зашуршало,
Нино тотчас замолчала. Выпучив глаза, Горозии уставились друг на друга. Фуко вскочил, навострил уши.
В прихожей вновь что-то зашуршало. Фуко спрыгнул с
кресла, напряженный, с рычанием двинулся в сторону
входной двери. Короткие мускулистые лапы пес слегка
разводил в стороны, как большая ящерица. Нино сжала
руку Нико. Фуко вышел в прихожую.
Там отчетливо кашлянули. Фуко вдруг перестал
рычать. Из темноты доносились звуки неясной возни.
Нино еще крепче сжала ладонь Нико. А тот ничего
лучше не придумал, чем шепотом позвать в темноте:
— Фуко! — слегка повысил голос, — Фуко!
— Здесь, — ответили из прихожей.
У Нино расширились глаза, волосы на спине встали
дыбом. Как у каждой грузинки, у Нино росло немного
волос вдоль позвоночника.
— Кто там? — почему-то шепотом спросил Нико.
Из темноты выдвинулся среднего роста и дряблого
телосложения старик, чем-то походивший на тюленя.
Даже в тусклом свете свечки было ясно, что он подслеповат. У него были большие выпученные глаза и мягкий
старческий подбородок. Густые белые усы с торчащими
кончиками росли будто прямо из ноздрей. Потрепанный черный пиджак нараспашку, между карманом
черного атласного жилета и пуговицей — цепочка от
золотых часов. На ногах плосконосые запыленные штиблеты. А на голове смушковая черная папаха — некая
смесь суфийского таджа и пионерской пилотки. Фуко
пристроился рядом, помахивая хвостом.
— Я Гурджиев, — начал мужчина прямо из прихожей.
В конце он чуть зашепелявил, так что Нино не расслышала — Гурджиев или Доржиев. При виде старика
Нико встал:
— Прошу вас, господин…
— Зовите меня Гурджи2, — помог старик. Разговаривал он странно, будто бы еле сдерживая улыбку.
— Гурджи? — повторил Нико.
— Впрочем, — старик протянул Нико руку, — имя
Раймонд мне тоже нравится.
Фуко глухо тявкнул, вроде
как кашлянул, потребовав внимания.
— Раймонд? — спросил Нико, машинально пожимая
гостю руку.
Фуко встал на задние лапы, передними уперся в старика, чуть не свалив его с ног. Тот потрепал пса по
голове, почесал за ухом.
— Пусть будет Гурджи, — сказал он с улыбкой, —
только без господина!
Нико не понял, шутит гость или говорит серьезно.
— Салам алейкум! — Старик пожал Нино руку. —
Учитель танцев Георгий Гурджиев.
Гурджиев на секунду посмотрел Нино в глаза. А она
сразу ощутила между ногами легкое покалывание, по
всему телу прошел озноб. Это было подобно гипнозу —
одновременно приятно и опасно.
Нино, несмотря на растерянность, отметила, какая
теплая и мягкая рука была у гостя.
Перед тем как старик убрал руку, Нино заметила на
его среднем пальце кольцо с выгравированными фигурами разных животных. Это была тонкая ювелирная
работа. Даже в неверном свете свечи каждая деталь виднелась четко, как на аверсе свежеотчеканенной монеты.
На серебряном кругу друг за другом выстроились маленький человечек с птичьей головой, двуглавый орел, стоящий на одной ноге журавль, обыкновенный петух…
Лишь одна птичка повторялась три раза подряд. Как
многоточие. У птички было крупное тело, маленькая
головка и крючковатый клюв.
Гость уловил направление взгляда Нино.
— Это андийский кондор, — сказал он и скупо поклонился Нино, — честь имею.
Нико заметил, что гость улыбнулся в усы, завидев
тарелку со стрелкой. Также отметил легкий и приятный
акцент, с которым старик говорил по-грузински. Очевидно, Нино была права — надо было вызывать именно
Гурджиева.
— Чаю не желаете? — Нино встала со стула.
«Эклер еще есть», — подумал Нико про себя.
— Не успеем, — гость достал из кармана жилета часы,
посмотрел на них, — очень извиняюсь. Сейчас должен
быть совершенно в другом месте… не знаю, как сюда
попал, — и вытянул нижнюю губу. — Видимо, что-то не
так пошло.
На кухне воцарилась неловкая тишина. Нико отвел
взгляд от старика — сначала посмотрел на Нино, затем
на Фуко, на холодильник и снова на Нино.
— Сейчас исчезну, — деловито сказал гость и начал
считать: — Пять… четыре… — Горозии уставились на
старика. — Три… два… один…
И действительно, эффектно досчитав, Гурджиев
всколыхнулся, как некачественное изображение на телеэкране, но не исчез. Лишь в животе у него щелкнуло, из
ушей струей вырвалась черная сажа и запахло жженой
резиной. Фуко удивленно и сдавленно тявкнул. Гость посмотрел на часы, потряс ими, приложил к уху, снова посмотрел на них.
— Что случилось? — спросила Нино.
— Не знаю, — гость непроизвольно рыгнул, выпустив
остаток сажи изо рта, как дым сигареты. Снова пахнуло
жженой резиной.
На кухне воцарилась неловкая пауза. Гость казался
растерянным.
— Могу чем-нибудь вам помочь? — Нико придвинул
стул. — Садитесь.
— Не знаю, голубчик, не думаю… — Старик машинально присел. — Главное, не поддаваться панике. —
Было видно, что он обращается к себе, а не к Горозиям. —
Побеседуем, и исчезну, когда исчезнется.
1 Аналог российской передачи «Пусть говорят». (Здесь и далее прим. пер.)
2 Слово «Гурджи» представляет собой застывшую форму прозвища,
которое восходит к тюркскому слову «гурджи», что значит «грузин».


 «История старой квартиры» – настоящий хит ярмарки «Нон-фикшн», абсолютный фаворит среди покупателей и, как говорится, must have. Книга продолжает очень актуальную в детской литературе последних лет тему – тему осмысления отечественной истории ХХ века, говорить о которой еще совсем недавно было принято либо хорошо, либо никак. После того, как «Сахарный ребенок» Ольги Громовой прорвал плотину молчания, следом потекли книги Юлии Яковлевой, «Сталинский нос» Евгения Ельчина и переиздания автобиографических повестей Маши Рольникайте и Марьяны Козыревой. «История старой квартиры» дополняет этот достойный ряд по-новому – это книжка-картинка, рассказывающая историю века через историю одной московской квартиры. Семья Муромцевых въехала в нее в 1902-м, пережила в ней Первую мировую, революцию, уплотнение, аресты 1937-го, еще одну войну, смерть Сталина, оттепель, перестройку, путч – ровно век: перемен, смертей, сыпняка, голода, подвигов, идей, страха. По книжке можно не только проследить судьбу каждого члена этой семьи, их родственников и слуг, но и подробно познакомиться с предметами быта того времени. Нарисована старая квартира молодой художницей Аней Десницкой, автором иллюстраций к книгам «Метро на земле и под землей» и «Два трамвая».
«История старой квартиры» – настоящий хит ярмарки «Нон-фикшн», абсолютный фаворит среди покупателей и, как говорится, must have. Книга продолжает очень актуальную в детской литературе последних лет тему – тему осмысления отечественной истории ХХ века, говорить о которой еще совсем недавно было принято либо хорошо, либо никак. После того, как «Сахарный ребенок» Ольги Громовой прорвал плотину молчания, следом потекли книги Юлии Яковлевой, «Сталинский нос» Евгения Ельчина и переиздания автобиографических повестей Маши Рольникайте и Марьяны Козыревой. «История старой квартиры» дополняет этот достойный ряд по-новому – это книжка-картинка, рассказывающая историю века через историю одной московской квартиры. Семья Муромцевых въехала в нее в 1902-м, пережила в ней Первую мировую, революцию, уплотнение, аресты 1937-го, еще одну войну, смерть Сталина, оттепель, перестройку, путч – ровно век: перемен, смертей, сыпняка, голода, подвигов, идей, страха. По книжке можно не только проследить судьбу каждого члена этой семьи, их родственников и слуг, но и подробно познакомиться с предметами быта того времени. Нарисована старая квартира молодой художницей Аней Десницкой, автором иллюстраций к книгам «Метро на земле и под землей» и «Два трамвая». «Звездная ночь Ван Гога» – это полноценная энциклопедия истории искусств, которая охватывает период от наскальной живописи из пещеры Шове и гробницы Тутанхамона до работ Луиз Буржуа и Ай Вэйвэя. Ее автор Майкл Берд — английский искусствовед, критик, писатель, поэт и журналист, автор статей для The Times, The Guardian и серии популярных программ об искусстве на канале BBC. Для этой книги Берд написал около восьмидесяти эссе о художниках и произведениях искусства. Он говорит от лица римского мастера, подданного императрицы Ливии, заглядывает через плечо Фидия, вещает из мастерской Джексона Поллока и со строительной площадки Ангкор Вата. Берд перевоплощается легко, его носит по странам и континентам, с ним некогда скучать. Мраморные глыбы, мозаика, бронза, масло, фотобумага, витражное стекло. Древний Египет, Китай, СССР, Франция, Австралия. Берд стирает границы, чтобы донести до читателя простую мысль: «Искусство – везде».
«Звездная ночь Ван Гога» – это полноценная энциклопедия истории искусств, которая охватывает период от наскальной живописи из пещеры Шове и гробницы Тутанхамона до работ Луиз Буржуа и Ай Вэйвэя. Ее автор Майкл Берд — английский искусствовед, критик, писатель, поэт и журналист, автор статей для The Times, The Guardian и серии популярных программ об искусстве на канале BBC. Для этой книги Берд написал около восьмидесяти эссе о художниках и произведениях искусства. Он говорит от лица римского мастера, подданного императрицы Ливии, заглядывает через плечо Фидия, вещает из мастерской Джексона Поллока и со строительной площадки Ангкор Вата. Берд перевоплощается легко, его носит по странам и континентам, с ним некогда скучать. Мраморные глыбы, мозаика, бронза, масло, фотобумага, витражное стекло. Древний Египет, Китай, СССР, Франция, Австралия. Берд стирает границы, чтобы донести до читателя простую мысль: «Искусство – везде». «Книга, где все вертится вокруг одного медного шара» – таков полный заголовок издания, рассказывающего историю мореплавания на примере одного экспоната Государственного Исторического музея. Экспонат этот – глобус-гигант, который был изготовлен в конце XVII века наследниками известного
«Книга, где все вертится вокруг одного медного шара» – таков полный заголовок издания, рассказывающего историю мореплавания на примере одного экспоната Государственного Исторического музея. Экспонат этот – глобус-гигант, который был изготовлен в конце XVII века наследниками известного  Карл Фаберже – гениальный русский ювелир, чье имя давно стало нарицательным. Именно он придумал знаменитые пасхальные яйца с секретом, завоевал весь мир и стал настоящим законодателем ювелирной моды. Книга создана издательством «Арт-Волхонка» совместно с культурно-историческим фондом «Связь времен» и музеем Карла Фаберже, открытым в Санкт-Петербурге в 2013 году. В ней рассказывается о том, как сын немецкого ремесленника превратился в поставщика императорского двора и личного ювелира Александра III, как в подвале на Большой Морской родилась целая империя с железной дисциплиной и безукоризненной организацией и, наконец, о том, как волшебные яйца и другие бибелоты разошлись по всему миру и стали предметом страсти королей и охоты коллекционеров. Книга продолжает блестящую научно-популярную серию издательства, начатую в прошлом году томами «Что придумал Ле Корбюзье» и «Что придумал Шухов».
Карл Фаберже – гениальный русский ювелир, чье имя давно стало нарицательным. Именно он придумал знаменитые пасхальные яйца с секретом, завоевал весь мир и стал настоящим законодателем ювелирной моды. Книга создана издательством «Арт-Волхонка» совместно с культурно-историческим фондом «Связь времен» и музеем Карла Фаберже, открытым в Санкт-Петербурге в 2013 году. В ней рассказывается о том, как сын немецкого ремесленника превратился в поставщика императорского двора и личного ювелира Александра III, как в подвале на Большой Морской родилась целая империя с железной дисциплиной и безукоризненной организацией и, наконец, о том, как волшебные яйца и другие бибелоты разошлись по всему миру и стали предметом страсти королей и охоты коллекционеров. Книга продолжает блестящую научно-популярную серию издательства, начатую в прошлом году томами «Что придумал Ле Корбюзье» и «Что придумал Шухов». От крещения Руси до конца ХХ столетия: тысячелетняя отечественная история представлена в картах, пиктограммах и портретах и написана, пожалуй, самым известным учителем истории в России, звездой лектория «Прямая речь» Тамарой Натановной Эйдельман. Каждый разворот этой необычной книги-атласа – это один век истории нашей страны и ее соседей от Уральских гор до Атлантического океана. Вот первое тысячелетие нашей эры: в Риме стоит Колизей, в Константинополе – Святая София, поляне тянут за собой деревянный плуг, вокруг ельник. Вот XVI век: в Лондоне – Шекспир, в Нюрнберге – Дюрер, в русском государстве горит Новгород, вокруг ельник. Век XVII: в Италии – Галилео Галилей, в Германии – Иоганн Кеплер, в Пелиме, Нариме, Сургуте и Тобольске мужики держат бревна, вокруг ельник. Пройдет триста лет и ельник густо покроется лагерными вышками. История в картах оказалась наглядной до жестокости, и в этом особенность формата, который будет интересен и детям и родителям.
От крещения Руси до конца ХХ столетия: тысячелетняя отечественная история представлена в картах, пиктограммах и портретах и написана, пожалуй, самым известным учителем истории в России, звездой лектория «Прямая речь» Тамарой Натановной Эйдельман. Каждый разворот этой необычной книги-атласа – это один век истории нашей страны и ее соседей от Уральских гор до Атлантического океана. Вот первое тысячелетие нашей эры: в Риме стоит Колизей, в Константинополе – Святая София, поляне тянут за собой деревянный плуг, вокруг ельник. Вот XVI век: в Лондоне – Шекспир, в Нюрнберге – Дюрер, в русском государстве горит Новгород, вокруг ельник. Век XVII: в Италии – Галилео Галилей, в Германии – Иоганн Кеплер, в Пелиме, Нариме, Сургуте и Тобольске мужики держат бревна, вокруг ельник. Пройдет триста лет и ельник густо покроется лагерными вышками. История в картах оказалась наглядной до жестокости, и в этом особенность формата, который будет интересен и детям и родителям.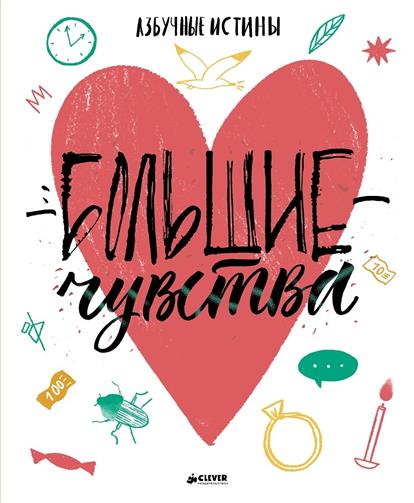 «Большие чувства» – это продолжение прошлогоднего сборника статей «Азбучные истины» под редакцией писателя, переводчика и филолога Марии Голованивской. На этот раз темой эссе стала широкая палитра человеческих чувств от «А» (апатии), до «Я» (ярости) с остановкой на каждой из тридцати трех букв русского алфавита. Авторы эссе – флагманы современной отечественной мысли и слова: Сергей Гандлевский, Ольга Седакова, Сергей Юрский, Людмила Улицкая и другие маститые авторы. Эссе написаны очень неравномерно: какие-то предназначены для детского чтения, сквозь другие не продраться без помощи взрослого, но от этого ценность сборника ничуть не умаляется. Книга прекрасно иллюстрирована Хадией Улумбековой.
«Большие чувства» – это продолжение прошлогоднего сборника статей «Азбучные истины» под редакцией писателя, переводчика и филолога Марии Голованивской. На этот раз темой эссе стала широкая палитра человеческих чувств от «А» (апатии), до «Я» (ярости) с остановкой на каждой из тридцати трех букв русского алфавита. Авторы эссе – флагманы современной отечественной мысли и слова: Сергей Гандлевский, Ольга Седакова, Сергей Юрский, Людмила Улицкая и другие маститые авторы. Эссе написаны очень неравномерно: какие-то предназначены для детского чтения, сквозь другие не продраться без помощи взрослого, но от этого ценность сборника ничуть не умаляется. Книга прекрасно иллюстрирована Хадией Улумбековой. «В поисках волшебных книг» – четвертая часть серии искусствоведа, художника и педагога Светланы Прудовской «История книги своими руками». Вся ее книга – незаменимый материал для тематических бесед, творческих занятий и домашнего чтения-смотрения с детьми. Прудовская подробно, дельно и находчиво разбирает саму идею книги: знаков-букв-письменности, образов-иллюстраций, ее механику и смысл. Последняя часть серии рассказывает о магической природе книг: от эфиопских кожаных свитков, книжек-гармошек мексиканских шаманов и средневековых манускриптов до современного поп-апа. Попутно она учит вырезать печати из моркови, и снежинки из бумаги, придумывать шифры и вертеть бумажные бусины. Будьте готовы к тому, что читать эту книгу придется с карандашами и ножницами в руках.
«В поисках волшебных книг» – четвертая часть серии искусствоведа, художника и педагога Светланы Прудовской «История книги своими руками». Вся ее книга – незаменимый материал для тематических бесед, творческих занятий и домашнего чтения-смотрения с детьми. Прудовская подробно, дельно и находчиво разбирает саму идею книги: знаков-букв-письменности, образов-иллюстраций, ее механику и смысл. Последняя часть серии рассказывает о магической природе книг: от эфиопских кожаных свитков, книжек-гармошек мексиканских шаманов и средневековых манускриптов до современного поп-апа. Попутно она учит вырезать печати из моркови, и снежинки из бумаги, придумывать шифры и вертеть бумажные бусины. Будьте готовы к тому, что читать эту книгу придется с карандашами и ножницами в руках. «Призрак Карла Маркса» – одна из серии книг о философии для детей, придуманной издательством «Ад Маргинем» совместно с Музеем современного искусства «Гараж». Герои этих книг: Сократ, Кант, Людвиг Витгенштейн и Ханна Арендт – нерушимые столпы философской мысли. Их идеи в художественной форме изложены для детей возраста 6+. Например Карл Маркс, являясь маленькому читателю в виде призрака (что бродит по Европе), повествует грустную историю восстания силезских ткачей, а заодно, объясняет такие понятия, как «капитал», «рынок», «пролетариат», «потребительская стоимость», «всеобщий эквивалент». Остроумная абсурдистская история заканчивается обещанием вернуться и призывом не забывать категорического императива.
«Призрак Карла Маркса» – одна из серии книг о философии для детей, придуманной издательством «Ад Маргинем» совместно с Музеем современного искусства «Гараж». Герои этих книг: Сократ, Кант, Людвиг Витгенштейн и Ханна Арендт – нерушимые столпы философской мысли. Их идеи в художественной форме изложены для детей возраста 6+. Например Карл Маркс, являясь маленькому читателю в виде призрака (что бродит по Европе), повествует грустную историю восстания силезских ткачей, а заодно, объясняет такие понятия, как «капитал», «рынок», «пролетариат», «потребительская стоимость», «всеобщий эквивалент». Остроумная абсурдистская история заканчивается обещанием вернуться и призывом не забывать категорического императива. Говорить об искусстве народов, чья культура, религия, мифология сильно отличается от западной, очень нелегко. Эта беседа требует серьезной теоретической базы. Тем временем мода на традиционное искусство все возрастает, оно вызывает большой интерес и вдохновляет кураторов на новые проекты. Эта книга поможет родителям овладеть необходимыми знаниями, для того чтобы объяснить любопытному сынишке, чем африканская маска отличается от североамериканской, куда подевались туловища от голов ольмеков, зачем народ мундуруку мумифицировали головы врагов и многие другие. Каждый из тридцати объектов, представленных в этой книге, снабжен вопросами-темами для обсуждения с детьми разных возрастов (от 5 до 13 лет), каждый поможет познакомиться с культурой эскимосов, индейцев, австралийских аборигенов. Эта книга станет прекрасным дополнением к предыдущим частям проекта: «Как говорить с детьми об искусстве» и «Как говорить с детьми об искусстве ХХ века».
Говорить об искусстве народов, чья культура, религия, мифология сильно отличается от западной, очень нелегко. Эта беседа требует серьезной теоретической базы. Тем временем мода на традиционное искусство все возрастает, оно вызывает большой интерес и вдохновляет кураторов на новые проекты. Эта книга поможет родителям овладеть необходимыми знаниями, для того чтобы объяснить любопытному сынишке, чем африканская маска отличается от североамериканской, куда подевались туловища от голов ольмеков, зачем народ мундуруку мумифицировали головы врагов и многие другие. Каждый из тридцати объектов, представленных в этой книге, снабжен вопросами-темами для обсуждения с детьми разных возрастов (от 5 до 13 лет), каждый поможет познакомиться с культурой эскимосов, индейцев, австралийских аборигенов. Эта книга станет прекрасным дополнением к предыдущим частям проекта: «Как говорить с детьми об искусстве» и «Как говорить с детьми об искусстве ХХ века».






