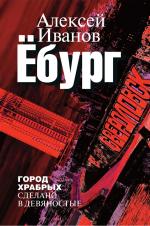Кирилл Рябов о себе: «Родился в Ленинграде. С 2013 пью на Нацбестах. Ворую книжки. Но потом, бывает, незаметно возвращаю. Ленив и раздражителен. Люблю хоккей». Его сборник рассказов «Сжигатель трупов» (2014) вошел в шорт-лист премии «Нацбест–начало», следующая книга «Клей» (2015) — в лонг-лист «Национального бестселлера».
Рассказ «Кровавый Новый год» приводится в авторской редакции.
КРОВАВЫЙ НОВЫЙ ГОД
Все вокруг рассказывают, как провели Новый год, расскажу и я.
Так вот.
Я смотрел фильм «Кровавый четверг». Фильм начинается со сцены в ночном магазине. Персонаж Арона Экхарта (это тот, что сыграл прокурора в Темном рыцаре) покупает стакан кофе. Перед этим он читает объявление на кофейном столике «Любой кофе за 69 центов, кекс в подарок». Его зовут Ник, и он немного похож на умственно отсталого. Мне сразу этот персонаж понравился. А с ним бабенка и бородач, вроде как его компаньоны. И как-то сразу понятно, что они все бандиты. В общем, Ник наливает себе огромный стаканюгу кофе и подходит к кассе. За кассой девица из Индии, и она говорит, что Ник должен доллар и восемь центов. Ник возмущается, и тычет пальцем в табличку, где написано, что любой кофе стоит 69, а кассирша объясняет, что это касается только стаканчиков с кофе 0,5, а он себе налил 0,7. Они спорят, Ник уже весь красный от злости, орет, а девица в ответ мерзопакостно и невозмутимо лыбится. Ник соглашается забашлять 1,8 и берет себе бесплатный кекс, но тут кассирша говорит, что кекс ему не положен, потому что, это касается только того кофе, что в стаканчиках по 0,5, а у него 0,7. Бородач и бабенка говорят Нику, типа, давай уже, бери свой сраный кофе и поехали. Но у Ника нет мелочи. То есть, у него было как раз 69 центов, а 1,8 у него нет. Он достает чемодан, набитый баблом, но там только крупные банкноты. А кассирша все так же стоит и лыбится. В общем, Ник находит купюру в 50 и сует ей. Она заявляет, что купюры достоинством больше 20 они не принимают. И вообще, что-то вы себя ведете подозрительно, надо вызвать полицию. Ник, бородач и бабенка достают пушки и палят в кассиршу из всех стволов. Через окровавленную витрину они видят, полицейскую машину. Ник тут же перепрыгивает прилавок и встает за кассу, натягивает голубой служебный халатик и делает вид, что он кассир. Быстро-быстро начинает счищать кровь какой-то шваброй. Только он заканчивает, как в магазин заходит полицейский, лысый негр. «Чем тут у вас воняет?» – спрашивает коп. Ник отвечает, что у них сломался холодильник. Коп берет себе стакан кофе 0,5. Бабенка и бородач с пушками спрятались за стеллажами. Все на нервах. Ник говорит копу, что кофе за счет заведения. Коп: «Ты уверен?» Ник: «Конечно, вы же, типа, делаете опасную работу, а я тут яйца мну». Коп уходит, довольный. Бабенка и бородач вылезают из укрытия, и все облегченно вздыхают. Но тут дверь открывается и коп возвращается со словами: «Я забыл свой бесплатный кекс». Его лицо вдруг меняется и он произносит классическую фразу из американских фильмов: «Что тут черт возьми происходит?» Мы видим, что из-под прилавка натекла лужа крови. Ник, бабенка и бородач вскидывают пушки и мочат копа.
Действие переносится в какой-то маленький город, где по всем улицам стоят красивые домики, посреди аккуратных лужаек. Утро. Главный герой готовит своей жене вегетарианский завтрак из какого-то соевого говна. Его зовут Кейси (героя, а не говно, само собой), и он такой сладенький красавчик. А перед этим ему позвонил тот самый Ник, видно, что они старые кореша и говорит, что заскочит в гости. И вот за завтраком этот Кейси объясняет жене, что его навестит друг. Жена вся деловая и немного стервозная, почему-то не очень довольна, хотя и собирается улетать на весь день в другой город. У нее какой-то бизнес. Они болтают, Кейси похож на зануду, и видно, что он жену слегка ********* уже. Короче, в отношениях сплошной лед. Жена сваливает, а спустя время приезжает Ник с двумя чемоданами. Кейси и сам не очень доволен, что тот явился в гости. И поминутно трындит, что с прошлым покончено. Ник просит одолжить ему тачку, чтобы смотаться по делам, а потом обещает, что скоро уедет, у него вечером самолет в Париж. Кейси дает ему ключи от машины и Ник уезжает, захватив только один чемодан. Проходит немного времени. Кейси замечает второй чемодан и вскрывает его. А чемодан весь забит героином. И тут у Кейси такой вид, что легко можно понять, что он думает: «Ах ты, ****, ведь с прошлым покончено, я теперь простой архитектор!» Он звонит Нику и орет: «Что героин делает в моем доме?» Ник в этом момент подъезжает к какому-то дому и при этом навинчивает на пистолет глушитель. Ник ему говорит, мол, пусть героин у тебя полежит, я скоро заберу его, и бросает трубку. Кейси хватает героин и смывает в раковину. С прошлым ведь покончено, да? Звонок в дверь. Пришел какой-то негр-растаман, достал пистолет и спрашивает у Кейси, где героин. А Кейси ему как на духу: «Героин я спустил в канализацию». Негр звонит кому-то по смешному мобильнику из девяностых и говорит, что героина нет. Ага, говорит, валить придурка? Направляет пушку на Кейси, но почему-то не стреляет. Кейси этим пользуется и просит дать ему покурить дури перед смертью. Потом они сидят вместе укруенные, и негр рассказывает, что он на самом деле певец, и скоро заключит договор с какой-то звукозаписывающей студией. А теперь, говорит, пора тебя убить. Опять наводит на Кейси пушку, опять почему-то медлит, и тут у него звонит смешной мобильник. Это как раз из звукозаписывающей компании. Негр начинает им что-то напевать по телефону, даже приплясывать, и Кейси его вырубает. Но убить рука не поднимается. С прошлым же покончено. Он оттаскивает негра в гараж, связывает и учиняет допрос. Опять звонок в дверь. Кейси оставляет негра и бежит смотреть, кто там пришел. В глазок мы видим плюгавого мужичка. Выясняется, что Кейси со стервозной женой хотели усыновить ребенка, а этот мужичок какой-то социолог, который должен провести беседу с потенциальными родителями и составить отчет. Кейси перед ним расшаркивается. Мужичок задает всякие вопросы, и при этом так паскудно себя ведет и вообще такой поганец, что будь тут Ник, он бы его сразу пристрелил. В этот момент в гараже негр устраивает много шума. Кейси убегает туда, и подвешивает его к потолку вниз головой. Только возвращается, как в дверь опять звонят. Он открывает…
Тут пришлось нажать на паузу, потому что мне позвонили и поздравили с Новым годом. Как раз было начало первого.
Он открывает, а там та бабенка, подруга Ника. Кейси пытается ее не пустить, чтобы ее социолог не увидел, но она нагло вваливается и садится прямо напротив него. А выглядит она очень шлюховато, так что этот социолог моментально начинает нервничать. Кейси на что-то отвлекается (я забыл, на что именно, вроде ему позвонил кто-то), а бабенка (ее зовут Даллас) рассказывает социологу, как снималась однажды в порнухе, где кто-то жарил ее в дымоход, а две лесбиянки лизали ей клитор. Социолог ерзает и прикрывает папкой ширинку. Но сам-то он хитрый, начинает ее расспрашивать про Кейси. Даллас ему рассказывает пару историй. В одной из этих историй Кейси с Ником застрелили целую банду негров и уволокли кучу денег и героина. Появляется сам Кейси и говорит, что готов продолжить собеседование, но социолог поспешно сваливает. Кейси кричит на Даллас, а она вдруг достает пушку и бьет его по голове.
Кейси приходит в себя, привязанным к стулу. Даллас расхаживает перед ним в своей коротеньком, красном платье и говорит, что Ник ее кинул на бабло и героин. А Кейси отвечает, что про бабло ничего не знает, а героин смыл в раковину. Ладно, говорит она, тогда я тебе убью, но сначала трахну. Нет, отвечает Кейси, я не изменяю жене, и с прошлым покончено. Даллас скидывает платье и начинает ему отсасывать. Тут, надо сказать, что озвучка фильма немного дурацкая. Например, Кейси говорит Даллас: «Ты зачем сюда явилась в своем резиновом платье?» А она отвечает: «Оно не резиновое, а красное». А оно, кстати, и резиновое и красное. Короче, белиберда какая-то. В общем, Даллас свое дело сделала, вскарабкалась на Кейси и давай его горбатить, а он весь надулся и покраснел, типа, хоть ты тресни, но я не кончу, я только в жену кончаю. Вдруг, бац! В лицо Кейси летят кровь и мозги, Даллас падает замертво, и мы видим бородача, дружка Ника, с дымящейся пушкой в руке. И он заводит ту же песню, что и Даллас: где бабло и героин? Кейси отвечает, что про бабло ничего не знает, а героин в канализации. Ладно, говорит бородач, тогда я дождусь Ника, а тебя буду пытать. А то скучно. Буду, говорит, резать тебя по кускам и прижигать, чтобы ты не умер от потери крови. Достает из сумки небольшую циркулярную пилу и газовую горелку. Но тут раздается вой сирены, приезжает полиция. Бородач испуганно бежит смотреть в окно. А Кейси тем временем освобождается от скотча и вооружается сковородкой. Но сам садится обратно на стул. Приходит бородач и говорит, что тупые копы приехали к соседям. Кейси охаживает его сковородой по голове, тащит в гараж и подвешивает рядом с негром. Перед этим он немного борется с собой, убить бородача или не убить. Но решает не убивать, потому что к прошлому возврата нет. А в прошлом он застрелил беременную негритянку, и это его немного мучает. Потом он возвращается в дом и начинает отмывать всю кровь и мозги, что там есть. Тут, кстати, ляп, потому что мертвое тело Даллас куда-то исчезло само по себе. Звонит Ник и говорит: «Прости, брат, что так вышло, блаблабла, у меня легаши на хвосте, это их я кинул на бабло и героин. Вали в Париж вместо меня». Тут мы видим, что Ник истекает кровью в телефонной будке.
Кейси, значит, отмывает кровь, а тут опять звонок в дверь. На пороге стоит Микки Рурк. Выглядит он очень круто. Не такой красавчик, как, например, в фильме «Сердце ангела» или «Пьянь», но и не такой страшила, как в «Железный человек-2». Что-то среднее, и ему это очень идёт. Он коп по фамилии Каракозов или Карамазов, что-то типа того (я еще подумал: о, круто, русский!). Он приехал на машине Кейси, которую тот давал Нику, и говорит, что Ник кинул его на бабло и героин, надо все вернуть, а тот вот что будет. И отдает Кейси голову Ника в мешке. Я вернусь, говорит, в семь часов, чтобы бабки были. И уходит, заглянув перед уходом в гараж и застрелив зачем-то подвешенных негра и бородача. А Кейси каким-то непонятным образом догадывается (хотя, наверное, понятным, просто я это упустил), что Ник спрятал бабло в запаску машины. Он вскрывает запаску, а там и правда куча денег, и еще коробочка с подарком. В коробочке золотой ролекс с трогательной надписью. Что-то вроде: будь собой, а то погибнешь. И Кейси думает, ладно, *** с ним, видать, придется вернуться к прошлому. Берет циркулярку и разделывает трупы на части, складывает в мешки, потом звонит по смешному мобильнику негра его боссам и говорит, чтобы они приезжали к семи часам в его дом за баблом и героином. И сваливает. В семь часов в дом Кейси приезжает Карамазов с парой автоматчиков, а за ним банда негров. Они все валят друг друга. Хотя это остается за кадром. Кейси приезжает в аэропорт и встречает жену. Она заинтригована видом зануды-мужа, потому что он ведет себя круто, и к тому же предлагает свалить в Париж. Они объясняются друг другу в любви и сваливают в Париж.
Конец фильма.
Фильм мне не понравился.