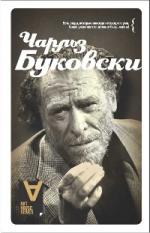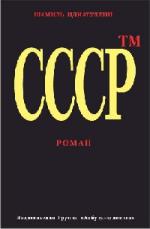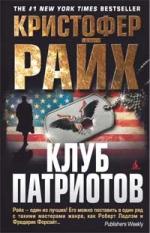Отрывок из книги «Чарльз Буковски. Интервью: Солнце, вот он я»
Когда пьешь, трудно писать прозу, потому что проза — это очень много работы. У меня так не получается. Когда пьешь, прозу писать слишком не романтично. А поэзия — это другое. У тебя в уме есть то, что хочешь уложить в строку — и чтобы она поражала. Когда пьян, становишься чутка театральным, чутка слезливым. Играет симфоническая музыка, а ты куришь сигару. Берешь пиво — и вот сейчас настучишь эти пять, шесть, пятнадцать или тридцать замечательных строк. Начинаешь пить и писать стихи ночь напролет. Утром находишь их на полу. Вычеркиваешь скверные строки — и у тебя уже стихи. Процентов шестьдесят строк плохи, но, когда склепываешь оставшиеся, выходит стихотворение. Я не всегда пишу пьяным. Я пишу трезвым, пьяным, когда мне хорошо и когда мне плохо. У меня нет особого поэтического состояния.
Я писал рассказы, в основном от руки печатными буквами, пока мне не исполнилось 25, после чего я все эти рассказы порвал и писать бросил. Отказы из «Атлантик» и «Харперз» были чересчур, вдруг стали как-то чересчур, все те же самые, скользкие, — а потом я брал эти журналы, пытался их читать — и тут же засыпал. Потом еще голод в клетушках с жирными крысами, которые топотали внутри, и набожными квартирными хозяйками, которые топотали снаружи, — наваждение какое-то, поэтому я шел сидеть в барах, гонял с мелкими поручениями, обирал пьяных, обирали меня, сходился с одной безумицей за другой, мне везло, не везло, я выкручивался, пока однажды, в 35, не оказался в благотворительной палате больницы округа Лос-Анджелес, у меня из жопы и рта хлестала кровь жизни моей, мне дали полежать 3 дня, а потом кто-то решил, что мне нужно переливание. В общем, я выжил, но, когда вышел оттуда, в мозгу у меня стало как-то криво, и после 10 лет неписания я где-то нашел машинку и начал писать эти стихи. Не знаю почему, просто казалось, что стихи — меньшая трата времени.
Я просираю время и деньги на бегах, потому что я чокнутый, — я надеюсь выиграть столько, чтобы уже не работать на скотобойнях, почтамтах, в доках, на фабриках. И что происходит? Я потерял те деньги, что у меня были, и еще крепче приколочен к креслу. «Буковски, — говорят некоторые, — тебе просто нравится проигрывать, тебе нравится страдать, нравится работать на бойнях». Да они чокнутее меня! Бега в каком-то смысле помогают — я там вижу лики алчности, гамбургерные рожи; вижу лица в начале грезы и вижу их потом, когда возвращается кошмар. Такое не часто встретишь. Это механика Жизни. А кроме того, коль скоро я столько времени провожу на бегах, у меня почти не остается времени писать, ОЧЕНЬ МАЛО ВРЕМЕНИ ИГРАТЬ В ПИСАТЕЛЯ. Это важно. Когда я пишу, я пишу строку, которую должен написать. Просадив недельное жалованье за четыре часа, очень трудно приходить к себе, встречаться с машинкой и фабриковать какое-нибудь говно в кружавчик. Но я по определению не рекомендую ипподром как инкубатор и вдохновитель поэзии. Я просто говорю, что это, наверное, помогает мне — иногда. Как пиво или как с хорошей женщиной потрахаться, как сигареты или как Малер под хорошее вино с выключенным светом, сидишь голышом и смотришь, как машины мимо едут. Моя рекомендация — держитесь подальше от ипподрома. Это одна из самых ловких ловушек для Человека.
Для меня творчество — просто реакция на существование. В каком-то смысле почти второй взгляд на жизнь. Что-то происходит, затем пробел, а затем, если ты писатель, перерабатываешь происшедшее в словах. Оно ничего не меняет и не объясняет, но в трансе работы на тебя находит нечто возвышенное — или теплота какая-то, или целительный процесс, или все три вместе, а может, и что-то еще бывает. Это ощущение удачи настигает меня довольно часто. И даже в совершенно вымышленной работе, в ультравыдумке все берется из жизни: ты что-то видел, тебе приснилось, ты что-то подумал или должен был подумать. Творчество — дьявольски изумительное чудо, пока происходит.
Большинство авторов вначале эдак вспыхивают с дерзостью, потом становятся знаменитыми и уже играют с опаской. Сначала — необузданные игроки, затем превращаются в практиков. Заканчивают преподавателями в университетах. Они пишут потому, что теперь они писатели, а не потому, что им хочется писать, не потому, что это единственное, чем они желают заниматься всегда и постоянно, на крючке, на кресте. Великолепно.
Я бы сказал, Микки-Маус больше повлиял на американскую публику, нежели Шекспир, Мильтон, Данте, Рабле, Шостакович, Ленин и/или Ван Гог. А это говорит нам про американскую публику «Че?». Диснейленд остается центральным развлечением в Южной Калифорнии, но наша реальность — по-прежнему кладбище.
Писателю, конечно, нужен опыт с женщинами. У меня это происходит крайне болезненно, поскольку я сентиментален и довольно сильно привязываюсь. Я не очень бабник, и если дама мне не поможет, почти ничего у нас с ней не бывает. Сейчас я не женат, у меня один ребенок, ей 6. Мне повезло, у меня было 4 периода долгих отношений с 4 необычайными женщинами. Все они относились ко мне лучше, чем я заслуживал, и на ложе любви были очень хороши. Прекрати я любить, ебаться хоть прямо сейчас — все равно мне и так уже, считай, повезло сильнее, чем большинству мужчин. Боги были добры, любовь — прекрасна, а боль — боль завозят товарными вагонами.
Насчет непристойности я вот что думаю: не надо давить. Пусть все будут непристойны сколько влезет, и тогда все рассосется. Те, кому надо, будут пользоваться. Так называемое зло получается, если что-то прячут, не пускают. Непристойность, как правило, очень скучна. Плохо сделана. Посмотрите на порнокинотеатры — все они на грани банкротства. Это же очень быстро произошло, нет? Цены сбросили с пяти долларов до сорока девяти центов, но даже за такие деньги никто не хочет это смотреть. Я ни разу не видел хорошего порнофильма. Все они скучные. Огромные горы плоти шевелятся: вот член; парень имеет трех баб. Скукотища. Господи, сколько мяса. Знаете, возбуждает, когда женщина в одежде, а парень сдирает с нее юбку. У этих киношников никакого воображения. Они не умеют возбуждать. Конечно, если б умели, они были бы художниками, а не порнографами.
Гомосексуалисты хрупкие, скверная поэзия тоже хрупкая, а Гинзберг перетянул чашу весов так, что гомосексуальная поэзия стала крепкой, почти мужской; но в конечном итоге гомик остается гомиком, а не поэтом.
Нет ничего дурного в поэзии, которая развлекает и которую легко понимать. Вполне возможно, что гениальность — это умение говорить что-то важное просто. Поэтому лучше не лезть в писательские мастерские, а разнюхивать, что творится за углом. И несчастьем для молодого поэта будут богатенький папа, ранняя женитьба, ранний успех или способность делать что-то хорошо.
Шекспир на меня вообще не действовал, за исключением отдельных строк. Советы давал полезные, но меня не тащило. Короли всюду бегают, тени отцов эти — все это говно верхней прослойки мне было скучно. Никакой связи со мной. Ко мне это не имело отношения. Я тут лежу в комнате, подыхаю с голоду, у меня шоколадный батончик и полбутылки вина, а этот парень мне рассказывает о том, как король мучится. Дождешься от них помощи, как же.
Я опасаюсь эдакой молотилки — когда что-то делаешь, а оно должно тебя как-то менять. Инстинктивно я заранее знаю, что никак не поменяет. Опять-таки у меня радар включается. Вовсе не обязательно залазить туда самому, если все равно знаешь, что там ничего нет. В юности я много ходил по библиотекам. Читать пробовал по-настоящему. Потом вдруг огляделся — а читать нечего. Я прошерстил всю обычную литературу, философию, всю кучу.
Потом решил отвлечься — пошел блуждать. Забрел в геологию. Даже изучал операцию на брыжейке ободочной кишки. Дьявольски интересно. Какие скальпели брать, что делать — тут перекрыть, тут вену перерезать. Ну, думаю, неплохо, гораздо интереснее Чехова. Когда уходишь в другие области, вне чистой литературы, иногда очень увлекательно. Все ж не прежняя нудятина. Теперь мне уже не нравится читать. Скучно. Четыре-пять страниц — и глаза сами закрываются, в сон клонит. Такие дела. Есть исключения: Дж. Д. Сэлинджер; ранний Хемингуэй; Шервуд Андерсон, когда он еще был хорош, вроде «Уайнсбурга, Огайо» и пары других книг. Но все они портятся. Мы все портимся. Я обычно плох, но, когда я хорош, я хорош дьявольски.
Когда говорят, что я очень-очень хорош, на меня это действует не больше, чем если говорят, что я очень-очень плох. Мне приятно, если говорят хорошее; мне приятно, когда и нехорошее говорят, особенно если в запале. Критиков обычно зашкаливает не от одного, так от другого, и меня возбуждает как хвала, так и хула. Мне хочется реакции на мою работу, хорошей или плохой; но мне подавай смесь. Я не хочу, чтобы меня тотально почитали или смотрели снизу вверх, как на святого или чудодея. Лучше уж нападают — так больше по-человечески, я к этому за всю жизнь привык. На меня всегда нападали так или иначе. Немного отвержения полезно для души; но атака по всем фронтам, тотальное отвержение совершенно разрушительны. Мне хочется равновесия: похвалили, напали, полный котелок всего сразу. Критики меня развлекают. Мне они нравятся. Их мило держать под рукой, но я не знаю для чего они нужны. Может, жен колотить.