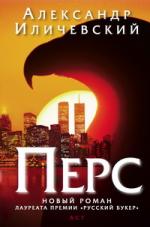Отрывок из романа
«Мирки Миркина». За полтора года мы стали одним из двух самых популярных шоу молодежного музыкального канала М4М. Еще бы! Суть программы заключалась в том, чтобы менять социальный статус людей. Проститутки в нашем эфире становились менеджерами по продажам, а менеджерихи выходили на федеральную трассу, управляющий банком менялся местами с водителем маршрутного такси, а повар итальянского ресторана — с продавцом шаурмы. И между всеми этими типами, я — проверяющий, как им живется в новой шкуре, я — дающий советы, я — издевающийся, я — смеющийся, я — плачущий вместе с ними. Пресса поливала меня помоями, носила на руках, снова поливала. Участники программы трижды подавали на меня в суд — безуспешно. Мне дважды били морду — оба раза все тот же закомплексованный мудак, муж одной из менеджерих:
—Она… стояла на дороге… как проститутка!!! Вы понимаете, чего ей это стоило?!
— Но она же не дала клиенту!
Непонятно, чем он был больше возмущен, — моим ответом или тем, что его жена не вышла в финал нашего шоу.
Деятели культуры писали коллективные письма, требуя закрыть программу. Один заслуженный режиссер, сделавший полтора фильма, вопил о морали и грозил походом к Президенту, пока в интернете не появилась запись его разговоров с собственной секретаршей. Он предлагал ей одеться школьницей и грозил отшлепать солдатским ремнем. После этого альянс духовненьких распался. Они явно остыли. Видимо, мы поймали за руку самого невинного из них. Могу себе представить, о чем говорили со своими секретаршами остальные.
Вода, кстати, тоже остыла, пора менять съемочный павильон. Я выхожу из ванной и перемещаюсь в гостиную. Сажусь на ковер, ставлю музыку и наливаю себе первый стакан виски.
Я оглядываю окружающее пространство и ловлю себя на мысли, что моя квартира со временем превратилась в отель. Современный, дизайнерский, очень комфортный, но все-таки отель. Честно говоря, я давно ловлю себя на мысли, что веду себя в этом городе как иностранец. Как командированный. Рок-звезда в туре. Недели проходят как один день, месяцы как неделя, а год как… кстати, какое сегодня число?
Тут мне следовало бы поплакаться, рассказать о жесточайшей нагрузке, диком нервном напряжении, частых депрессиях, отсутствии времени на личную жизнь, и как следствие всего вышесказанного — о невозможности создать семью. Но вы читаете не повесть «Кровь и пот на льду Евровидения», да и я, кажется, не Дима Билан. Посему будем честны друг перед другом.
Сложно жаловаться на жизнь, когда последний раз ты пользовался общественным транспортом ввиду жесточайшей необходимости приехать вовремя: речь шла о контракте ценой пятьдесят тысяч долларов. О контракте, согласно которому ты на протяжении месяца должен рекламировать пиво, оценивая присланные про него рассказы любителей. Да и оценивать предстоит не тебе: от тебя требуется лишь имя и фотография в хорошем разрешении.
Глупо стенать о постоянной усталости, если в прошлом году ты провел за границей в общей сложности семьдесят пять дней, твоя карточка в фитнес-клуб стоит три тысячи евро, но ты туда не ходишь, потому что не можешь найти ее в ящике письменного стола. Отвратительно рассказывать о сложностях съемочного процесса и внезапных переездах с места на место, когда гостиничные номера, в которых ты останавливаешься во время своих командировок, должны стоить не дешевле семисот долларов за ночь. Лицемерно сообщать, что у тебя часто нет времени на обед или ужин, учитывая тот факт, что ты не можешь вспомнить, когда обедал или ужинал в заведении со средним счетом менее пяти тысяч рублей на человека.
Ты не знаешь, во сколько обходится каналу твоя мобильная связь и медицинская страховка, ты никогда не смотришь в конец ведомости представительских расходов — просто подписываешь. Такси, которое ты имеешь право вызывать, если опаздываешь на запись или задерживаешься допоздна на работе, давно уже используется твоими друзьями и их подругами, а на предложение канала нанять тебе водителя, скромно потупив глаза, ты заявляешь, что предпочитаешь передвигаться на «Веспе», не думая о том, во сколько обходится твоя логистика.
Количественные характеристики в отношении финансов давно перестали быть моей темой. В какой-то момент стало очевидно, что тех денег, которые мы не заработали в начале нулевых, мы точно не заработаем в их конце. И я успокоился. Того, что я получал на канале, было недостаточно для перелетов частными самолетами, покупок недвижимости за границей и прочих девайсов, которые отличают жизнь селебритиз в странах, так и не вставших с колен, типа Америки или Соединенного Королевства. Но этого вполне хватало, чтобы раза два в месяц внезапно срываться, скажем, в Лондон, не думая о том, сколько денег в данный момент на твоих карточках.
Мой гардероб практически полностью состоял из убитых джинсов, растянутых свитеров и футболок с дурацкими принтами, сделанных неизвестными дизайнерами, но купленных либо в Harvey Nichols либо на Camden Market, либо еще где-то на острове. Эта нарочитая небрежность, конечно, тщательно поддерживалась. Не верьте лохам, утверждающим, что у них «миллионеры и звезды ходят одетые как бомжи, потому, что им все равно, как они выглядят». Весь этот тинейджерский треш надевается только с одной целью — показать, что тебе не все равно. И ты круглый год ходишь практически в одних и тех же кедах не оттого, что тебе нечего надеть, а потому, что у тебя их тридцать пять пар. На поверку вышло, что выглядеть бомжом труднее, чем выглядеть русским миллионером. Для этого требуется что-то большее, чем деньги. Но разговоры о финансах — пошлейшая тема. Даже эсэмэски, которые приходят после каждой операции по кредитке, я тут же раздраженно стираю. Они отвлекают.
От чего? Да практически от всего. От интервью, фотосессий, эфиров, встреч с поклонниками творчества, съемок в эпизодах кинокартин (что особенно нравится), походов на радио и телеэфиры (ненавижу, но все равно хожу), диджейсетов, квартирников, чтения чужих произведений вслух, продюсирования сериала (об этом позже). Главное — от себя самого. Ведь ты практически не останавливаешься, понимая, что, если это сделаешь, непременно упадешь. Персонажей, желающих «быть Андреем Миркиным»,— целая электричка «Владимир—Москва». В ней сидят поклонники, талантливые, но пока неизвестные. Они могут годами ждать твоего места.
Кстати о поклонниках. Самые конченые ублюдки среди нас, селебритиз, стенают от якобы невозможности выйти на улицу незамеченным. Даже если это так, даже если твоя жизнь напоминает сумасшедший дом — смени профессию, чувак! Стань счастлив — начни снова вести отстойную жизнь простого человека. Или не жалуйся, мать твою!
И я не жалуюсь. Я просто живу. Жизнью человека, который берет на себя повышенные обязательства, назначая восемь встреч в день и последовательно все отменяя, потому что у него вот уже третий час не получается правильно свести на домашних вертушках «Smells Like Teen Spirit» Nirvana с «Все идет по плану» Гражданской Обороны. Жизнью человека, который по пути на студию замечает нечто особенное и по приезде бегает по потолку с требованием за час до прямого эфира переделать все сюжеты. Потому что он вдруг обнаружил, они не соответствуют.
Чему? Частенько ты и сам не знаешь, просто в какой-то момент ловишь тень идеи и целыми днями думаешь, как именно ее использовать. Это заставляет тебя вскакивать ночью и измарывать каракулями три-четыре листа, причем так замысловато и подробно, что утром уже невозможно разобрать, что ты имел в виду. Из-за этого ты часами стоишь в супермаркете и тупо вертишь в руках коробки с хлопьями, пораженный внезапной мыслью, что в программе нужно переделать все — от заставки до звукового сопровождения. Но наконец понимаешь, что дело не в заставках, логотипах и озвучке. Дело не в сюжетах и монтаже. Проблема в тебе. В червяке, который постоянно грызет печень, требуя новых побед, оваций, признаний. В твоем чертовом тщеславии, чувак.
Особенно очевидно это в такие дни, как вчерашний. Я сломал под столом карандаш, когда главный редактор канала сказал на планерке, что на прошлой неделе шоу было пресноватым. Пресноватым, бля! И это я слышу от человека, который каждый раз своим появлением наводит меня на две мысли — о суициде и эмиграции. Или о суициде в эмиграции. Реально, если вы хотите моей смерти — оставьте меня с ним на сутки в замкнутом пространстве. Послушав его рассуждения об исследовании аудитории или тенденциях в мировой музыке, пристально посмотрев в его постное лицо, ощутив его дирольно-стерильное дыхание, я вскрою себе вены чуть быстрее, чем за десять минут. Брр… даже руки зачесались. Нет, вскрывать не буду, не люблю вида крови, лучше дознуться. Говорят, прикольная смерть.
Я опрокидываю в себя очередной стакан. На чем, бишь, я остановился? На передозе? А, на вчерашнем дне. Так вот, после планерки я давал трехминутное интервью интернет-порталу, название которого, как всегда, не запомнил, и журналистка заставила меня побелеть от злобы, заметив вскользь, что не смотрит мое шоу уже три недели. Она, сука, видите ли, не успевает. А вечером… вечером я чуть с ума не сошел, когда мне показалось, что официант в ресторане меня не узнал. Я заплакал бы, kids, да вы все равно не увидите слез за темными очками, которых я практически не снимаю. Реально, kids, в такие моменты я чувствую, что этот город больше не любит меня.
Внезапно я ощущаю дикий голод. Встаю, уже порядком набравшийся, разогреваю в микроволновке картонку с лапшой, наливаю еще виски и возвращаюсь на пол.
Кстати о любви. Ее стало гораздо больше, чем раньше. Например, на прошлой неделе я почти переспал с пятью девушками. Почти — потому что с одной дошло только до страстных поцелуев в туалете (я был сильно пьян), у двух в самый ответственный момент обнаружились месячные, четвертая, с которой меня познакомил Антон, весь вечер одаривала меня знаками внимания, мы тискали друг друга под столом, а потом она вышла поговорить по телефону и исчезла (а как же дружеские рекомендации и хорошие отзывы с прежнего места в постели?). Последняя девушка была проституткой, что вроде бы за победу не катит. Или уже катит? Не хотелось бы в это верить.
Отношения с женщинами стали напоминать аренду дорогих автомобилей. Ты непременно хочешь покататься, но постоянного желания обладать у тебя нет. Тому есть масса причин — от быстрого пресыщения до связанных с наличием такого авто головняков. Но в отличие от женщин, машина не стремится въехать к тебе домой и остаться в твоей постели. Я стал предельно честен — я не хочу серьезных отношений. Об этом говорится в Users’ Guide Андрея Миркина, которая вручается на раннем этапе знакомства. И если раньше страх проснуться женатым был связан с юным возрастом, отсутствием денег и социального статуса, теперь он базируется на наличии всего вышеизложенного. И хотя с тем, как себя позиционировать, все давно ясно, по-прежнему… как-то сложно все…
Многие в этом городе готовы полюбить того парня с экрана, который весел, циничен, успешен и молод. Того чувака, что скрашивает ваши тоскливые дни каждую среду и воскресенье с двадцати одного до двадцати двух. Иногда мне кажется, что встречаясь, общаясь по телефону, присылая эсэмэски, просыпаясь со мной в одной постели, — они говорят с другим человеком. Точнее, тот самый «кто-то третий» это и есть настоящий я, что смотрит шоу по телевизору, сидит в массовке, стоит за спиной с камерой или вращает суфлер, стараясь попасть в ритм.
В углу гостиной висит дискобол, подаренный мне одним из безумных друзей, тех, которым все время кажется, будто вечеринка вот-вот начнется. Я поднимаю глаза и смотрю на сотню Миркиных, отражающихся в каждом стеклянном квадратике. Каждое отражение чуть отличается от другого. Где в этом калейдоскопе настоящий? Тот, который другой. Тот, который лучше меня. И найдется ли одна, та самая, готовая просыпаться по утрам с настоящим мной? Готов ли я проснуться самим собой?
Дискобол напоминает лягушачью икру. Однажды я сниму его, потому что он давно надоел. Либо сотни Миркиных разорвут наконец икринки и наполнят собой квартиру. Они окружат меня, стиснут в кольцо, прижмут в угол и примутся сверлить ненавидящим взглядом: —За что?! — закричу я. — Чего еще я проебал, не успел, забыл сделать? Чего вам нужно?!
— Ничего, nothing, rien, nada… — послышится их нестройная разноголосица.
Но дискобол все еще на своем месте. Разглядывать его — все еще доставляет. Своим видом он как бы олицетворяет фразу:
«Есть другой мир. Должно быть, он есть», — фразу, которой я неизменно заканчиваю шоу.
Я смотрю на свое отражение в квадратике, что напротив моего носа. Черные прямые волосы, глубокие носогубные складки от постоянных улыбок, равнодушные глаза. Мне тридцать лет, я — ведущий успешного молодежного ток-шоу, неплохой диджей и, как мне недавно сказали, небесталанный актер. Я сижу абсолютно голый на полу собственной квартиры и ем вермишель «Роллтон» из картонного стакана. Не потому что голоден, а потому что похуй. Меня практически ничто не напрягает. Практически — потому что через полчаса я прикончу бутылку виски и лягу спать.
В этот момент в дверь звонят. Шатаясь, я бреду в прихожую, чтобы обнаружить на экране домофона Танино лицо. Прошу, не заперто.
— Знаешь, я подумала… ты мне нравишься! — открывает Таня прямо с порога беспорядочную стрельбу.
— Хочешь… работать… в Останкино? — с трудом выговариваю я.
О книге Сергея Минаева «The Тёлки: два года спустя, или VIDEOТЫ»