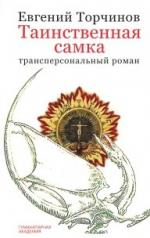- Эдуард Кочергин. Записки Планшетной крысы. СПб.: Вита Нова, 2013.
В русском языке существует множество устойчивых идиоматических выражений и фразеологизмов со словом крыса. Крыса бывает — архивная и канцелярская (это не одно и то же), тыловая, корабельная и палубная (это тем более не одно и то же), большевистская и белогвардейская, а также гэбульная. В последние годы встречается также крыса-которую-тошнит-в-лодке, но это уже эвфемизм для только что перечисленной. Всё это — термины хотя и неофициальные, но прочно укоренившиеся. Используются они обычно для большей наглядности описываемых человеческих характеров, психотипов и профессиональных занятий. Равно как и для всего этого вместе. Но вот чтобы слово крыса использовалось в каком-либо фразеологизме в качестве почётного звания — и, как следствие, воспроизводилось на бумаге с прописной?..
Оказывается, бывает и такое.
«Планшетная крыса — шуточное внутритеатральное звание. Присваивалось оно опытным, талантливым или, как говорили в стародавние времена, хитрым работникам театрально-постановочных частей и декорационных мастерских. Возникла эта странная похвальба за кулисами императорских театров Санкт-Петербурга в конце девятнадцатого — начале двадцатого веков. Революция, Совдепия, разруха, к сожалению, похерили такую славную оригинальную шутку. Известно, что с конца двадцатых годов из опасения разных разностей, происходивших в стране, эту награду в бывших императорских театрах перестали присуждать, но название её осталось в памяти работных людей, став нарицательным определением отличного, всезнающего, опытного профессионала какого-либо театрального дела».
Такими словами начинается новая, третья книга знаменитого петербургского театрального сценографа-постановщика, главного художника Большого драматического театра — Эдуарда Кочергина. Книга, которая так прямо и называется — «Записки Планшетной крысы». Что не просто намекает на принадлежность автора к сему почётному цеховому званию, но и прямо о том свидетельствует. И — по праву.
Эдуард Кочергин вошёл в русскую литературу на рубеже веков, начав публиковать в журнальной периодике небольшие рассказики о встречавшихся ему на жизненному пути странных питерских людях — всевозможных блаженных и юродивых, которых так много было в послевоенном, только недавно пережившем блокаду городе, куда сам юный Кочергин попал после нескольких лет пребывания в детских спецприемниках для «врагов народа», после того как его разыскала вышедшая из лагерей мать. Рассказы эти, собранные под одной обложкой, составили первую и по сию пору самую известную его книгу — «Ангелова кукла». Вышедшая в 2003 году, она сразу стала литературной сенсацией. В 2009-м последовала вторая — «Крещённые крестами», в которой Кочергин описал своё жуткое и потрясающее воображение детство — сына расстрелянного инженера-отца и посаженной за то, что не повезло родиться полькой, матери, воспитанника детдома для «врагов народа», каковые во множестве расплодились в сталинские времена на просторах страны, «где так вольно дышит человек».
И вот — третья книга.
Прежде чем перейти к содержанию, следует разъяснить название. Планшет — на профессиональном слэнге театральных мастеровых — значит сцена. Соответственно, основные населяющие новую книгу Кочергина персонажи напрямую с нею связаны.
Если давать «Запискам Планшетной крысы» жанровое определение — то это, разумеется, театральные мемуары. Но не только. Кочергин так устроен, что в любых строгих, кем-то со стороны установленных или навязанных рамках ему — тесно. По этой причине, свои изумительно написанные рассказы (пользуясь изобретённым самим автором определением — вспоминания) он то и дело разнообразит всевозможными отступлениями и реминисценциями. С присущей его верному глазу рисовального человека (опять же — авторское самоназвание) отчётливостью умудряется в нескольких фразах нарисовать как портрет совершенно неизвестного читателю персонажа, так и колорит эпохи, в которой сей персонаж обитает и в пространстве повествования перемещается. Да вот, хотя бы:
«Дядя Костя <…> привлёк моё внимание прежде всего своим необычайным видом <…>. Представьте себе крупную, яблокообразную седую голову, стриженную под ёжика и поставленную на короткую шею. Макушка его головы венчалась чёрным колпачком академика. Толстого стекла очки, сидящие на бородавчатой картошке носа. Покатые, женоподобные плечи, украшавшие тяжеловатый бочонок торса с возрастным животиком, поставленный на коротенькие ножки. Облачением ему служили неснимаемый, цвета жжёной кости, халат со следами химических упражнений владельца, надетый на простиранную толстовку, и чёрные брюки с дореволюционными подтяжками на пуговицах. Весь этот наряд завершался снизу грубосшитыми из крепкой чёрной кожи тапками-шаркухами, похожими на старые галоши, и толстыми шерстяными зимой и летом, носками. При снятии крупных очков на его голом лице обнаруживались сильно близорукие, серого отлива, добрые глаза малышки. Целиком фигура его напоминала мне гастролировавшего в ту пору в нашем ленинградском цирке знаменитого коврового Хасана Мусина, только у того нос был деланным, а у дяди Кости натуральным».
Это словесный портрет легендарного в петербургском театральном мире человека — Константина Булатова, героя рассказа «Лазурь меломана», изобретателя уникальных красок, без которых никакие оформительские работы на театре не были в ту пору (действие в рассказе происходит в хрушёвские времена) возможны. Поскольку никаких специальных красок для театрально-сценических работ советская промышленность просто не производила — вот ещё, баловать! А те, что производила, предназначались исключительно для военно-промышленного комплекса, пресловутой «оборонки», и переводить их на простых смертных было властями строжайше запрещено. Тем более на какие-то там театры. Вот театральные художники и становились в очередь к кудеснику-мастеру, добольшевистского ещё закваса спецу-химику Булатову — а уж он-то был рад стараться для коллег по ремеслу, изобретая «из ничего» совершенно фантастические рецепты и составы. И краски, им изготовленные, были много лучше промышлнных, а то и иноземных. Которых ленинградские хужожники, естественно, в глаза не видели, но, зная профессиональный уровень дяди Кости, ничуть в своей уверенности не сомневались.
Помимо «красильного кулибина» Булатова перед читателями «Записок Планшетной крысы» проходит вереница всевозможнейших персонажей из театрального мира. В основном это цеховики из стен родного Кочергину БДТ, но не только. Это машинисты сцены Алексей Быстров и Адиль Велимеев, театральные инженеры-декораторы Борис Нейгебауэр и Иван Власов, художники-исполнители Михаил Зандин и Владимир Мешков, завпосты Иван Герасименко и Владимир Куварин, макетчик на все руки Михаил Николаев, мастера светового оформления спектаклей Вячеслав Климовский и Евсей Кутиков. А также знаменитая аппликаторша и бутафорша Александра Каренина по прозвищу Мышка Золотые Руки, без приложения таланта которой в уже упоминавшуюся скудную хрущёвскую эпоху не было бы никакой возможности для праздника искусств «Цвети, Отчизна», проходившего на стадионах в восьми городах, изготовить гигантский натюрморт — мечту советского человечества — «Изобилие», состоящий из фруктов и овощей страны Советов. Все гулливерские овощи и фрукты Мышка выкроила и сшила из разных тряпок, набила их поролоном и ловко расписала; при этом блюдо почти ничего не весило, а несли его на поднятых руках, гордо дефилируя перед заполненными десятками тысяч полуголодных строителей коммунизма трибунами, двадцать человек. Как говорится, Булгаков нервно курит за углом.
И для каждого из этих незаметных театральной публике профессионалов своего дела у Эдуарда Кочергина имеются свои, специально им для них припасённые добрые слова.
Театральное закулисье так устроено, что публика никого из них никогда и в глаза не видит и на афишах — мелкоскопом пропечатанных — не замечает. Публика знает тех, кто на планшете, а не за и не под ним. То есть — актёров. Ну, режиссёра, конечно, которого актёры иной раз за руки на поклоны выводят с собою вместе. Художника-постановщика — в особо выдающихся и запоминающихся случаях — знают тоже. Но всех прочих, без участия которых никакого спектакля никогда бы не было и аплодировать было бы некому — никогда.
Ничего обидного для мастеровых в этом отношении нет. Так происходит во всех сферах человеческого общежития и в любой другой профессии. Другое дело — что те, кто на сцене, весьма редко сами помнят о тех, кто за кулисами или под ней. Им препятствует врожденный или приобретенный эгоцентризм, без которого актёр — не актёр, а режиссёр — не режиссёр. И это тоже вполне естественно и объяснимо. Но тем более приятно становится от появления книг, подобных «Запискам Планшетной крысы» — написанных прекрасным русским языком, человеком, точно знающим, в каком порядке следует ставить слова, чтобы они срастались во фразы, которые радуют придирчивый глаз читателя, в том числе и читателя профессионального.
В завершение следует упомянуть о том, что книга Эдуарда Кочергина выпущена издательством «Вита Нова» — а уже одно это обстоятельство является гарантией того, что её будет не просто приятно взять в руки и перелистать, наслаждаясь высококачественной полиграфией, но и обратить внимание на многочисленные иллюстрации (в данном случае это прекрасные чёрно-белые фотографии — портреты персонажей, интерьеры театров и эскизы костюмов ― общим числом более пятидесяти). Без которых рассказ выдающегося театрального художника-постановщика, мощнейшего Планшетного крыса Эдуарда Кочергина был бы если и не неполон, то — уж точно — не столь ярок, каков он в книге есть.
Век воли не видать, Эдуард Степанович, если вру.