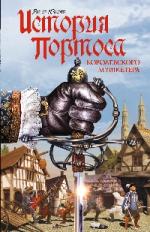Я не всегда была женой Усамы бен Ладена. Когда-то я была маленьким, невинным ребенком и мечтала о том же, о чем и все девочки. Сегодня мои мысли часто возвращаются к далекому прошлому, и я вспоминаю себя, ту славную малышку, вспоминаю свое безопасное и счастливое детство.
Я нередко слышала, как взрослые люди говорят о собственном детстве с досадой и даже с ненавистью, выражая радость по поводу того, что эти годы остались позади. Подобное отношение вызывает у меня недоумение. Будь моя воля, я с восторгом вернулась бы во времени к самой ранней поре своей жизни и навсегда осталась бы маленькой девочкой.
Я жила в скромном доме с родителями, братьями и сестрами в сирийском портовом городе Латакия. Прибрежные районы Сирии восхитительны: свежий морской бриз и плодородные почвы, на которых фермеры выращивают чудесные плоды. На нашем дворе пышно зеленели деревья, гнувшиеся под тяжестью спелых фруктов. За узкой прибрежной полосой виднелись живописные горы и ступенчатые холмы, где разбиты фруктовые сады и оливковые рощи.
В доме Ганемов обитало семеро человек, беспрестанно наполнявших его суетой и веселым шумом. Я оказалась вторым ребенком в семье, и у меня сложились прекрасные отношения со старшим братом Наджи и младшими детьми моих родителей — Лейлой, Набелем и Ахмедом. Был у меня и сводный брат Али, сын от предыдущей жены моего отца — до брака с моей матерью отец женился несколько раз.
Наджи был самым близким мне по возрасту — всего на год старше. И хотя я горячо любила брата, он, как и все мальчишки, склонный к озорству, не раз заставлял меня пережить жуткие моменты.
К примеру, я очень боялась змей. Однажды Наджи сходил на местный базар и на карманные деньги купил пластмассовую змею, затем вернулся домой и вежливо постучал в дверь моей спальни. Я открыла. Брат, плутовато усмехнувшись, сунул мне в руку змею — мне показалось, что она живая. Мой пронзительный вопль взбудоражил весь дом, я бросила змею на пол и помчалась прочь так быстро, словно полетела по воздуху.
Отец был дома, он кинулся на крик, почти уверенный в том, что к нам ворвались вооруженные бандиты и хотят нас убить или ограбить. И когда осознал, что причиной моей истерики стал Наджи, с гордостью демонстрировавший всем искусственную змею, он долго смотрел на брата строгим взглядом, прежде чем разразился громкими упреками.
Но Наджи не выказал ни малейшего раскаяния и, перекрикивая отца, завопил:
— Наджва трусиха! Я учу ее быть храброй!
Если бы я умела заглядывать в будущее и знала, что змеи станут привычными гостьями в моем доме в горах Афганистана, я, возможно, поблагодарила бы брата за ту выходку…
Любимым моим уголком в доме был балкон верхнего этажа, идеальное место для маленькой девочки, чтобы предаваться мечтам. На этом балконе я провела много чарующих часов, лежа на кушетке с книжкой в руках. Обычно, прочитав пару глав, я использовала палец вместо закладки и начинала разглядывать улицу, раскинувшуюся внизу, под балконом.
Дома в нашем районе тесно жались друг к другу, и повсюду между ними были разбросаны маленькие магазинчики. Мне нравилось наблюдать за оживленным передвижением людей, торопившихся завершить свои дела и вернуться домой, чтобы отдохнуть и провести приятный вечер в кругу близких.
Большинство соседских семейств были родом из других краев. Наши предки приехали из Йемена, далекой страны, где, как мне рассказывали, невероятно красиво. Мне никто не объяснил, почему наши предки покинули родину, но так много йеменских семей перебралось в близлежащие страны, что зачастую утверждают, будто кровь йеменцев распространилась по всему арабскому миру. Вероятно, банальная бедность побудила наших йеменских предков продать скот, запереть дома, забросить неплодородные земли и покинуть навсегда старых друзей и знакомые места.
Я порой представляю, как мои предки сидят в своих домах. Мужчины размахивают кривыми кинжалами и, наверное, жуют листья ката. А женщины, чьи темные глаза подведены сурьмой, молча слушают, как мужчины обсуждают проблемы засухи и выжженных посевов и горюют об упущенных возможностях. Торговля ладаном давно зачахла, а нехватка дождей не позволяет надеяться на хороший урожай. И когда приступы голода начинают тревожить своими уколами животики ребятишек, мои предки решают, что пора взгромоздиться на верблюдов и пересечь зеленую долину, обрамленную высокими коричневыми холмами.
Прибыв в Сирию, мои предки обосновались на побережье Средиземного моря, в большом портовом городе, где позже родилась и выросла я. Латакия упоминалась в древних документах более двух тысяч лет назад и описывалась как город с восхитительными зданиями и превосходной гаванью. Окаймленная с одной стороны морем, а с другой плодородными землями, она была предметом вожделений для многих — город завоевывали финикийцы, греки, римляне и турки-оттоманы. Как и все древние города, Латакию разрушали и восстанавливали бессчетное количество раз.
До самого моего замужества и переезда в Джидду (в Саудовской Аравии) мой жизненный опыт ограничивался домом, школой, родным городом и родной страной — Сирией.
Я гордилась своими родителями. Когда выросла достаточно, чтобы понимать слова окружающих, то узнала, что люди с теплотой отзываются о внутренней и внешней красоте нашей семьи. Конечно, мне нравилось, что нас уважают за хороший нрав, но моей девичьей гордости больше всего льстило, когда хвалили нашу внешность.
Отец занимался торговлей, традиционным для мужчин-арабов этого региона способом добывать хлеб насущный. Я почти ничего не знала о работе и ежедневных занятиях отца, ведь согласно нашим традициям дочери не навещают отцов на работе. Я знаю, что он был трудолюбив, уходил из дому рано утром и возвращался только вечером. Его трудолюбие обеспечило достаток нашей семье. Оглядываясь в прошлое, я понимаю, что отец мягко относился к дочерям. С сыновьями он вел себя строже — их шалости нередко вынуждали его проявлять бдительность.
Мама вела хозяйство и заботилась о наших личных нуждах. Она превосходно готовила и тщательно следила за домом. Имея мужа, трех сыновей и двух дочерей, она трудилась не покладая рук. Большую часть времени мама проводила на кухне. Я никогда не забуду, какие превосходные блюда она создавала. День начинался восхитительным завтраком из яиц, сыра, масла, творога с медом, хлеба и джема. На обед мы часто ели хумус, приготовленный из нута со специями, разные овощи и плоды с нашего огорода: только что снятые с грядки огурцы и помидоры, маринованные в мятном рассоле баклажаны с рубленым чесноком и орехи пекан. Ужинали мы обычно между семью и восемью вечера. Наши голодные взгляды с радостью устремлялись на тарелки, где дымились чудесные мамины кушанья: рис с горохом, долма, окра и киббе — особенно популярное арабское блюдо, состоящее из рубленой баранины и вареной пшеничной крупы, смешанных с солью, перцем, луком и другими специями.
Конечно, мы с сестрой помогали маме по дому, но наши обязанности были совсем легкими по сравнению с мамиными. Я аккуратно заправляла постель, мыла посуду, а в те дни, когда не занималась в школе, помогала на кухне.
Мать пристально следила за дисциплиной в семье, была непререкаемым авторитетом для всех детей. Сказать по правде, в детстве я боялась хоть в чем-то нарушить строгие правила поведения в обществе, установленные мамой для дочерей. Это весьма характерно для наших традиций, ведь дочери это сияющие звезды в семье, они должны быть совершенны во всем. Мальчишкам обычно позволяют перебеситься — это в порядке вещей. Но если дочь ведет себя неподобающим образом, она может навлечь страшный позор на всю семью в глазах общества. Если б я серьезно нарушила своим поведением принятые устои, это могло бы сильно затруднить моим родителям поиск семей, которые захотели бы породниться с их детьми. Безрассудные поступки девушки могут лишить ее братьев и сестер надежд на достойный брак.
Когда я была подростком, матери не нравилось, как я одеваюсь. Она была консервативной мусульманкой: покрывала голову платком и носила платье, окутывавшее с головы до пят. Я же восставала против традиционной одежды и сопротивлялась просьбам матери одеваться скромно. Носила красивые яркие платья, не такие старомодные, как мамины. Летом отказывалась надевать блузки с длинным рукавом и юбки, доходившие до щиколоток. Я без стеснения спорила с матерью, если она выражала неудовольствие в отношении моей современной манеры одеваться. Сейчас я стыжусь того, что доставляла ей столько огорчений.
Помню, какую гордость испытывала, когда впервые пошла в школу. Я носила обычную школьную форму для девочек: сначала длинную рубаху, пока была еще маленькой, а когда пошла в средние классы и уже не могла игнорировать настояния моей матери, то ради соблюдения приличий стала надевать пиджак поверх платьев.
Я обожала школу! Она позволяла мне расширить маленький мирок, в котором я жила, впустив в него, наряду с членами семьи, новых друзей и учителей, в головах которых помещалось столько разных знаний, что я всегда удивлялась, как их черепушки не лопнут. Я была любопытным ребенком и читала книги так часто, как только возможно. Больше всего любила увлекательные рассказы о дальних странах и людях, которые там живут. Вскоре я поняла, как много общего у меня со всеми девочками моего возраста, независимо от того, в какой части света они живут.
По нашим традициям мальчики и девочки школьного возраста редко встречаются за пределами домашнего и семейного круга. Так что в школе моей были только девочки. Я познакомилась со многими ученицами из неимущих семей, и их бедность преподала мне один из важнейших уроков в жизни. В особенности хорошо я помню одну подругу, семья которой была настолько бедна, что отец не мог купить необходимые школьные принадлежности и даже еду, чтобы перекусить в обеденное время. Не задумываясь, как это может повлиять на мое собственное благополучие — ведь наша семья тоже была весьма скромного достатка, — я делилась с моей маленькой подругой деньгами и едой, а также всем необходимым для уроков. И чувствовала величайшее счастье, видя, как она радуется.
С тех давних пор я узнала, что радость, которую ощущаешь, поделившись с кем-то, будет намного полнее, если отдашь последнее. Ведь слишком легко быть щедрым, если у тебя всего в изобилии.
Мне вспоминается еще одна девочка, у нее часто глаза были на мокром месте. Вскоре я узнала, что ее отец недавно развелся с матерью. Моей бедной подружке даже не разрешали видеться с мамой — ей приходилось жить с отцом и его новой женой. Мое чувствительное сердце ныло, когда я задумывалась о ее беде, ведь каждый ребенок хочет быть рядом с матерью. Я поняла, что делиться не всегда значит давать другому деньги или вещи; иногда лучший подарок — забыть о собственных проблемах и выслушать другого, разделить его душевную боль.
Недавно я случайно встретилась с ней, той подругой моего детства. И сердце мое запело от радости, когда она сказала, что зрелая пора ее жизни оказалась счастливой. Она удачно вышла замуж. И меня не удивило, когда я услышала от нее, что величайшую в жизни радость ей приносят дети.
Школа дарила мне много новых впечатлений и давала возможность расширить свои горизонты. Но помимо школы у меня были разнообразные увлечения, добавлявшие остроты в мою жизнь. Вопреки представлениям многих людей о консервативности жизни мусульманок, я занималась спортом и научилась весьма искусно играть в теннис. Правда, я никогда не носила специальную одежду для тенниса, а играла в длинном платье, чтобы не было видно ног, когда скачешь по площадке, и в удобных туфлях. Я тренировалась часами. Моя цель заключалась в том, чтобы отбить мяч в нужном направлении или вернуть подачу с такой силой, что сопернице оставалось только стоять с открытым от удивления ртом. Но, по правде, я относилась к теннису в первую очередь как к развлечению. Даже сегодня живо вспоминаю звонкий смех, раздававшийся на площадке, когда мы с подружками играли в теннис.
А еще я любила кататься на ярком детском велосипеде. И снова выбирала для езды длинное платье, чтобы мои ноги не увидели случайные прохожие. Мы выбегали из дома с братьями и сестрами и отправлялись изучать пологие склоны холмов, которыми богата Латакия. Мы визжали от восторга и хохотали, слетая вниз по склонам на глазах у изумленных соседей. Иногда я также ездила на велосипеде домой к моим подружкам или родственникам, жившим поблизости.
Много лет я получала огромное удовольствие от занятий живописью: рисовала портреты и пейзажи на холстах, расписывала керамику. Я часами смешивала краски и старалась создать картину, которая радовала бы мои глаза — глаза художника. Мои братья и сестры так восхищались моими работами, что предсказывали мне, Наджве Ганем, будущее всемирно известной художницы.
Сегодня у меня уже нет времени для подобных занятий, но даже теперь, став матерью, которая одна заботится о своих детях, я все еще получаю некоторое удовольствие, давая волю воображению. Часто представляю, как изображаю красивые ландшафты или передаю в своем портрете глубину и силу личности. Или представляю, как мои мышцы напрягаются, когда я качусь вверх-вниз по крутым холмам или выигрываю теннисный матч у неизвестного соперника.
Наверное, кто-то сейчас подумает: Наджва Ганем — художница без красок, велосипедистка без велосипеда и теннисистка без мяча, ракетки и корта…
У моих братьев и сестер тоже были свои увлечения. Мы все любили музыкальные инструменты, и нередко гости, приходившие в наш дом, слышали звуки гитары, раздававшиеся из какого-нибудь отдаленного уголка. Мой старший брат однажды подарил мне аккордеон. Уверена, что представляла собой забавное зрелище, играя на нем, ведь я была стройной и хрупкой, а аккордеон лучше смотрится в руках мощного, сильного музыканта.
Любимым временем года для нас было лето, когда к нам приезжали родственники. Самое большое удовольствие я получала от визитов сестры отца, тети Аллии, жившей в Джидде. Тетя Аллия была просто чудесной и вызывала восхищение у всех, кто ее знал. Она одевалась очень модно, когда приезжала к нам, и я сильно удивилась, узнав, что дома, в Саудовской Аравии, она носит одежду, скрывающую женщину целиком: тело, лицо и волосы. В Сирии же она ходила в скромных, но элегантных платьях. Она также носила на голове тонкий платок, но не прятала лицо.
Еще больше, чем элегантностью и очарованием, тетя Аллия была известна своей добротой. Как только она слышала, что какая-то семья испытывает затруднения, она анонимно помогала им деньгами.
Я подслушала однажды разговор родителей о том, что первый ее муж был очень влиятельным человеком — Мухаммед бен Ладен, саудовский бизнесмен, благодаря дружбе с королем Саудовской Аравии Абдулом Азизом аль-Саудом, стал одним из самых состоятельных людей в своей стране, изобилующей богачами.
Брак продлился недолго, и в этом браке у тети родился только один ребенок — сын Усама. После развода тетя вышла замуж за Мухаммеда аль-Аттаса из Саудовской Аравии, работавшего на первого супруга тети Аллии. Аттас стал заботливым мужем для тети и добрым отчимом для моего кузена. Я никогда ни от кого не слышала плохого слова об Аттасе. У супругов родилось четверо детей: трое сыновей и дочь.
Я знала их всех очень хорошо. Обычно вся семья сопровождала тетю, когда она приезжала к родным в Латакию. Мы много раз ужинали вместе у нас дома, и я вспоминаю эти вечера как особенно праздничные: велись непринужденные разговоры, звучал смех. Конечно, Усама тоже присутствовал там со всеми. Моему кузену было около года, когда я родилась, так что он появился в моей жизни с самых первых ее дней.
С того момента как мне исполнилось семь или восемь лет, мои воспоминания становятся более отчетливыми. Тогда мне казалось, что Усама значительно старше меня. Наверное, оттого, что он всегда был серьезным, сознательным мальчиком. Он оставался загадкой для своих двоюродных братьев и сестер, но все любили его, потому что он был спокойным и вежливым.
Описывая юного Усаму, которого я знала, я бы сказала, что он был гордым, но не заносчивым. Мягким, но не слабым. Серьезным, но не суровым. И конечно, он сильно отличался от моих буйных братьев, частенько дразнивших меня по любому поводу. Никогда до этого я не общалась с таким учтивым, серьезным мальчиком. Несмотря на его спокойную и тихую манеру поведения, никто не считал Усаму слабовольным — характер у него был сильным и твердым.
Когда тетя Аллия и ее семья нас навещали, мы часто отправлялись все вместе в горы или к берегу моря на целый день. В дни таких семейных прогулок дети в радостном возбуждении носились туда-сюда, гонялись друг за другом по пляжу, играли в прятки или привязывали к дереву веревку и потом качались на ней как на качелях. Я помню, как тщательно Усама выбирал самые спелые и сочные виноградины и протягивал мне, чтобы я съела их прямо с лозы. А братья тем временем шумно радовались, найдя под деревом хрустящие орехи пекан. Порой мы забирались на невысокие деревья и срывали с них сладкие яблоки и другие плоды или лазали по кустам, усыпанным кислыми ягодами. И хотя мать предупреждала, что надо остерегаться змей, я была так счастлива, играя с кузенами, что даже мои страхи не мешали мне радоваться жизни.
Случались, правда, и печальные моменты. Так, 3 сентября 1967 года, когда отец Усамы Мухаммед летел на небольшом самолете, заглох двигатель, и самолет разбился. Погибли несколько человек. Отцу Усамы исполнился шестьдесят один год.
Кузену тогда было всего десять лет, он очень любил и уважал отца. Усама и до этого был сдержанным в поведении и в речи, а смерть отца так поразила его, что он стал совсем замкнутым и подавленным. И даже спустя годы он редко заговаривал о том трагическом случае.
Голос моей мамы был очень тихим, когда она сообщила мне о потере, понесенной Усамой. Я была настолько поражена, что никак не проявила свои эмоции, просто ушла на балкон и долго размышляла о том, как люблю своего отца и какая пустота появилась бы в моей душе, если бы его не стало.
Когда Усама и мой брат Наджи были юными, они не раз попадали в неприятности. Как-то они отправились в поход и ночевали на природе. И им пришло в голову добраться до Касаба — это городок в провинции Латакия, недалеко от турецкой границы. Они умудрились пересечь границу и попасть на территорию Турции. В нашей части мира, если случайно забредешь в другую страну, можно навлечь на себя весьма серьезные последствия. Случалось, что беспечные путешественники исчезали навсегда.
Офицер турецкой армии обнаружил нарушителей территориальных границ. Он стал возбужденно выкрикивать угрозы и направил на них оружие. Наджва и Усама быстро переглянулись, потом развернулись и помчались быстрее ветра назад. Они перевели дух, только добежав до большого сада с деревьями. К счастью, турок не стал преследовать их за границами своей страны.
В другой раз Наджи и Усама отправились в Дамаск — это старинный город и столица Сирии. Усама всегда любил долгие прогулки, гораздо сильнее других ребят, и, пройдя какое-то расстояние бодрым шагом, Усама с Наджи и друзьями решили отдохнуть в тени под деревом. Они устали и немного проголодались. Вы, наверное, уже догадались, что ветви дерева были усыпаны сочными яблоками. Соблазненные видом спелых фруктов, Наджи с друзьями вскарабкались на дерево, а Усама остался стоять настороже. Потом Наджи объяснил: зная честность своего кузена, он предполагал, что тот откажется срывать яблоки с чужого дерева, и не хотел, чтобы Усама принимал непосредственное участие в воровстве.
Мальчишки влезли на дерево, но не успели сорвать ни единого яблока. Целая толпа мужчин, заметив их, побежала к ним, сердито крича и рассекая воздух кожаными ремнями.
— Наглые воришки! — орали мужчины. — А ну, слезайте с яблони!
Спрятаться было некуда. И мой брат с друзьями медленно спустились с раскидистых веток, оказавшись нос к носу с преследователями. Едва ноги их коснулись земли, мужчины стали хлестать мальчишек кожаными ремнями. Задыхаясь от боли, Наджи прокричал Усаме:
— Беги! Беги со всех ног!
Усама был их гостем, а для нас очень важно, чтобы гостю не причинили вреда. К тому же, Наджи знал, как дорогая тетя Аллия любит своего первенца. Брат не хотел принести домой дурные вести об Усаме.
Вняв отчаянному призыву Наджи, Усама помчался прочь. По какой-то причине владельцы сада решили, что поймать беглеца дело величайшей важности, и стали преследовать Усаму, пока не догнали его. Они угрожали ему своими кожаными ремнями. Усама оказался один, без поддержки друзей и родственников, перед толпой взрослых мужчин. Самый крупный из них бросился на Усаму и укусил за руку так сильно, что у него по сей день остался шрам.
Усама оторвал его челюсть от руки и отшвырнул мужика прочь. А затем повернулся к его разъяренным товарищам и закричал:
— Лучше оставьте меня в покое. Я приезжий, я не из вашей страны. И не позволю себя бить!
По какой-то причине пылкость его слов заставила мужчин отступить. Они опустили ремни и несколько минут пристально смотрели на него, а потом сказали:
— Мы отпускаем тебя только потому, что ты гость в наших краях.
К тому моменту брату с друзьями удалось сбежать. После слов Усамы похитителям яблок позволили собраться вместе и безопасно покинуть место преступления. Усаме промыли и перевязали рану. К счастью, в нее не попала инфекция.
Те счастливые дни детства пролетели слишком быстро, и когда я вступила в период отрочества, непредвиденные чувства стали проявляться между мной и моим кузеном. Я не до конца понимала, что происходит, но знала, что у нас с Усамой особые отношения. И хотя Усама не говорил ни слова, его черные глаза загорались от радости, когда я входила в комнату. А я дрожала от волнения, ощущая на себе напряженно-внимательный взгляд кузена. Вскоре наши тайные чувства проявились открыто и навсегда изменили нашу жизнь.
О книге Джин Сэссон «История семьи Бен Ладен: Жизнь за высокой стеной»