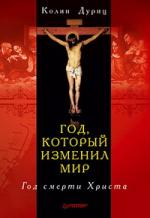Глава из книги Михаила Першина «Еська»
Идёт Еська, думает про Фряню, про Панюшку, а пуще — про что Хранитель сказал и как это ему еть надоело. «Эх-ма, — сам себе говорит, — видать, и впрямь пора смену искать».
Припекать стало. Глянул Еська с холма, не видать ли воды, озера аль речки. И тут же: «Вона как, — мыслит, — ране я б домишко искал, чтоб бабёнка аль дева молодая испить дала, а нынче и речки довольно».
В лесок вошёл, прохладой повеяло, так жары заместо голод донимать стал. И обратно: «Вона как, — смекает, — ране об пустом брюхе сутками не вспоминал, а ныне лишь от его мне беспокой, а что промеж ног, того и вовсе хоша б не было».
Однако есть-то охота. А вокруг — ёлки да сосёнки, ни ореха тебе, ни ягоды. Вдруг гриб приметил. Большой такой, шляпку наклонил, вроде как, «Здорóво» говорит.
Еська руку протянул, а тот-то и молвит человечьим голосом:
— Ты чё эт хвататься удумал?
— Так а что ж не хватать, как ты есть гриб для пропитания предназначенный?
— Эва сказанул! Я, может, для чего иного предназначенный, ты откель знаешь?
— А для ча, к примеру сказать?
Гриб вздохнул. Еська подивился даже: досель он не слыхал, чтоб грибы вздыхали.
— Вот того, — говорит, — я сам ишо не ведаю. Да и ведал бы, всё одно ничего поделать не мог бы, потому с энтого места мне сойти невозможно. А нет — так я б давно по миру пошёл да планиду свою обеспечил.
— А нешто у тя планида есть?
— Как не быть! У тя ж она имеется. Только вот прознал бы ты об ей аль нет, коли б сиднем сидел?
— И то, — Еська молвит. — А раз так, то ты б не ершился, потому для гриба энто вовсе неподходяще, а взамен того дался мне в руки, да вдвоём бы и двинули по свету белому.
— А ты меня не съешь?
Тут Еська только рукою левою махнул, а правой хвать его и — за пазуху:
— Пойдём, — молвит, — я уж свою планиду начисто стоптал, хоть тебе пособлю.
— Постой! — Гриб кричит. — Гля-ка вверх!
Еська голову поднял, а на сосне заместо шишек — черешни. И таки гладки, сочны, ровно губки девицы-красы. Только не достать их, сосна-то высока. А черешенки-то шевелятся на ветру, то вместе сойдутся, то чуток расставятся — уста и есть, что к лобзанью манят.
Тут губы Еськины сами приоткрылись да трубочкою вытянулись. Он и не заметил, как до ветки достал. А ягодки уж и не устами, а язычком сладостным промеж его губ просклизнули, да соком дивным до самого нутра обдали.
— Вот и славно. Ан спопытка — она, чай, не пытка оказалась, — из-за пазухи доносится. — А теперьча ишо направо глянь.
Глядит Еська, а тама груши висят. И тоже, главно дело, на сосне, будто Гриб нарочно дерево повыше выбирает. Жёлтые да румяные побоку, сверху узеньки, а книзу толще да мясистей — ровно тело бабье, что уж из девичества вышла да в самый сок вошла. Только не достать, больно высоко. А Гриб подначки строит: пытайся, мол. Еська руку вытянул, да и достал. Да и сорвал грушу, саму сочну да сладку.
И ишо его Гриб угостил — ягодой заморскою, что фигой прозывается. Та в овраге оказалася, шагов нá десять ниже, чем Еська стоял, только спущаться не потребовалось, он и так дотянулся, рукой. Набрал горсточку, ягоды мягкие, так к пальцам и липнут, а коснись только — шкурка нежная сама врозь раздаётся, щёлочку приоткрывает, словно мандушечка с ласки неженющей. А внутре-то мясцо сахарно.
Жуёт Еська, а Гриб с усмешкою этак молвит:
— Чё эт ты там толковал, будто, мол, дорожку до конца вытоптал, коли на что ни глянешь, а мысли у тя вкруг одного толкутся?
Хотел Еська ответ дать, да рот сладостью слепило.
Так и пошёл.
Вышел из лесу. А за лесом — река. Широка-то не чересчур, да бурная больно. Стал Еська глядеть, нет ли мосточка аль брода. А Гриб:
— Шагни, шагни, попытай.
Шагнул Еська, да и переступил реку.
Идёт дале, а навстречь — дева. Сперва Еська подумал: то шест просто у дороги воткнутый, а после видит: шест-то движется.
Дева. Ростом такова, что Еськина маковка едва до пояса достаёт, а в обхват — одной щепотью взять можно. Совсем вплоть сошлись, слышно стало: плачет, аж всхлипывает.
«Уж не подруга ль, — Еська про себя думает, — Отрады Тихоновны, что вовсе от тоски извелася?» Да нет, та с сухости вся серая была, морщины так складками и висли, а у этой — ни складочки, ни ущербинки, только будто сплюснута со всех сторон.
— Почто, дева, плачешь?
— Как же мне не плакать, коли нас две сестры уродилось: я да сестра моя Матрёша. Меня-то Стёшею зовут. Сперва-то мы одинаковы были, а как стали подрастать, я в высь пошла, а она — в ширь разадалася. И така красива вышла: не то, что парни — кобели цепные да бараны бестолковые от ейной жопы глаз отвесть не могли. Щёки на плечах лежат, прям огнём пышут. Одна коса раза в три меня всей толще. Бывало, ляжем на полати, она всё место займёт, да ишо полбока вниз свисает, а я вроде щепки какой в углу валяюся. Правда, после уж никто красы ейной видеть не мог, потому она с дому выходить перестала: дверь ей больно узенька была. Тятенька стену прорубил, на дворе навес смастерил. Но вскорости ей уж и ворот хватать не стало. Да и мне в дому места уж не было, только не с ширины, а с длины моей. До того дошло, что тятенька меня в трубу печную выставлять стал. Тут уж не могла я боле терпеть уродства свово рядом с прелестью сестрицы рóдной, с трубы выкарабкалась, к омуту пошла, что у нас невдалеке за околицей, да и кинулася, было, в него. Только глубь-то мне мелка оказалась. И пошла я куда глаза глядят, а верней всего — до того обрыва, что мне по росту окажется.
— Утри, — Еська молвит, — слёзы горючие. У ей своя краса, у тебя своя.
— Во-во, — Гриб из-за пазухи поддакивает.
А Стёша — в плач, да пуще прежнего. И сквозь слёз:
— Да где она, краса-то эта, коли глядеть не на что? Да и было б на что, толку много ль? Вон Матрёшка не могла оборотиться, чтоб её по спине аль пониже кто не огладил. А я? И захочет кто уколоться об меня — и то не дотянется, разве что на дерево залезет. На тебя хоть взять — только что коленка моя в твоей доступности.
Тут Еська говорить лишнего не стал, а руку вытянул да слезу ей утёр. Не сказать, чтоб со щеки, потому щёк там и в помине не было, но всё ж под глазами что было, с того и утёр.
Стёша подивилась и молвит:
— Дотянуться-то дотянулся, а обнять-то меня всё одно не можно.
И обратно Еська слова не сказал, а обнял её да к себе прижал. Уж как так сделалось, что их грудя рядышком оказались, того он и сам не понял, только оказались. Правда, так она тоща была, что Еськина левая рука в его же собственной правой подмышке оказалась, а правая — в левой, будто он скрестил их впустую.
А Стёша уж вовсе шёпотом:
— Да ведь не войтить тебе в меня.
Тут уж и Гриб, словно как эхо: нет, не войтить, ни за что не войтить.
— Вот кабы, — бормочет, — у тебя, Еська, елда с травинку была, тады — куды ни шло. Оно б и можно было этак-то обузить, энто мне без труда. А с другой-то стороны, много ль травинкой наетишь? То-то и выходит обратно, что ни так — ни сяк, ни этак — ни разэтак стараться смыслу нету. И нечего тут терять бесценного времени, оставляй ты Стёшу энту и двигай скорей по дорожке, потому планида — она не ждёт.
Еська объятия и впрямь разжал, да только далеко не пошёл. В сторонке стал, вынул из-за пазухи умника-то этого, прижал малость в кулаке и говорит:
— Коли ты на сосне вишни да заморски фиги отрастить мог, так отрасти ж на ей чуток мяса.
— Вот ишо! Буду я для первой встречной девки стараться, силу свою тратить. Ты меня перво дело — есть не стал, друго дело — несёшь по свету, так перед тобой у меня должок имеется, а она мне кто, иль иначе сказать: кто я ей? Нет, я теперя свою планиду ищу, мне надобно могущесть сохранить, а не нелево-направо ею бросаться.
— Добро же, — Еська молвит, а сам кричит:
— Ты, девка, не горюй. Мы сейчас с тобою костерок распалим, грибков нажарим, может, потолстеешь с них.
И хворост зачинает сбирать. Тут Гриб смекнул, что ишо чуток — и могущесть ему без надобности будет. Еська на Стёшу обратно глаза поднял, глядь, а она к низу расти стала. Глазом моргнул раза три, ну чентыре от силы — а уж весь ейный рост в ширину отразился. И така складна девка вышла, что сказать не можно. Только ростом маленька: то́ Еська едва до ейного колена доставал, а теперьча она — аккурат до колена ему стала.
— Ты чё? — Еська у Гриба спрашивает. — Не мог ей хоть чуток роста сохранить?
Тут уж Гриб осерчал:
— Сохранить! Вишни-то да фиги я тоже, небось, не с пустых твоих слов сотворил — тама шишки были. А ей на сколько ширины хватило, така и вышла. С чего я ей роста дам? С залупы с твоей? Так и того ненамного хватит. Хочешь, я тебя до вершка сведу, а с остального ей росту дам?
— Ну, — Еська молвит. — Коли другого не могёшь, делай уж Стёше с меня тело.
А та уж за штанину тянет: куда, мол, ушёл-то? Еська ласково так отвечает:
— Погодь малость, я ишо чуток поколдую, может статься, до конца дело доведу.
Стёша отошла, а Гриб говорит:
— Дурной ты, Еська, ну да ничё. Тебя я в расход пущать покедова не буду, а давай мы так содеем. Ступай-ка к сестре ейной, слыхал, небось, кака она красавица. А я уж со Стёшею останусь, видать, тут я и сыскал свою планиду. Уж больно мне девка по душе пришлася. Да и тебе же ж лучше.
— Экой ты хитрой! Выходит, по себе девку сотворил.
Гриб только хихикнул, голову — долу, а шапка его коришневая алой стала.
— Только так не пойдет, — Еська продолжает. — Как же я с Матрёшей-то справлюсь? Ведь мне ж её не обхватить, коли ты не пособишь.
— Ан обхватишь. Ну, да можно и нам с тобою. Ведь теперя, небось, Стёшенька домой воротиться может. Только ты погодь чуток, больно мне не терпится с ей помиловаться.
С этим Еська, ясно дело, спорить не стал. Познакомил Стёшу с Грибом. Тот шляпку снял — ну, чистый хрант, что в уездных городах по бульварам слоняются и барышням глазом мигают. А она говорит:
— Прости, Еська, но мне с ним как-то даже и удобственней. Не могу я ишо на других снизу вверх глядеть.
Ладно, удобственней, так удобственней. Взяла Стёша Гриба на руки, тот её за шею цоп, в ухо шептать чёй-то зачал. Та зарделася, хи-хи да ха-ха. И шмыг за деревья.
А Еська лёг на траву подле дороги, глаза от солнца ладонью завесил и обратно мыслить стал, что и впрямь, видать, его дорожке итог выходит. Потому мало ль, что Гриб сам с залупу ростом, да ведь коль он могёт содеять, чтоб Еська до верхушки дерев доставал, так, небось, сам-то любую бабу обоймёт так, что та никого иного не возжелает, да и в остальном маху не даст. Вот, Еська мыслит, выдут они сейчас, я и скажу: ступай, мол, Гриб Батькович, заместо меня, а я — на завалинку век коротать.
А те и не думают выходить. Долго ль, коротко, Еська и приснул на солнышке.
Смеркаться стало, холодком сумеречным повеяло. Еська глаза разомкнул. «Ну, Гриб! — думает. — Никак всё Стёшу ублажает».
— Эй! — окликнул.
Молчок в ответ.
— Э-гей! — кричит. — Вы долго ль ещё? А то я к вам иду.
И обратно молчок.
Встал Еська, к деревам пошёл. Нарочно ногами топает. А тама — тишина.
Глядит Еська: ни Стёши, ни Гриба. Неужто проспал?
Вдруг сверху — «ха» да «ха». Поднял голову — ворон. И не «ха-ха» это выходит, а «кар-кар».
— Тебе чего?
— А того, что потерял ты, Еська, товарища свово. Заграбастала его девка, уж назад не отдаст. Эх, и налюбовался я отседова, как он её обласкивал, как обихаживал. Она ведь кроха, да он ишо кроше. Однакось, как ручонки вытянул, до самых милейших местов дотянулся. Всю как есть обшарил, а после весь в елду обратился, под юбчонку нырк, да в нутре у ей скрылся. Уж она по траве каталася-каталася, а после как утихла, да он наружу вылез, она его травкой обтёрла и промеж грудей своих уклала. «Ладно ль тебе?» — спрашивает. А он только носом засопел да и затих. Встала она, подол одёрнула, да и пошла по дорожке куда глаза глядят. Коли хошь, могёшь догнать — она ведь шибко быстро бечь на своих ножонках не сумеет.
— Не, — Еська отвечает. — Они друг дружку сыскали, чё ж я в третьи навязываться стану? А вот коль ты такой зоркий да про всё знающий, скажи-ка: далече ль сестра ейная проживает.
— А ступай по дорожке, до ночи дойдёшь.
Так Еська и сделал. Идёт, а сам думает: «Зря я их догонять не стал. Они-то свою усладу сыскали, а Матрёша? Ладно, коль она в таком довольстве проживает, как сестра расписывала. Только сомнение меня берёт, не зависть ли то заместо неё говорила? Ну, как и той тоже помога требуется. Как же ж я тогда? Небось без Гриба руки у меня обратно не длиньше своей длины стали. Ну, да ладно, назад же не ворочаться».
И точно, как Ворон сказывал: к ночи как раз дошёл Еська до деревни. Уж и трубы не дымилися, и ни лучинки в окошке видно не было. Подошёл к первой избе, у ворот мужик стоит.
— Здорово, дядя, пусти переночевать.
— Ступай к соседям.
— Чё так?
— Не видишь, что ль: сам в свой дом попасть не могу.
— Чё так?
— Да дочка у меня…
— Ну и чё? Мало ль у кого дочки?
— Да чё ты всё «чё» да «чё»! Расчёкался! А то, что от красы ейной родному отцу не то, что в доме, а и на дворе места нету.
— Так ты и есть Матрёшин тятенька?
Тут мужик стал Еську расспрашивать, откель он про его дочку знает. Еська всё как есть рассказал. Тот только ладонями сплеснул: ведь вот же Стёшка, выцарапала-таки счастие! Уж он и смеялся с радости и слёзы утирал, что дочку боле не увидит.
— Да зачем же не увидишь, — Еська спрашивает. — Она и назад воротиться могёт.
Не успел тот рта раскрыть, как из-за забора грохот грянул, вроде как там крыша рухнула. Еська, было — в сторону, да разобрал, что это, похоже, голос человечий:
— Как не так, воротится она! На кой ляд мы ей сдалися, уроды этакие?
Во, значит, какой у Матрёшки голос был. Стал отец её утешать, да она такой рёв подняла — быку иному этак-то не закричать.
— И так вот, — мужик говорит, — с самого с издетства. Энта той: больно ты стройна да изячна, а та энтой: больно ты мягка да ощуписта. И чем боле толкуют, тем боле одна тощает, а другая пухнет. Поначалу от женихов отбоя не было. А у энтих один ответ: «Мне их, мол, накрозь вдать:энто они меня в насмешку сватают. Вот коли к сестре, так то бы всерьёз, а меня поманит да у порога церкви бросит». А уж после как та в шест колодезный обратилася, а эта в ворота пролезать перестала, так и женихи куды-то все поскрывалися.
— Ладно, — Еська говорит. — Не печалуйся. Ты где ночевать сбирался?
— Да вот зипун взял, думал: здесь у ворот прилягу.
— А чё, во всей деревне никого нету, чтоб тебя приютить?
— Как не быть! В той вон избе у меня сестра зá мужем живёт. А тама — сват, а тама…
— Ну, так и ступай. Не бойся, ничё с твоей Матрёшею не станется.
Почесал мужик в затылке. А из-за забора:
— Тятя, вы меня не кидайте. Я же ж слышу по евонному голосу: его Стёшка подослала, чтоб надо мной насмешки строить.
Но Еська мужику шепнул: мол, не боись; кабы даже я был злым человеком, так с такой добычей мне всё одно не управиться. Да тому и без слов это ясно было.
Остался Еська один, ворота попробовал толкнуть — не поддаются. Вроде, их снутри мягкое что-то подпирает. А оттудова: «Больно!» Выходит, впрямь весь двор дева заняла. Еська недолго думая, на забор полез.
И как раз лицом к лицу с Матрёшей оказался. Она, было, губы раздвинула, чтоб сызнова шум поднять. Тут Еська к ей и прильнул. А губки-то у Матрёши мягоньки, пухленьки. Изнутри крик вынырнуть хочет, а Еська туда — «Тише, тише, милая». И даже не говорит, а будто вдыхает в неё слова эти самые. Она губы сдвинуть попыталася, а он туда: «Что ты, что ты, хорошая». Она ишо разок из себя выдохнула, да сбилася и уж на вдох пошла. Мало Еську не засосала, да он-то не впервой, чай, цаловался. Так в себя потянул, что и язык ейный в евонному притянулся. А как он своим-то — по зубкам её снутри провёл, чует: девка ослабела вовсе.
Долго ль коротко они так провели, неизвестно. Наконец, Еська от губ Матрёшиных оторвался. Та и голову откинула, да не сильно, потому затылок и без того на загривке лежал. Однако Еська одно местечко знал: промеж скулы и ушка, тама кожица така шелковиста, податлива. Туда он и направился губами-то своими. По Матрёше так трепет и пробёг. Чует Еська: всё ейное тело заколебалося, хочет поверх забора выскочить. И так он сам разбередился, что мало не куснул её в шейную ложбинку. Губами туда упирается, а ноздрями рядышком выдыхает, туда, где волосики коротки да пуховисты, в косу не ухватываются, а вкруг её основания — вроде как облачко клубятся. И это самое облачко дыханьем Еськиным колышется, да обратно его же ноздри щекочет.
И уж так уж Матрёше захотелось к Еське не токмо что губками, а и всем остальным прильнуть, что она подобралася вся, да от забора-то отсторонилася. И откель только место там образовалось, только Еська сам не заметил, как склизнул во двор и рядышком с нею оказался.
Расставил Еська руки, объять чтобы, да она ж именно что и есть — необъятная. (Сам думает: «Упустил я Гриба. Чё теперя делать?») По груди её гладит, по плечам. Одну руку книзу утиснул, по животу прошёлся. («Да нет, — мыслит, — тама тако мясо, под его не пролезешь») Другу руку округ шеи запускает. («Куды! Не обхватишь её ни в жисть») А коленком по коленке ейной поводит. («Вот кабы Гриб — я бы б ногою враз ейную ляжечку б обхватил».
Однако дума думою, а дело делом. Как-то этак само вышло, что и сподниз живота рука Еськина скользнула, да до сáмой развилочки дошла, что под складкою таилася. И второй руки на шею хватило, и ноги вполне достало вкруг ейной обвиться да к себе теснее прижать.
«Ну ладно, — Еська соображает — это так. Но уж одно есть местечко, куды наверняка…» И не успел он эти самые слова себе сказать, как именно в том местечке его рука очутилася. А место это вот какое: где нога еще не началася, а жопа уже кончилась. Это коли кто думает, что они впритык друг к дружке идут, тот, значит, тела женского не ведал. Потому у мужика, и впрямь, впритык. А у их сестры так это устроено, что промеж ноги и жопы местечко есть навроде складочки, самое для сладости приспособленное и по размеру в точности так отмеренное, чтобы когда ей Еська через спину руку свою запущал, то самые кончики пальцев туда входили б и ухватывались не чересчур сильно и не чересчур слабо, а ровнёхонько в самую соразмерность так, чтобы казалось, что уж и всё тело ейное в энту точку собралось и в ладони его уютилося.
Вот уж после этого дело на лад словно по маслу поехало. Только Еська и смекнуть успел: «Видать, Грибово колдовство и без его действует».
Ночь прошла будто мгновение одно, светать стало. Очнулся Еська — глядь: а где ж колдовство-то, чудо-то где? Руки его не длиньше, чем вечор были, ноги тоже ни на вершок не отличаются. А зато лежит рядом с им на травушке, от росы сыроватой, дева — до того соразмерная, что лучше б и не надобно. Пригляделся: а это ж точь в точь Стёша, только та махонькая, а энта росту обыкновенного, бабьего. Ветерок рассветный её волосы пошевелил, да Еське, словно, на ухо шепнул: «Где ж ты волшебства ищешь, дурья головушка? Вот оно, чудо на свете единое, неповторимое, лежит пред тобою».
Встал Еська тихонько, чтоб не разбудить её, даже калитку отворять не стал: ну, как скрипнет. Так же через забор перелез, да и пошёл своей дорогою.
О книге Михаила Першина «Еська»