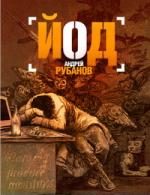Отрывок из романа
Возможно, в эту минуту, в семьдесят девятом году — Всемирный год ребенка, год парламентских выборов — над Стокгольмом тихо шелестит весенний дождь. Мне ничего не видно, да я и не хочу ничего видеть. Окна выходят на улицу Хурнсгатан, они плотно завешены шторами и драпировками, и в квартире, мягко говоря, мрачно. Я уже много суток не видел дневного света, и мне совсем нет дела до Стокгольма, кружащегося в веселом беспамятстве последней весны семидесятых.
Эта импозантная квартира словно музей гордости, прежних идеалов — возможно, рыцарского духа, который остался в прошлом. В прокуренной библиотеке тихо, темные шкафы и высокие буфеты в сервировочных пугают, кухня как болото, в спальнях — незаправленные кровати, в гостиной — холод. По обе стороны от камина, перед которым мы часами сидели, устроившись в чиппендейловских креслах с бокалом тодди (Тодди — горячие смешанные напитки, состоящие из крепкоалкогольного напитка, сиропа, сладкой настойки или ликера, наливки и смеси пряностей.) и развлекая друг друга нетривиальными историями из жизни, стоят две фарфоровые скульптуры, изготовленные на фабрике Густавберга в конце прошлого века. Фигуры около полуметра высотой, и фарфор, из которого они сделаны, весьма удачно имитирует мрамор. Первая представляет «Правду», воплощенную в образе обнаженного мускулистого мужчины с тщательно вылепленными чертами лица, которые, однако, не в силах скрыть некую неопределенность, беглость взгляда. Вторая фигура, соответственно, изображает «Ложь» — шута, небрежно прислонившегося к винной бочке, со струнным инструментом в руках, излучающего остроумие и шарм, вероятно, с пикантной пасторалью на устах.
Фигуры, несомненно, наводят на мысль о молодых людях, которые совсем недавно проживали в этой квартире, но покинули пристанище, как по сигналу военной тревоги. Все осталось нетронутым, и в этой квартире, напоминающей музей, наполненной необычными предметами, вещами из прежних времен, я неизбежно погружаюсь в воспоминания.
Я омерзителен. Мой бритый, покалеченный череп, прячущийся под этим нелепым английским твидовым кепи, понемногу принимает прежние пропорции. Насколько это возможно, конечно. За этот год — Всемирный год ребенка, год выборов в шведский парламент — я поразительно состарился. Появились новые морщины, под глазами какие-то подергивания — нервный тик. От этого черты моего лица стали грубыми, но вовсе не отталкивающими. Мне всего двадцать пять, и я старею, как Дориан Грей. Я и не представлял, что в этой антикварной темноте, словно укрывающей жутковатую тайну замершего времени, можно так безнадежно чахнуть и увядать. Я мог бы из последних сил расчистить путь к входной двери, которую я для безопасности забаррикадировал массивным шкафом красного дерева, и выбраться отсюда. Но я и пальцем не пошевельну. Пути назад нет. Похоже, вся эта история лишила меня рассудка.
У меня израненная башка и куча врагов. У каждого есть какой-нибудь враг, пусть и мелкий, но мой враг — враг моих друзей, а друзья мои исчезли. Врага они не показали, и я даже не знаю, как он, она или оно выглядит. Могу лишь догадываться. И здесь я стремлюсь создать не столько портрет врага, образ Зла, сколько портрет своих друзей, образ добра и его возможностей. Это будет страшная сказка, ибо я склоняюсь к тому, что добро обладает лишь невозможностями. Порой стоит пренебречь утешением. После насилия и побоев, едва не лишившись жизни, можно позволить себе и такое.
Учитывая мое состояние — после лечения врачи не рекомендовали подвергать голову слишком большим нагрузкам — и все более давящее чувство времени, я вынужден немедленно приступить к работе. Я намерен возвести храм, монумент в честь братьев Морган. По крайней мере, это я могу для них сделать — где бы они теперь ни были.
Стоять перед зеркалом в спортклубе «Европа» неподалеку от Хурнстулля в Стокгольме осенним вечером семьдесят восьмого года, небрежно насвистывая мелодию старого шлягера, доносящегося из крикливого проигрывателя, и одновременно завязывать галстук аккуратным «виндзором» — все это само по себе выглядело как вызов, но громко крикнуть на выходе «пока, девчонки!» — это было слишком.
Повисла тишина. Засмеялся только Хуан, ну и Виллис, конечно. У Хуана было другое имя, но он носил майку от баскетбольной формы с большой желтой семеркой, был родом из Югославии и смахивал на испанца — потому его и звали Хуаном. Он часто смеялся — не из угодливости, а лишь потому, что его темные глаза видели в этой стране много смешного. У Виллиса тоже было правильное чувство юмора. Он ухмылялся, сидя в своем «офисе»: клубом «Европа» он заведовал с тех самых пор, как появились первые спортивные объединения.
Однако остальных явление возмутило не на шутку. Какой-то чужак назвал их «девчонками» — это был удар ниже пояса, это было «не комильфо». В особенности для Гринго. На протяжение последних лет он, по молчаливому согласию, считался королем «Европы» и нечасто сталкивался с посягательствами на трон. Никому не хватало смелости оспаривать его положение. Впрочем, этим необыкновенным вечером чужак обскакал Гринго. Они отправились спарринговать — не всерьез, конечно, — настроившись на три раунда. Гринго пустил, было, по обыкновению, в ход свой знаменитый правый хук — некогда принесший ему звание чемпиона Швеции, — на что чужак ответил совершенно нетрадиционным набором приемов: спонтанных, разнообразных. Словно открылось четвертое измерение, о котором раньше никто и не догадывался, — Гринго пришлось прервать бой, мотивировав отказ тем, что у противника воняет изо рта. Чужак источал аромат чеснока, поэтому в ближнем бою Гринго не мог в полной мере продемонстрировать свой смертельно опасный правый хук. Гринго стал шелковым от чеснока! Народ умирал от смеха.
Всем было ясно, что это лишь отговорка: уже во втором раунде дела Гринго были плохи. Расклад был ясен, Гринго сидел на скамье рядом под вешалками с изрядно помятым видом и красными опухшими скулами, невзирая на холодный душ. Бинт, которым были обмотаны кулаки, он снимал с трудом скрывая муку. Гринго ничего не говорил, что само по себе было редкостью. Он молчал, но задумывал месть; было очевидно: Гринго этого так не оставит.
— Что это за чертяга? — спросил один из мальчишек-легковесов, которые, прилипнув к канату, смотрели, как совершенно нетренированный чужак, словно рожденный для бокса, навешивает Гринго.
— Это, — сообщил Виллис, выходя из стеклянных дверей своей каморки, украшенной портретами многочисленных боксеров, — это Генри. Он из моих прежних. Лет двадцать назад был одним из лучших. Но он расслабился, давно уже. Он пианист. Расслабился парень.
Мальчишки изумленно слушали, а после набросились на мешки с песком, пытаясь повторить удары Моргана, но получалось совсем не то. Теперь им было о чем поговорить — до того речь шла лишь о поединке Али и Спинкса. В спортклубе «Европа» все только и болтали, что о Матче. Реванше Али — Спинкс.
Я, разумеется, волей-неволей запомнил имя Генри Моргана — это было одно из тех имен, которые впечатываются в память. Не исключено, что и его обладатель запал мне в душу уже в тот первый вечер. Если и так, то в этом вопросе я был не одинок.
Спустя несколько дней я снова пришел в «Европу» — сидеть вечерами в опустошенной квартире было невыносимо скучно, — чтобы убить время и упрятать депрессию в мешок с песком, как следует его отколошматив.
Человек по имени Генри Морган появился в клубе примерно в одно время со мной, поприветствовал Виллиса и «девчонок», и взгляды, которыми они с шефом обменялись, явно свидетельствовали о сыновне-отцовских отношениях, связывавших Виллиса лишь с немногими избранными, в которых он по-настоящему верил, на которых полагался и ради которых мог сделать что угодно.
Значит, этот Генри Морган пропадал где-то невесть сколько лет — просто «расслабился», как сказал Виллис, — ведь боксеры приходят и уходят, а именно этот приходит и уходит, когда ему вздумается, и Виллис, пожалуй, давно это понял.
Я взялся за скакалку — к сожалению, из всей программы лучше всего я владею именно скакалкой. Генри Морган тоже прыгал через скакалку, и спустя какое-то время мы кружились в скакалочной дуэли, скрещивая руки и совершая двойные прыжки в бешеном темпе.
Было уже поздно, и спустя час мы остались вдвоем, не считая Виллиса. Он сидел в «офисе» за стеклянными дверьми и договаривался об участии своих парней в предстоящем гала-матче.
— Похоже, тебе плохо, малыш, — сказал человек по фамилии Морган.
— Так и есть, — ответил я.
— Значит, в это время года плохо не только правительству, — продолжил он.
— Я не против времени года как такового, — сказал я.
Человек по фамилии Морган встал на весы и, взглянув на деления, пробормотал что-то о полутяжелом весе. Надев коричневые брюки, рубашку в тонкую полоску, бордовый пуловер и твидовый пиджак в зубчик, он подошел к зеркалу, чтобы повязать галстук этим сложным «виндзором». Тщательно причесываясь, он не отрываясь смотрел на свое отражение в зеркале. Его образ полностью соответствовал образу идеального джентльмена, это был загадочный анахронизм: довольно короткие волосы на пробор, крупный подбородок, прямые плечи и тело, одновременно казавшееся устойчивым и гибким. Я попытался прикинуть, сколько ему лет, но это оказалось непросто. Взрослый мужчина в мальчишеском образе, он слегка напоминал «Джентльмена Джима» Корбета, портрет которого красовался на стеклянной двери «офиса» Виллиса. Или Джина Танни.
Налюбовавшись своим анфасом, он обратил внимание на меня, постанывающего на скамейке. Словно заметив нечто необычное, он удивленно поднял брови и произнес:
— Черт, как же я раньше не заметил! — замолчав, он снова пристально вгляделся в мое лицо.
— Что? — спросил я.
— Что ты дьявольски похож на моего брата, Лео. Ты мне нужен.
— Лео Морган — твой брат? — переспросил я. — Который поэт?
Генри Морган молча кивнул.
— Я думал, это псевдоним.
— Хочешь роль в фильме? — неожиданно спросил он.
— Лишь бы деньги платили, — отозвался я.
— Я серьезно. Хочешь роль в фильме?
— Ты о чем, вообще? — спросил я.
— Одевайся, пойдем, выпьем пива — скажу, о чем, — ответил он. — Черт, как же я сразу не заметил!
Я быстро оделся, а Генри Морган тем временем возобновил самолюбование.
— Я угощаю, — сообщил он.
— Я догадался.
Человек по имени Генри Морган хохотнул и протянул мне ладонь.
— Генри Морган.
— Клас Эстергрен, — отозвался я. — Весьма приятно.
— Это еще неизвестно. — И он снова хохотнул.
Спортклуб «Европа» находился на улице Лонгхольмсгатан неподалеку от Хурнстулля, наискосок от «Кафе Чугет», но туда мы не пошли — там легко надраться в стельку, а мы решили не усердствовать. Дело было в самый обычный дождливый четверг в сентябре семьдесят восьмого года, и эти календарные данные не располагали к кутежу. Мы оказались в Гамла-стане и зашли в «Францисканец», взяли по «Гиннессу» и присели на диван, вытянув изможденные ноги.
Генри угостил меня «Пэлл Мэлл» из очень элегантного серебряного портсигара и зажег старый, пузатый, покрытый царапинами «Ронсон», после чего принялся чистить ногти перочинным ножичком, который он хранил в бордовом кожаном футляре в кармане пиджака. Я с изумлением смотрел на этот набор принадлежностей, подобного которому не видел давно.
Но сигарета была крепкой, и я смотрел за мост Шепсбрун, где медленно падал дождь, а улицы становились гладкими, скользкими, мрачными и печальными. Как я и сказал Генри Моргану, мне было плохо, мрачно, и не без причины. У меня украли почти все, что у меня было.
Человек, у которого украли почти все, что у него было, оказывается в очень необычном экзистенциальном положении, и выдающийся моралист Уильям Фолкнер, конечно, мог сказать, что обокраденный оказывается наделен тем, чего лишается вор: жертва блаженно погружается в совершенство самодовольной правоты, жертве в одночасье прощаются ее прежние грехи, и милость Божья снисходит на нее, подобно нерукописной клаузуле безотлагательного божественного действия.
Поэтому дождливым вечером четверга в начале сентября я чувствовал не только горечь, но и абсолютную правоту. Но, возможно, мне придется начать чуть раньше — я не говорю «начать сначала», ибо не верю, что у истории может быть начало или конец, ведь лишь сказки начинаются и заканчиваются в отведенное время, а перед вами не сказка, пусть так и может показаться.
Уже в мае, в самый расцвет его соблазнительной красоты — в начале «поры ярчайшего кокетства», как сказал поэт Лео Морган, — я был нищим. В банке мне отказали, мне нечего было продать, я с ужасом думал о долгих летних месяцах без денег, ибо это предвещало работу. Работа как таковая меня не пугала. Самым страшным было безденежное лето.
В легком отчаянии я пытался сбыть свои новеллы в несколько более или менее серьезных журналов, но редакторы, по самое горло заваленные присланными работами, вежливо отказывались от моего товара, и в глубине души я даже не удивлялся. Это были дурные поделки.
С нарастающим отчаянием я стал предлагать свой товар газетам. Я сдобрил тексты полемикой, без колебаний погрузившись в дебаты на темы, которыми раньше вовсе не интересовался. Был семьдесят восьмой год, весна, ровно десять лет после легендарной Революции. Иными словами, самое время для спевки нестройного хора потертых и уже слегка поседевших бунтарей. Кто-то жаждал переоценки Революции, свернувшей с прямого пути и превратившейся в песочницу для профессорских детишек. Другие видели в Революции золотой век, политическое празднество. В конечном итоге, наше время воспринималось и как пробуждение, и как погружение в сон — в зависимости от того, в каком состоянии наблюдатель пребывал все предыдущее десятилетие.
Я прекрасно знал, что такие дебаты кормят целый полк умельцев, которые вовремя ловят витающие в воздухе вопросы и раздувают из них общественные дебаты. Иногда эти мафиози достигали такого успеха, что обсуждение растягивалось на месяцы, заражая журналистов одного за другим, словно бешенство.
Все это, конечно, было не в моем стиле. Мне так и не удалось раздуть дебаты. Бить ниже пояса в тех кругах не считалось чем-то предосудительным, а вот брать назад слова, признавать правоту противника было сродни харакири перед лицом миллионов. Мне пришлось покинуть эту артель.
Разрешилось все неожиданно: я отрекся от всякого рода писательства на ближайшие два месяца, как только мне позвонил Эррол Хансен, друг из датских дипломатических кругов, и невзначай обронил, что в одном популярном гольф-клубе, где он нередко проводит время, требуется лакей.
— Викман, управляющщий, — сказал Эррол, — ждет человьека с рекомендацциями. Раншше у них были проблеммы с садами — паррни спали на полянках, вместо того чтобы стриччь. Не самая попульяррная рработа, но я тебя поррекомендую, если захочешш.
— А что там надо делать? — спросил я.
— Ехать на трракторе и стриччь траву. Там не перретрудишшся, leasure life, you know (Легкая жизнь, понимаешь (англ.).). Много солнтса, хорошший воздух и симпатиччные девчонки.
Все перечисленное произвело на меня сильное впечатление, мне нужны были деньги и работа — меня не пришлось долго уговаривать. Уже на следующий день я прибыл в офис господина Викмана на улице Банергатан для поступления на работу.
Как только я оказался в роскошном офисе — это была аудиторская фирма — меня атаковала элегантная дама-секретарь лет сорока.
— Наконец-то! — воскликнула она. Я не мог поверить, что меня так ждали. — Где же вы пропадали?
Я взглянул на часы: неужели опоздал? Нет, явился я вовремя, даже на пять минут раньше. Но не успел я как следует об этом задуматься, как элегантная секретарша принялась взваливать на меня пачки бумаг. Как и полагается настоящему джентльмену, я принимал их одну за другой, пока она щебетала:
— Такого у нас никогда не бывало! Сотрудники были в отпусках, понимаете, и столько всего накопилось, но я надеюсь, что вы справитесь быстро, как всегда, не правда ли, десять экземпляров каждого, как обычно, вы так любезны…
— Мне кажется, вы ошиблись, — наконец произнес я. — Я договорился о встрече с Викманом по вопросу трудоустройства, ухаживать за лужайками…
Секретарша застыла на месте, и в эту же секунду на пороге кабинета показался мужчина, впоследствии оказавшийся директором Викманом. Увидев нас, он замер, словно большой загорелый вопросительный знак. Секретарша, оказывается, приняла меня за сотрудника фирмы, которая занималась копированием совершенно секретных досье.
И господин директор, и секретарша принесли мне свои извинения. Я, разумеется, сделал вид, что все это время понимал, в чем дело, и, похоже, они оба решили, что я тот еще плут. Хотя на самом деле подобные вещи происходят со мной чуть ли не каждый день. Меня то и дело принимают за кого-то другого, после чего долго извиняются, что нередко дает мне некоторые преимущества. Порой так завязываются интересные знакомства. В данном случае получилось так, что мой работодатель был вынужден начать разговор с извинений. Это меня приободрило.
По окончании этой мольеровской путаницы господин Викман проводил меня в свой элегантный кабинет. Мы стали беседовать о стокгольмском лете, парусном спорте, гольфе, его дочери и налогах.
Мы с господином директором мгновенно нашли общий язык, хотя он и счел несколько странным, что я не работаю и не учусь. Это выглядело несуразно, однако мы не собирались вдаваться в политические дебаты.
Встреча закончилась тем, что меня взяли на работу. Я должен был явиться на поле для гольфа в начале июня, чтобы сменить сотрудника, уходящего в отпуск, и отработать в клубе все лето. Узнав сумму жалованья, я вовсе не надорвал живот от смеха, но, с другой стороны, я мог рассчитывать на бесплатное питание и проживание в небольшом бунгало, от которого было рукой подать до клуба. Весьма привлекательный вариант. Кроме того, Викман намекнул — как мужчина мужчине, — что в клубе происходит многое из того, что можно назвать жизнью высшего света, а она несомненно могла представлять интерес для меня, человека мыслящего и обладающего тонким вкусом.