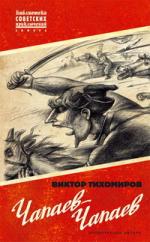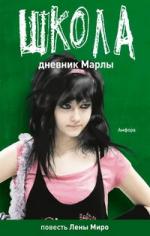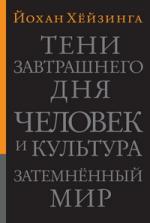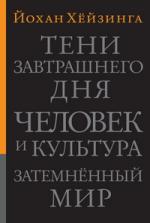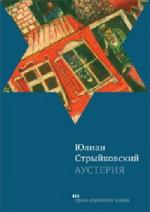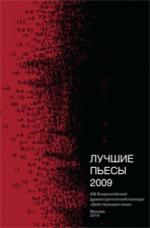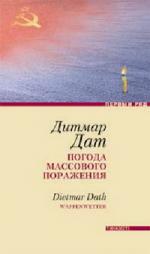Отрывок из поэмы
1
Лето удалось. Бесконечный день нехотя клонился к вечеру, но солнце все еще било из-за каждого угла, печатая косые супрематические тени на плоские стены домов, окрашенные, по большей части желтым. Фиолетовые эти тени закрывали даже окна и чахлые липовые деревца под ними, посаженные без надежды на вырост.
По раскаленным за день рельсам скрежетал и погромыхивал переполненный трамвай, роняя то и дело с подножек наиболее ловких пассажиров. На повороте всех сильно прижало в одну сторону. На рыжеватую девчонку лет семнадцати навалился здоровенный детина, намеренно не держащийся ногах. Детина был рыхл, пах несвежим огуречным рассолом и поганым грибом.
Девушка морщилась, вежливо стараясь не обращать внимания. Она изо всех сил сосредотачивалась на мысли о том, какое замечательное это изобретение — трамвай. Пешком ведь не находишься. А тут: и удобно, и едет быстрее всех, и главное — красивый. Удобные лавочки из лакированных дощечек, снаружи красный, с необычайно красивыми цифрами. Раньше вагоны кони тащили, они и назывались: «конки», теперь, слава Богу, используется электрическая энергия, стало быть, не происходит никакого загрязнения окружающей среды. Потому и народа так много набивается, что всем хорошо.
Невольно она следила за едущим параллельно нарядным «москвичом», руководимым странным субъектом. Субъект заслуживал невинного девичьего внимания. Машину он вел зигзагами, низко склонясь над рулем, будто прячась, так что, казалось, и не видел ничего из-за руля. Он то и дело отставал от стремительного трамвая, но вскоре опять нагонял; одет же был в черную блестящую «кожемитовую» шляпу, клеенчатый плащ и круглые фиолетовые очки.
В поле внимания девушки, правда, не попала сидящая на заднем сидении дама немыслимой красоты, отчасти ядовитого свойства, с шевелящимися гневно губами, тоже редкостного рисунка. Хотя, дело вкуса.
Красоткам с такой наружностью, кажется, самою судьбой назначено разбивать мужские сердца, в особенности принадлежащие талантам, которые, как известно, совершенно не имеют вкуса на женский пол и вечно свяжутся черт знает с кем. Возможно, что все это для их же, талантов, пользы, в рассуждении поиска особых творческих состояний. Лишь бы не доходило до суицида. Но до суицида-то зачастую и доходит. Это когда мазохизм, почти всем творцам в разной степени присущий, превосходит меру.
Красавицам же самим «как с гуся вода», и дожив до глубокой старости, они про себя начисто позабывают как раз самых достойных и одаренных, вплоть до исторических персон, лично ими погубленных. И хотя эти бывшие красотки, как горохом сыплют громкими именами, но, в самом деле, запоминают на всю жизнь различных ничтожеств, с достоинствами, одним им понятными. Сами эти удачницы, к любви не бывают способны, за любовь же принимают свои терзания, если что-либо выходит «не по их», или, им же подобные особы, вдруг да перебегут дорогу.
Однако, наша может и не из этих вовсе особ, а другая какая-нибудь, с настоящими достоинствами, такая например, каких берут в кино на роли женщин — агентов уголовного розыска, или народных избранниц, пока еще не ясно, но понятно, что девушке из трамвая она была не видна.
— Молодежь, оплачивайте проезд! Что вы мне все рубли суете, сдачи не напастись! — хрипло и внезапно, перекрывая шум, гаркнула увешанная рулонами билетов кондукторша. Будто от этого крика, все пассажиры разом бросились к окнам по одну сторону вагона. Но внимание галдевших пассажиров привлечено было не горластой теткой, а происходившей сбоку от маршрута киносъемкой.
— О! Глянь, кино снимают, антихристы! — первой же и констатировала изумленно кондукторша.
— Надо же, ну ты подумай! Точно, точно! — подхватили в толпе,
— Этот-то, видала, он же Прохора играл в «Сумерках»! Ворон! Ага, Ага, во дает, упал! Не умеет на лошади! Ишь ты, дайте хоть рассмотреть одним глазком, никогда ж не видала! Дома после расскажу, никто не поверит!
И верно, сбоку от трамвайных путей происходила настоящая киносъемка.
Каждый гражданин знает (знал, по крайней мере в описываемое время), что нет ничего такого, что было бы веселей, интереснее и загадочней этого совершенно безопасного, и потому бесконечно увлекательного мира кино, способного восхитить даже последнюю, ничтожнейшую личность, кажется давно уж потерявшую восприимчивость от неразвитости и загнанности жизнью. Массы — само собой. Второгодник с последней парты, сэкономив на завтраке или случайно подобрав с земли гривенник («новыми» конечно), наплевав на невзгоды, без промедления отправлялся на детский сеанс. Какой-нибудь, карманный воришка мог позабыть ремесло свое и не полезть в нарочно оттопыренный для него карман, если увлекался сюжетом фильма.
Что немедленно и произошло. Когда прокричали: «Кино!», малолетний вор и мошенник Федька Сапожок (имя это было получено им от приятелей, из-за формы носа, в точности повторявшего форму сапога) отпустил обратно в карман круглый кошелек с мелочью, рубля на два с полтиной, забыл о нем и тоже бросился к окну.
Таинственный мир кино приоткрылся через нечистое трамвайное стекло осветительными приборами, путаницей проводов и накрашенными лицами актеров. Озабоченные, серьезные, будто бы занятые в самом деле важным занятием, взрослые люди, окружили белую в яблоках лошадь и пытались усадить на нее своего героя.
Все трамвайные окна вмиг украсились прилипшими к ним носами, губами и щеками. Кондукторша позабыла пост и обязанности, жадно всматриваясь в происходящее.
Но рыжеватая девушка наибольшее проявила любопытство, она буквально прилипла к стеклу, а в следующий миг, с покрасневшим почти под цвет ее волос лицом, одновременно все более бледнея, стала решительно пробираться к выходу. Впрочем она быстро сообразила, что никак не может выйти из трамвая, без того чтобы не опоздать к месту учебы, а сегодня это было никак не возможно. И девушка осталась в вагоне.
…
На лошадь, при поддержке товарищей, тщетно пытался влезть человек в папахе и с воздетой к небесам окровавленной саблей, сильно смахивающий на, знакомого каждому по фильму «Чапаев», собственно легендарного комдива Чапаева. Четверо помогали ему, но бестолково, будто с похмелья. Чуть поодаль дюжий опер, тиская в жилистых руках тяжеленную камеру, совался ею в морду коню, в зубы всаднику, приседал, заходил с боков, выныривал вдруг из-под конского паха, чудом сберегая свои объективные линзы от подкованных копыт и роняемых животным, возможно от ужаса, конских яблок. Он более всех истекал потом по причине жары и своего труда.
Всадник, хоть и не утвердился еще на лошади, все сползал с нее, но уже изображал отвагу, усталость, мужество и ум одномоментно, в одном лице. Выражение его было суровым и нервным. Такое бывает у тех, кто удачно избегнул сабельного удара или огнестрельной пули. Все это конечно назначено было устремленным к нему объективным линзам. Не зная наперед приготовленных ему судьбой испытаний, артист при помощи приемов перевоплощения, с трудом входил в образ, в то время, как чуть обождав, оказался бы в нем естественным порядком.
2
Тем временем, упомянутый уже «москвич» остановился в переулке, и выскользнул из него поспешно странный субъект, обнаруживший на себе, помимо очков и шляпы, ярко начищенные ботиночки, с острыми по моде носами, поверх узорчатых нейлоновых носков. В руках он держал, судя по всему, немалого веса чертежный тубус, добавлявший перекоса его, и без того перекошенной фигуре. Немедленно он скрылся за грязной дверью подъезда, отворяемой чаще всего ногами, и имевшей от этого вид замызганный и потерпевший в нижней части, но молодецки-желтый — в верхней. Зато, там имелась надпись мелом «ДНД переехало».
Сидевшая позади дама уселась за руль и плавно откатила с места.
Субъект, назовем его Дядя, энергично устремился вверх по лестнице, подтягиваясь свободною рукой на сильно подержанных ржавых перилах, лишь короткие участки которых украшены были отполированными деревянными накладками. Одна из них немедленно наградила Дядю занозой. Дядя матюгнулся, но продолжал движение, сопровождаемое шуршанием и даже лязгом его недорогого плаща из клеенки, пока не достиг чердака.
Чердак был не заперт, но дверь туда оснащена была изуродованным гигантским замком, называемым в хозяйственных магазинах, «амбарным». Уродовал его, либо мощный зубастый механизм, либо нечистая сила, поскольку замок был буквально изжеван, хотя так и не сдался, не отомкнулся. Петля, правда, не выдержала и лопнула, хоть и стальная была.
Проникнув в помещение, дядя первым делом шагнул к полукруглому окну частично без стекол и занялся занозой. Найдя обломанный ее конец, он зацепил его ногтем и, с двух попыток, кажется, извлек инородное тело из ладони. Поплевав более чем нужно на рану и оплевав небольшую окрестность, дядя развинтил тубус и аккуратно расстелил на полу газету «Выборгский коммунист», имевшую в нижней части кроссворд. В задумчивости субъект прочел случайное: «Инициатива судебной тяжбы. Три буквы.»
— «Иск!» — сверкнуло у дяди в голове, и он с лязгом вывалил на газету содержимое тубуса.
3
На съемочной площадке режиссер, нервно отшвырнув жестяной рупор, бросился к лошади, чтоб посодействовать подсаживанию артиста.
— Снимать мы начнем когда-нибудь?! Или вы моей смерти ждете?! — истерически крикнул он.
Лошадь храпела. Похмельный ассистент остервенело запихнул ногу героя в стремя, самого же его, не без помощи кулака, грубо усадил в седло. И тот мгновенно еще более преобразился. Лицо всадника особым образом окаменело, левый глаз прищурился, начал как-то по-восточному бешено косить. Темная челка, изогнувшись прилипла к потному лбу. Теперь казалось, он всю жизнь не покидал этого седла, и всегда устремлялись за ним повсюду дикие, но преданные орды. Кривая, окровавленная сабля, в очередной раз взлетела к небу, с единственным ватным облачком посередине.
Переменилась и вся обстановка съемочной площадки. Присутствующие разом залюбовались талантом и на героя в актерском исполнении. И когда сабельный блеск ударил молнией в небо, никто сперва и не удивился стону и звону дважды разбившегося стекла, и почти пушечному грохоту выстрела, поскольку этих именно звуков и не хватало на съемочной площадке для полноты картины.
— Быстро все по местам! — сдавленным голосом радостно выкрикнул режиссер, — Снимаем!
4
Однако, вернемся несколько вспять. Итак, перекошенный гражданин с тубусом, сопя и отдуваясь, но стремительно поднимался по «черной» лестнице полурасселенного дома. Тубус, по всему судя, сильно мешал ему и кочевал из руки в руку на каждом пролете. Темно-синие очки мрачно посверкивали, из-под кожемитовой шляпы струился пот. По мере приближения чердака, движения гражданина замедлялись, так что ему удалось от начала и до самого конца прослушать доносящуюся откуда-то песенку «До чего ж ты хороша, сероглазая!» и часть некоей юмористической радио-программы.
Оказалось вскоре, что он стремился точно на чердак. Там он змеей проскользнул к слуховому окну, вынул занозу из ладони, раскрыл тубус и вывалил из него на газету целую кучу металлического хлама с внушительной трубой во главе. Пыхтя как паровоз от усердия, он принялся с ней возиться, закручивать струбцины, соединять проволочки, в результате чего смастерил нечто вроде ружья, для которого извлек из-за пазухи обернутый тряпочкой оптический прицел, с отдающими синевою и радугой, стеклами. Прицел он примотал изолентой и, зарядив орудие, немедленно пробил им стекло слухового окна. Затем, кажется, не целясь, а полагаясь на некое вдохновение, пальнул куда-то в середину открывавшегося под ним пространства. При этом раздался орудийный грохот, и столб пламени на миг соединил полукруглое окно и всадника на съемочной площадке. Теряя шляпу, гражданин отлетел к задней стенке чердака.
— Отдача такая, — констатировал он сам себе.
5
Когда буквально все на съемочной площадке, как загипнотизированные, замерли, любуясь героическим образом всадника, а на режиссерских раздвинутых губах замерла команда «Мотор!», и острие сабли устремилось к единственному в небе облачку, то где-то вверху, с хрустом треснуло и развалилось слуховое окно. Тоскливо простонали куски серого стекла, обращаясь в осколки и далеко разлетаясь по асфальту. Лязгнуло железо.
Все обернулись поскорее на звук и разом увидали, как наружу выглянуло внушительное стальное дуло. Дуло описало круг и, полыхнув пламенем, звездануло толстой резиновой пулей прямо в лоб всаднику.
Воздух звенел.
Тут еще машина «москвич» плавно проехала в некотором отдалении.
Всадник, почти не меняя позы, выскользнул из стремян и спорхнул с коня. Отлетевшая прочь папаха открыла всем любопытным взглядам круглую, растущую на глазах рану малинового оттенка. Артист изумленно опрокинулся навзничь, полагая, что умер, и что так именно ощущается та самая смерть, о которой столько было прочитано за артистическую жизнь, то есть в сопровождение гула в голове и темно-бурых разводов перед глазами.
— Молния? — сверкнуло у него в голове.
Все перемешалось и устремилось от центра с лошадью к краям со спасительными углами и подъездами. Подхваченные ураганом паники человеческие фигуры понеслись зигзагами в стороны, и каждый ощущал на своем родном затылке разбойничий прицел и сбивал воображаемого стрелка прыжками вбок, внезапными приседаниями и прочими гимнастическими фигурами, способность к которым у каждого открылась внезапно.
Один мужественный и невозмутимый опер, влипая пружинными ногами в асфальт, задирал объективы и крутил катушки, запечатлевая хронику момента, сильно напоминавшего эпизод военной жизни. Он был профессионал и, как только начинала жужжать камера и крутиться пленка, опер становился ее частью, придатком и всегда оставался в этом положении даже некоторое время после команды «Стоп!». Камера даже служила ему средством от высотобоязни. С ней он мог находиться хоть на кремлевской звезде, а без камеры он и на табурет влезал не без опаски.
Между тем, площадка взорвалась криками:
— А-А-А! Ми-ли-ция! — истошно орал администратор, залезая под операторскую тележку, где ему не было совсем места.
— Семен Семенович! — молитвенно причитала ассистентка, запоздало прикрывая своим телом пострадавшего, чем и дополняла, в представлении того, картину смерти.
Но тут два крепких осветителя, действуя как в бою и пригибаясь в ожидание других залпов, ловко выхватили потерпевшего из-под женщины за подмышки и оттащили в безопасное место.
— Ху-ли-га-нье проклятое! Ворона убили! Застрелили Ворона! — с запоздалым рвением вопил, на манер газетного торговца, администратор, чувствуя, что проклятия адресатов достигнут вряд ли.
Бывалый гример тоже сохранял полное хладнокровие.
— Диверсия чистой воды! — цедил он сквозь зубы, размешивая в чашке пену для бритья, — Молодежной секции работа, как пить дать! — добавил он загадочно и тряхнул помазком на воздух.
Заметив, что стрельбы больше не происходит, все потянулись назад, к центру событий и немедленно столпились вокруг потерпевшего, выясняя какую медпомощь следует вызывать, «скорую» или «неотложную», помимо милицейского наряда?
Пока что все женщины принялись не без удовольствия трогать беззащитного артиста, махать на него платками и дуть в лицо водой. Это особенно показалось всем правильным, и дуть стали так усердно, что над всею суетой загнулась красивая радуга.
На лбу поверженного разрасталось яркое пятно, но отверстия не наблюдалось, кровь же едва выступила. Вскоре ноздри его затрепетали, а затем и ресницы.
Жара достигла ядерного накала. Асфальт плавился и тек, источая ядовитые газы. Из-за ящиков, колеблясь в разжиженном воздухе, тихо, как тень, выдвинулся скрывавшийся там режиссер, убежденный про себя, что покушение назначалось на него, но убийца, на счастье, лопухнулся и пуля угодила в артиста.
— За что? — мучился он вопросом, — что я им такого сделал? — чесал он отчаянно затылок, не находя ничего похожего на ответ. Ничего худшего за последнее время, чем дружба со «стилягами» и участие в танце «Буги-вуги» на одной их вечеринке, он припомнить за собою не смог, как не силился.
…
Тем временем незнакомец в фиолетовых очках, с тубусом в руке, надменно отвернувшись от места угасающих событий, дождался в сторонке выехавшего из-за угла красного трамвая, зацепился за поручень и укатил с глаз, осеняемый искрами от электрической дуги.