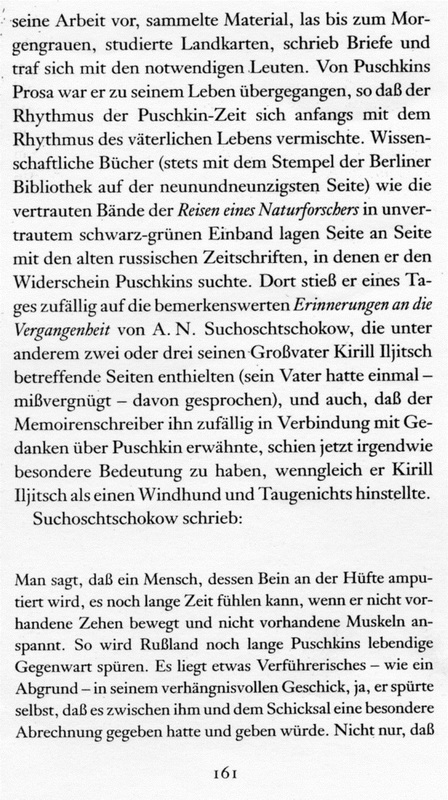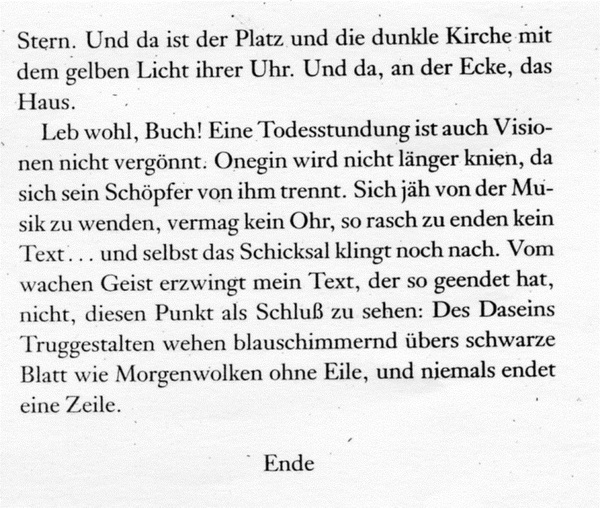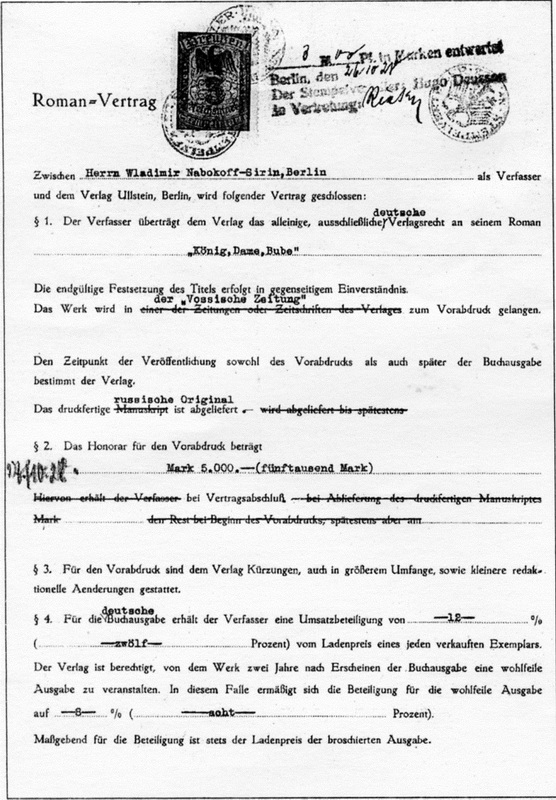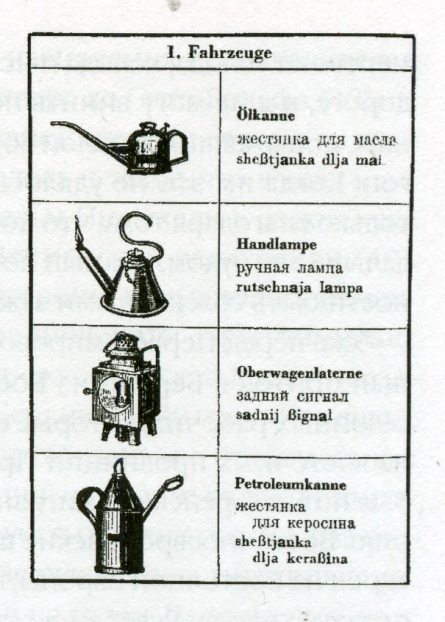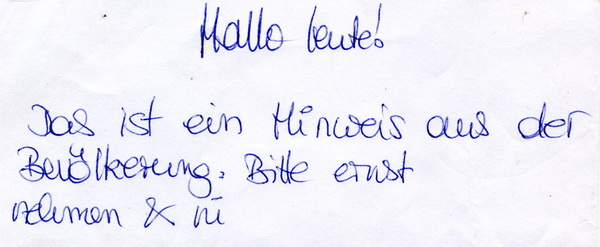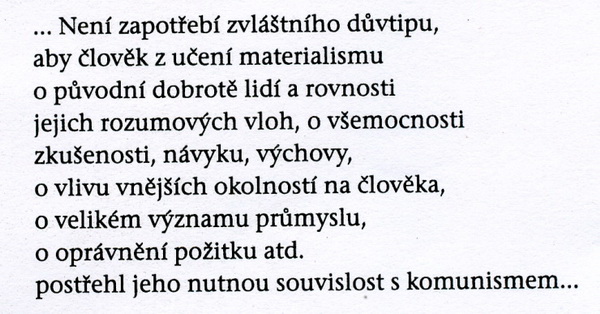Глава из романа Сергея Палия и Алексея Гравицкого «Анабиоз»
О книге Сергея Палия и Алексея Гравицкого «Анабиоз»
Гулко ухнуло.
Тишина.
Пусто.
У-у-ух.
Вот, снова.
Тяжело, с натугой, будто отовсюду сразу. Прорывая тьму, разбивая безмолвие. Возвращая мысли…
Ух-ух-ух.
Звук стал громче, ритмичней, с каждым новым ударом он нарастал, давил, накатывал плотными волнами до тех пор, пока не оборвался так же резко, как возник.
Я вздрогнул и рывком, с хрипом вдохнул. Легкие наполнились воздухом, но облегчения это не принесло: обожгло изнутри и только.
Больше не ухало.
Я открыл глаза.
Расплывчатые контуры и рябь поплыли во все стороны, словно кто-то сбил настройку телевизора. Овальное световое пятно оформилось, стало ярче и едва не ослепило. Пришлось зажмуриться.
Рефлекторно дернувшись, я шарахнул себя кулаком в грудь. Жуткое ощущение пустоты, таящейся где-то рядом, не отпускало. Чувствуя, как дрожат руки, вдарил по груди еще сильней, со всей дури.
Ну же!
Ухай!
Бейся же, зараза!
Сознание поплыло, пальцы судорожно сжали футболку и на удивление легко разорвали ткань. Нет-нет-нет, не хочу в пустоту… Ухай, ты же сердце… Ты должно работать…
У-у-ух.
На этот раз вдох не прошел вхолостую. Все тело закололо, будто миллионы иголочек впились в мышцы изнутри, и по ним пустили ток. Спину свело судорогой, к горлу подступил комок, рот наполнился слюной. Я подался вперед, чтобы сплюнуть, но крепко приложился лбом обо что-то твердое. Тошнота на какое-то время уступила место вспышке боли. Ремень безопасности натянулся, впился упругой змеей в ключицу.
Сквозь ухающие удары пульса в висках я услышал собственный стон. Щурясь, на ощупь щелкнул фиксатором, отбросил ремень, уперся ладонями в шершавую пластиковую панель и согнулся. Меня вывернуло наизнанку желчью и тягучими слюнями.
Спазмы продолжались еще с минуту, тело била крупная дрожь, конечности тряслись, покалывание в мышцах усилилось. Ничего, фиг бы с ним. Главное — ухает.
Наконец, я разогнулся и часто, неглубоко дыша откинулся на спинку. Скрипнуло.
Гул в голове стихал, судороги закончились, сознание постепенно прояснялось. Нехотя возвращалось зрение. Перед глазами все плыло, вспыхивало радужными пятнами и подрагивало. От ладоней исходило бледно-золотистое свечение: будто плоть под кожей была едва-едва ярче положенного. Так бывает, если через руку посветить фонариком. Только там видно красную муть и сосуды, а тут — словно тусклые лучи пробиваются через янтарь.
Поморщившись, я встряхнул руками. Глючит, наверное, спросонья…
Спросонья? С какого такого спросонья? Где я вообще?
Продавленное кресло, бардачок, заляпанное снаружи лобовое стекло с замершим на полпути дворником, безжизненная приборная панель. Все грязное и влажное.
Что произошло? Авария?
Но почему тогда водительская дверь приоткрыта? Почему она такая ржавая? Что за лохмотья на мне вместо футболки? Где Борис?
Мы с братом ехали из Внуково. Посадили маму на рейс и возвращались в Москву, а потом…
Что случилось потом, я не помнил совершенно. Пустота. Ватная, без единого просвета. Без снов, видений и воспоминаний. Без мыслей. В какое-то мгновение меня будто… выключили.
Сердце заухало быстрее. Нутро подернулось инеем страха.
— Бор-рь… — выдавил я.
Голос сорвался. Пришлось долго кашлять и отплевываться прямо на резиновый коврик мерзкой желчной слюной. Откуда она только берется?
— Борис, — позвал я громче.
Никто не отозвался.
В сознание угрем вползла пугающая мысль: снаружи — подозрительно тихо. Это на Киевском-то шоссе возле аэропорта?
— Борис!
Тишина.
Превозмогая вернувшуюся тошноту, я выпрямился. Дернул ручку и толкнул локтем дверь. Та не открылась: то ли заблокирована, то ли заклинило. Надавил посильнее, плечом. Бесполезно. Покликал по клавише стеклоподъемника — ноль реакции. Взгляд упал на торчащий из замка зажигания ключ. В рабочем положении.
Наверное, мы врезались, и электрику в машине переклинило.
Еще раз, наудачу, дернул ручку — никак. Дверь застопорилась намертво. Наверное, чем-то прижало с той стороны. Я завалился набок, извернулся и стал переползать через рычаг переключения передач на соседнее сидение. С водительского места можно было выбраться наружу.
На полпути меня снова замутило, пришлось раскорячиться, упершись одной рукой в руль, а второй — в спинку кресла. Перед глазами опять все поплыло, гадкое покалывание волной прошло по всему телу. Я несколько раз крупно сглотнул, но с рвотным позывом совладать не смог, и затрясся в спазмах. Противная слюна упала тягучей нитью на сиденье.
Сотрясение, что ли? Так тошнит после сильного сотрясения мозга, но череп вроде бы цел, хотя голова продолжает гудеть…
Отплевавшись, я перебрался на водительское сидение и толкнул приоткрытую дверь. Она подалась на удивление легко, и мне пришлось упереться в стойку, чтобы не вывалиться по инерции наружу. Тело слушалось с трудом, суставы будто поролоном забили, чудовищная слабость мешала двигаться.
Кое-как подтянувшись, я поставил правую ногу на порог и замер. На заскорузлой кроссовке белели плесневелые пятна. Рука машинально потянулась к порванной футболке, и пальцы сжали ветхую ткань.
Лоскуты.
Тишина продолжала втекать в салон через распахнутую дверь. Тишина давила на уши, заполняла холодным ужасом сознание.
Что же тут творится?
Путаясь в движениях, спотыкаясь, я вылез из машины и моментально рухнул наземь, отшибив коленки и ладони. Ноги не держали. Какое-то время пришлось стоять на четвереньках и восстанавливать дыхание. Перед глазами дрожали ярко-зеленые травинки, пробивавшиеся через трещину в асфальте. Чуть в стороне, возле отбойника, чернел свежий грязный след — вроде Бориса. Значит, жив.
Но куда он ушел? Почему бросил меня?
Я собрался с силами и поднялся на ноги. Сразу же заштормило, крутануло, повело в сторону. Еле успел облокотиться на багажник машины, чтобы сохранить равновесие и не упасть. Ладони уперлись во что-то шершавое, ломкое.
Я пригляделся, все еще щурясь с непривычки.
Ржавчина.
На багажнике, дверях, крыльях, на стойках и крыше — коричневые оспины темнели повсюду. Борькина «аудюха» была покрыта мелкими пятнами ржавчины, будто за ней не ухаживали. Долго не ухаживали.
Бред…
Тишину разбил птичий клекот, заставив меня резко вскинуть голову и сморщиться от вспышки головной боли. На крыше автобусной остановки, торчащей на обочине справа от шоссе, сидела какая-то пестрая птица: то ли дрозд, то ли клест — не особо в них разбираюсь.
Справившись с приступом, я отпустил, наконец, багажник, и осторожно выпрямился. Застыл в оцепенении.
Пульс вновь заухал в висках, как гигантский отбойный молот.
Зрение практически полностью вернулось в фокус, но того, что я увидел вокруг, просто не могло быть. Никак. Разве что в дурном сне…
Серый асфальт растрескался, кое-где вдоль выцветшей разметки пробивались островки травы, столб оплетали нити вьюнка. Рядом замер давным-давно сгоревший и успевший основательно прогнить бензовоз. Стекла в кабине осыпались, и скелет водителя серой кочерыжкой торчал за рулем. В толстую опору надземного перехода врезались сразу две легковушки. Двери одной были распахнуты. Часть закрытого пешеходного моста обрушилась прямо на дорожное покрытие. Но не сама по себе, а так, словно по пролету врезали чем-то большим и тяжелым вроде экскаваторного ковша. За отбойником, метрах в пятидесяти темнела сплющенная фурой легковушка. Сам длинномер лежал под разбитым рекламным щитом поперек трассы. А за ним виднелись крупные искореженные обломки, разбросанные далеко против движения по обочине. Столбы там были поломаны, отбойник перекручен, асфальт покрывали глубокие царапины, а за фурой валялся большой цилиндр. Если прикинуть вероятную траекторию полета этой махины, получалось, что именно она проломила пешеходный мост и опрокинула грузовик.
Бомба? Не взорвавшаяся ракета? Что это за фиговина?
Следующая мысль испугала гораздо сильнее увиденных разрушений.
На этом участке Киевского шоссе не было движения.
Вообще.
Наша машина стояла посреди трассы, недалеко от центрального отбойника. От бампера до бампера тянулись ржавые царапины. Мы перестроились в левый ряд, потом, видимо, потеряли управление, отскочили от ребра ограничителя и встали.
Все остальные машины — были они разбиты или выглядели более-менее целыми — тоже стояли как попало, будто кто-то выключил их на ходу и бросил. Словно игрушки. А некоторые, что уже совсем не укладывалось в голове, были оплетены вьюнком.
Окружающий пейзаж походил на фантасмагорию. На вымысел спятившего художника. На кошмарный сон…
Сердце бешено колотилось в груди, страх все туже сжимал в холодных тисках рассудок, заставляя беспомощно оглядываться, не давая трезво рассуждать.
— Борис! — крикнул я, чувствуя, как подступает паника. — Эй! Кто-нибудь!
Дрозд-клест испуганно защебетал и полетел прочь. Из-за забора вспорхнула целая стайка пичужек поменьше. На грани слышимо сти раздался то ли свист, то ли скулеж.
Брат не отзывался. Никто не отзывался. Хотелось делать что угодно: ходить, бегать, кричать, — лишь бы притупить накатывающий волнами страх.
Доберусь хотя бы до пешеходного моста, разведаю обстановку.
Озираясь, я отошел от машины. Ноги получалось передвигать с трудом, слабость все еще не позволяла двигаться быстро и уверенно.
Меня мотало из стороны в сторону, колени ходили ходуном, но равновесие держать уже получалось. Осторожно подойдя к бензовозу, я на автомате заглянул в открытую кабину и шарахнулся от истлевшего скелета.
— Твою мать…
Мгновенно вернулась тошнота. Издалека обгоревший водила выглядел нестрашно, а вот так, с расстояния в пару метров…
Меня в третий раз вывернуло прямо на асфальт. Казалось бы, уже нечем, ан нет: запасов тягучей желчи хватило. Вдобавок жестоко закружилась голова, и пришлось с минуту ждать, согнувшись пополам и уперши ладони в колени.
В правом кармане джинсов, которые, в отличие от футболки не разошлись по швам, что-то мешалось.
Мобила!
И как раньше не вспомнил!
Я разогнулся, достал телефон, раскрыл его привычным движением. Выключен.
Треснувший экран безжизненно темнел. Краска на пластиковых вставках облупилась, надпись стерлась, от узнаваемого бренда осталась только буква «а».
Дрожащим пальцем я не сразу попал по нужной кнопке. Надавил.
Давай! Включайся! Ну же!
Раздался сухой щелчок. Задняя панель отвалилась и шлепнулась под ноги. За ней вывалился потускневший аккумулятор.
Чувствуя, как страх подступает с новой силой, я нагнулся, сгреб запчасти в кучу и трясущимися руками собрал телефон, в глупой надежде, что он вдруг сказочным образом заработает…
Куда там! Аппарат был мертв. Давно.
Я машинально сунул его обратно в карман и еще нетвердым, но быстрым шагом направился к ближней опоре пешеходного моста.
— Борис!
От крика с цистерны бензовоза вспорхнула стайка воробьев. За ними в воздух поднялись несколько голубей, а следом, шумно хлопая крыльями, взлетел огромный черный ворон. Откуда здесь столько пернатых?
Возле бетонной громадины я остановился. Лестница, ведущая наверх, была завалена ветками и мусором. Нижние ступени скрывались под слоем почвы, который тянулся от газона через брусчатку тротуара. Словно водой намыло. Знак пешеходного перехода закономерно торчал рядом с бордюром, но некогда синий квадрат потускнел и покрылся грязью — привычного человечка с лесенкой на нем было не различить. Разметка на дороге тоже поблекла. Покрытие в целом разрушилось несильно, но потрескалось капитально. Тонкие полоски травы зеленой паутиной покрывали асфальт. Складывалось ощущение, что я не на федеральной трассе около Москвы, а в глубинке, где по недоразумению отмахали по четыре полосы в каждую сторону и забросили никому не нужный автобан лет на двадцать…
Последняя мысль жутким эхом раскатилась по сознанию, вызвав совсем уж неуместные ассоциации. Я по инерции сделал еще несколько шагов, заглядывая за покрытый ржавыми язвами микроавтобус, и встал как вкопанный.
Посреди шоссе торчало деревце. Небольшая, тонкая осина чуть-чуть скривилась возле корня, прорастая сквозь трещину в асфальте, но дальше тянулась к небу стройным и вполне здоровым стволом и ветвями. Ветер едва заметно колыхал зеленые листья, вдыхая жизнь в застывшую картину и будто издеваясь над моим воображением.
Этот штрих пейзажа доконал меня окончательно. Колени снова подогнулись, и я уже готов был взвыть, чтобы очнуться, вырваться из затянувшегося кошмара, как по ту сторону забора повторился звук. Тягучий, пугающе реальный, наполненный отчаянием скулеж или… стон.
— Эй! — хрипло крикнул я, срываясь с места, спотыкаясь и чуть не падая. — Отзовитесь! Я здесь!
Стон будто бы отдалился. Или показалось?
Я обогнул опору и притормозил. Угол забора изогнулся, крайняя секция была опрокинута. Сразу за тротуаром начинались густые заросли кустарника, над которыми нависала молодая, но уже разлапистая сосна.
Стон оборвался. Зато краем глаза я заметил движение — правда, вовсе не в той стороне, откуда доносился звук, а правее, возле врезавшихся друг в друга легковушек.
Резко развернувшись, я успел увидеть, как между машинами мелькнул силуэт.
— Подождите! — заорал я, шагая к легковушкам. — Эй… Да стой ты!
Силуэт появился еще раз, уже дальше, за следующими автомобилями. Продолжая срывать голос, я рванул за беглецом, но почти сразу пришлось остановиться: перед глазами потемнело от слабости. Я опять уперся руками в колени, отдышался.
Так, по крайней мере, я здесь не один. И даже улепетывающий со всех ног человек — это человек. Хотя, с чего я взял, что это именно человек? Видно было лишь силуэт…
— Да ну на фиг, — пробормотал я самому себе. — Не накручивай.
Хватит бессмысленных телодвижений. Хочешь понять, что происходит, нужно сосредоточиться и поработать головой. Без истерики.
Так, последнее воспоминание… последнее… Мы с Борисом посадили маму на рейс во Внуково, дернули кофе в закусочной и поехали обратно в Москву. У меня днем намечалась встреча с клиентом, показ квартиры, а вечером планировали с Элей сходить в кино. Борису тоже надо было по каким-то срочным делам. Он и так водит агрессивно, но тут вообще дал жару: нырнул в туннель и, выскочив на шоссе, перестроился сразу в крайний левый ряд. Кажется, кого-то подрезал… А дальше? Что-то случилось. То ли удар, то ли свет просто разом погас.
Не помню.
Может, мы разбились насмерть, и…
— Не накручивай, — повторил я уже громче.
Поморгал и шумно выдохнул.
Фыркающий звук повторился, словно кто-то неумело передразнил меня. И этот кто-то стоял сзади.
Я вздрогнул. Сердце заухало, как поршень в моторе. Что-то удержало меня от резкого движения. Будто почувствовал: нет, нельзя дергаться, иначе он моментально нападет.
«Кто? — взорвалось в мозгу, заставляя и без того заходящееся сердце ускорить ритм. — Кто — он? С чего я взял, что там не человек?..»
Только-только начавшие выстраиваться мысли вновь посыпались, как сметенный ветром карточный домик.
По шее и спине бежали мурашки. В затылке будто кто-то сверлил дырку — настолько явственно ощущалось присутствие. И взгляд. Чужой, голодный, нечеловеческий.
Еле сдерживая животное желание сорваться с места и бежать без оглядки, я застыл на несколько секунд. Даже дыхание задержал. Собрался с духом. В голову, сквозь шум пульса, пробилась единственная более-менее четкая мысль, за которую удалось зацепиться, как за соломинку: «Если он не напал сразу, то можно договориться».
Стараясь двигаться плавно, я убрал вспотевшие ладони с коленей, разогнулся и медленно-медленно повернулся всем корпусом.
Интуиция меня подвела.
Договориться с ним было абсолютно нереально…
Возле бетонной опоры стоял волк.
Я почему-то сразу понял, что это не собака, а именно волчара — матерый, голодный, неизвестно откуда взявшийся в этих краях.
В лучах пробившегося сквозь облака солнца взъерошенная шерсть на его спине блестела, и это со стороны могло показаться даже красивым, если бы не оскал. Взгляд невольно цеплялся за ряды грязно-желтых зубов, останавливался, и отвести его от этой смертоносной ухмылки было уже невозможно. Острые клыки отпечатывались в сознании, гипнотизировали, подавляли волю, вызывали в генной памяти какой-то дикий, древний страх. Мелко дрожащая верхняя губа оттеняла статичную фигуру хищника. А черный холод глубоко посаженных глаз вымораживал почище зимней вьюги. В них не обязательно было смотреть. Они сами… смотрели, превращая мышцы в камень.
Выйдя из ступора, я прерывисто вдохнул и, едва чувствуя ноги, сделал маленький шажок назад. Под кроссовкой скрипнул камушек, и я вновь замер.
Волк моментально перестал скалиться, уронил голову на бок и заскулил. Вот что за стон я слышал пару минут назад в кустах! Только теперь эта смесь рычания, воя и хриплого скулежа больше не казалась жалобной или отчаянной. Звук заставлял ежиться, сжиматься, подталкивал бежать… Рассудок подсказывал, что бегство сейчас равноценно смерти, но тело, подчиняясь первобытным инстинктам, работало само.
Я попятился, смещаясь к ближайшей машине. Укрыться в салоне не успею, но кузов легковушки — хоть какая-то защита: остаться с хищником один на один на открытом пространстве, значит стать его быстрой добычей.
Я не побежал, не запаниковал. Я отступил, и это дало мне шанс выжить. Мозг заработал на удивление четко. Возникло ясное понимание, что к зверю нельзя поворачиваться спиной. Появилась трезвая оценка сил, осознание его превосходства в скорости. А еще захотелось найти оружие, любое, чтобы не чувствовать себя настолько беспомощным.
Ткнувшись спиной в машину, я вздрогнул и судорожно нащупал пальцами ручку задней двери. Дернул. Бесполезно: закрыто.
Хотел было проверить переднюю дверь, но в этот миг волк сорвался с места и помчался на меня. Беззвучно, стремительно, еле слышно шурша лапами по асфальту. От вида быстро приближающегося хищника кровь застыла в жилах. В его движениях чувствовался опыт охоты, умение настигать и убивать добычу. Он несся с единственной целью: сбить меня с ног и вцепиться в горло, чтобы загрызть…
Время словно замедлило бег, картинка развалилась на отдельные кадры. Зверь приближался скачками, каждый из которых выделялся обострившимся зрением в отдельный рывок. Мозг отмечал траекторию несущейся серой массы как пунктир, упирающийся полупрозрачным концом в мою грудь. Листья на проросшем в дорожной трещине деревце замерли вместе с порывом ветра.
А затем мир словно взорвался, наполняясь резкими движениями, ощущениями, пугающим звуком шуршащих по сухому шоссе лап.
Страх близкой смерти, как электрический заряд, прошиб вдоль позвоночника, махом сняв оцепенение и заставив совершить немыслимый прыжок на грани возможностей организма. Я пружинисто оттолкнулся обеими ногами и сиганул влево, отклоняя корпус и голову как можно дальше от летящего на меня волка. Он уже оторвался от земли, когда сообразил, что жертва ушла с линии атаки. Решительно не желая упускать шанс сбить добычу с ног, хищник крутанулся всем телом, изогнулся в полете и сумел зацепить мое плечо лапой.
Зубы клацнули над самым ухом, но зверь промахнулся. По инерции его унесло на багажник, перевернуло. Царапнув когтями по железу, он приземлился по ту сторону машины и свирепо зарычал.
Падая, я едва успел подставить руки, чтобы не грохнуться на асфальт плашмя. Удар все равно получился сильным, и на мгновение я потерял ориентацию. Разодранное плечо пронзила сильная боль. Сознание поплыло.
Нет! Только не отключаться! Иначе — смерть…
Сжав зубы, я вскочил на ноги и, сообразив, что выиграл секунду другую, побежал к опоре моста. Лестница там хоть и завалена хламом, но других укрытий вокруг нет.
Едва я успел обогнуть дорожный знак и завернуть за угол, как следом донесся до жути знакомый шорох лап, и волк серым призраком выскочил на остановку. Он не промазал, нет. Этот гад все рассчитал: вышел на удобную точку, чтобы взять разбег для решающего броска.
Я подбежал к лестнице, но завал оказался серьезнее, чем выглядел со стороны.
Спотыкаясь, разбрасывая в стороны гниль и ветки, я рванул наверх, но растянулся на первых же ступенях.
Сзади послышалось разрывающее нервы рычание.
Сердце пропустило удар.
«Вот и всё», — буднично мелькнуло в голове, когда я переворачивался на спину, чтобы хоть как-то отразить убийственный бросок…
Хрясть!
Сбитый мощным пинком с траектории атаки, волк отлетел в стену и с утробным рыком ощерился. В первый миг я даже не понял, что произошло, а когда осознал, то напряженное до предела тело вдруг разом расслабилось, словно из него вынули стержень.
Краем глаза я успел заметить, как Борис подался вперед и со всего размаху полоснул волка чем-то острым, заставив того заскулить и отскочить в сторону.
— Пош-ш-шёл! — зловеще прошипел Борис, наступая и не давая зверю опомниться.
Раненый хищник не дольше секунды размышлял, стоит ли продолжать схватку. Расклад сил изменился, и жертвой мог стать он сам. Не переставая сипло рычать, скалиться, подволакивая поврежденную лапу, волк отступил. Сначала зашел за остановку, а потом проворно нырнул в лаз под забором.
Я запрокинул голову и бездумно уставился в длинную ветвистую трещину на своде.
Сердце ухало, отдаваясь громоподобными ударами в висках и пульсирующей болью в поцарапанном плече. Иней страха, выморозивший грудь изнутри, постепенно таял. Возвращались запахи, звуки. Во рту появился соленый привкус крови: наверное, я прикусил губу или язык во время безумного паркура.
Хотелось полежать так подольше, прийти в себя. А еще больше хотелось проснуться в холодном поту и с облегчением осознать, что эта замусоренная лестница, пыльное шоссе с мертвыми машинами и проросшие сквозь асфальт деревья — всего лишь ночной кошмар…
— Отдохнул? — поинтересовался Борис, протягивая жилистую руку. Во второй он держал саперную лопатку. По всей видимости, догадался прихватить из багажника. — Подъем.
Я с трудом поймал его ладонь и встал на ноги, морщась от боли в плече.
— Покусал? — нахмурился Борис, заметив мою гримасу.
— Царапнул. Обработаю, и заживет, — ответил я, облокачиваясь на перила. — Спасибо тебе.
— Еще заходи, брат, — усмехнулся Борис и подмигнул.
Его скуластое узкое лицо сделалось похожим на морду борзой: вытянутое, с острым носом и рыжеватой щетиной. Борис еще со школьных времен жутко бесился, когда его сравнивали с худощавой собакой, поэтому я старался лишний раз не подначивать на эту тему. Но похож, ох похож! Не зря ему в старших классах кличку Борзый дали. Высокий, сухопарый, резкий в движениях, с характером…
Странный он: мне бы наоборот понравилось такое сравнение, а этот бесится.
— Надо ближе к машине перебраться, — сказал я, отходя на присыпанный землей тротуар и осматривая следы. — Волк может вернуться.
— Еще разок с лопатой поцелуется, — фыркнул Борис, переставая улыбаться.
— Тебе повезло, — покачал головой я. — Если б с первого раза его не ранил, то еще не известно, как…
— Ладно, не топчи клумбы, — отмахнулся Борис, разворачиваясь и шагая поперек шоссе, к «аудюхе».
Терпеть не могу эту присказку. Да еще этим его хриплым тоном. Когда он так говорит, сразу вспоминаются тупые бандиты из девяностых. А Борис вовсе не тупой, и почти не бандит. Он и хрипит не ради эффекта, у него действительно такой специфический голос.
Но сходство все равно есть.
Как и с борзой.
Возле машины Борис остановился, прислушался. Я тоже невольно замер.
Солнце опять скрылось за пухлыми, будто сделанными из ваты облаками, и усилившийся ветер принес обрывки фраз. Что именно говорили, разобрать не представлялось возможным, но на этот раз у меня не возникло сомнений: речь была человеческая.
— Вроде там бормочут, — кивнул Борис в сторону опрокинутой фуры. — Пока обождем. Хрен знает, что у них на уме.
Он положил лопатку на крышу, с хрустом открыл заднюю дверь и полез в салон. На дорогу посыпалась ржавая труха, с порога свисла оборванная резиновая прокладка.
— Ты где был? — спросил я, хотя на языке вертелись совсем другие вопросы.
— На разведку ходил, — буркнул он, продолжая копошиться на сидении. Его летние брюки тоже обветшали и местами разошлись по швам. — Потом тебя спасал.
Слова вроде бы не были обидными, но где-то возле желудка привычно кольнуло. Борис обожал в любой ситуации поставить собеседника в зависимое положение. А уж меня — старшего брата, не добившегося в жизни карьерных высот, — просто-таки считал своим долгом пошпынять при первом удобном случае.
Он, наконец, закончил рыться в салоне и выбрался наружу. Сунул под мышку портфель с документами, протянул кожаный футляр с моими очками и аптечку.
— Держи. Йодом мажься и бинтуйся, если марля не сгнила.
Последняя фраза, как удар хлыста, вернула меня в пугающую реальность. Я повесил футляр на шею, взял аптечку и повертел головой, переводя взгляд со сгоревшего бензовоза на отплетенный вьюнком столб, и обратно. Ветхий скелет водителя продолжал равнодушно скалиться через осыпавшееся лобовое стекло…
— Ты понимаешь, что здесь произошло? — обронил я, запоздало соображая, насколько глупо прозвучал вопрос.
Но Борис, вопреки ожиданию, ответил без издевки:
— Ни хрена я не понимаю. — Он нахмурился. Взгляд стал цепким и колким. Лоб прорезала глубокая вертикальная морщина, какую редко увидишь у тридцатилетнего человека. — Ясно одно: мы долго провалялись в отключке.
— Не просто долго, — поправил я. — Очень долго. Судя по…
Я не нашелся, как закончить фразу. Просто махнул рукой за спину, показывая на ужасающий пейзаж.
— Ага, — подхватил Борис, толкуя жест по-своему. — Я тоже видал, как дерево через асфальт растет. Что последнее помнишь?
— Выехали из туннеля, ты подрезал кого-то. — Я потер лоб, вспоминая. — Всё. Дальше — как отрезало.
— Та же фигня, — согласился Борис, отвинчивая крышку бака и нюхая. — Бензина нет.
— Как нет? — тупо спросил я.
— Так. Выдохся, наверное.
— Не может быть. Ерунда какая-то.
Я говорил в пику фактам лишь потому, что рассудок был не готов признать очевидное. Мне все еще сложно было поверить в то, что нас каким-то невероятным образом перебросило в будущее. В странное будущее, словно бы искаженное…
Борис некоторое время сверлил меня взглядом, будто подозревал, что я знаю больше него, но не хочу делиться. Потом, видимо, усек, что я просто-напросто растерян, и отвернулся. Почесал в коротко стриженом затылке, неопределенно хмыкнул.
— Как думаешь, что с нами случилось? — осторожно спросил я.
— Не знаю, — отозвался он, подходя к кабине бензовоза и заглядывая внутрь. Меня снова замутило. — Где в грузовиках инструменты обычно? Под сиденьем, что ль…
Я не ответил. Борис поворошил что-то внутри кабины, выругался и спрыгнул со ступеньки. Достал зажигалку, пощелкал, вхолостую высекая искры.
— И сигареты ёк, — зло сообщил он, убирая бесполезный предмет в карман ветровки.
— Если мы попали в будущее, то как объяснить все это… запустение? — проговорил я, сам не понимая, кому задаю вопрос, себе или Борису.
— Не знаю.
— Если предположить, что у нас коллективная потеря памяти, то…
Я запнулся.
— Откуда все это запустение, — закончил Борис. — Слышал про летаргический сон?
— Отпадает, — покачал я головой. — Слишком долго получается. Даже по самым скромным прикидкам, дереву, которое на дороге проросло, лет пять.
— Зато многое объясняет, — задумчиво сказал Борис. — К примеру, волка, который тебя чуть не сожрал.
— Ничего это не объясняет, — опять возразил я. — Почему мы не состарились? Почему зимой не перемерзли? Почему нас тупо черви не сожрали? Кстати, чтоб на Киевском шоссе волки завелись, надо всю экологию перекосить. Не Подмосковье. Гораздо шире. А тут всего лишь местная…
Я осекся.
Сердце заухало. В голове зашумело, в конечности вернулось покалывание.
Я рефлекторно поежился.
Кусочки мозаики окончательно сложились в картину.
Повсюду, насколько хватало глаз, темнели безжизненные машины, растения буйствовали так, словно их развитие ничто не ограничивало на протяжении многих лет, там и тут щебетали птицы. Воздух был чист и прозрачен — ни выхлопных газов, ни пыли, ни той надоевшей матовой дымки, которая висит над крупными городами.
Аптечка вывалилась из ослабевших пальцев и с глухим стуком упала на асфальт.
Я уже знал, что сейчас озвучит Борис. Замотал головой, словно не желая слышать, но слова все равно ударили по ушам.
— Такое не только здесь, — сказал Борис и махнул рукой в сторону Внуково. — Пока ты спал, я метнулся к аэропорту на километр. Везде одно и то же. Дохлые машины, заброшенные дома. Ни света, ни огня.
Чувствуя, как приходит осознание трагедии, я отступил на шаг. Будто это Борис был виноват во всем случившемся, будто он мог заразить меня какой-то неведомой инфекцией катастрофы.
— Нет, — сорвалось с пересохших губ.
— Да, брат, — жестко отрезал Борис. — Вырубило, как минимум, все окрестности.
Я снова мотнул головой. Взгляд уперся в большой искореженный цилиндр, лежащий за перевернутой фурой. Уже понимая, что это за штуковина, я сделал еще один шаг назад.
Хотелось убежать от надвинувшейся вдруг реальности. Далеко-далеко, туда, где снова все будет привычно и просто.
— Мама…
Я не узнал своего голоса.
Борис посмотрел на меня исподлобья. Пронзительно, страшно.
— Ее самолет был уже в воздухе, — произнес он, наискось отсекая прошлое.
Ух-ух. Ух-ух-ух.
Меня словно вынули из тела и дали взглянуть на себя со стороны…
Лицо серое, как дорожная пыль, кулаки сжаты до белизны в костяшках, плечо перепачкано кровью, в глазах отражается чистое небо с белоснежными ватными облаками. А под этим прозрачным небом — серое полотно шоссе, разбитый пешеходный мост, сплющенные легковушки, перекрученный отбойник, опрокинутая фура, искореженный цилиндр авиационной турбины…
Ух-ух.
Ух-ух-ух.
Сердце уже работало в штатном режиме, сильно и ровно. Сердце начало отсчет новой жизни, и плевать оно хотело на то, что мир навсегда изменился.
Ух-ух.
Ух-ух-ух.
Пульс ритмично колотил по вискам, взрывая тишину и оглушая чудовищной явью, в которой случилось проснуться.
Сердце билось здесь и сейчас.
Сильно и ровно.
Вопреки.
Купить книгу на Озоне