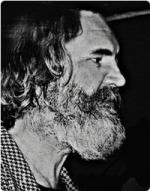14 декабря, в день рождения Геннадия Григорьева, состоится вручение премии его имени. Как и в 2011 году, «Прочтение» публикует «Дневник члена жюри Григорьевской премии» — заметки литературного критика Виктора Топорова на полях подборок, присылаемых на коркурс. Перед вами — вторая порция, первую можно прочитать здесь.
1. Александр Кабанов
Самый известный и титулованный из участников конкурса. В прошлом году не вошел даже в «двойной шорт-лист», однако не чинясь предпринимает сейчас вторую попытку. Что, несомненно, делает ему честь.
Осенью в Амстердаме падают велосипеды —
это осыпаются байковые платаны,
на желтых — развозят почту, медикаменты, обеды,
на красных — разъезжают сутенеры и шарлатаны,
голубые в серую крапинку — для обычных людей,
белые в золотую клеточку — для чиновников и бляд
иногда встречаются черные, которые —
обслуживают кладбища и крематории:
если услышишь черный звонок —
не оборачивайся, сынок.
Лишь зеленые велосипеды, идейно незрелые,
собирают в кучу и сбрасывают в каналы,
слышно, как под водой вращаются
педали, густеет воздух в шипованных шинах.
Ночью их оседлают утопленники,
в час, когда стартуют гонки на приз Лавкрафта.
Детские велики — разноцветные, трехколесные —
приземляются последними, осторожно
спускаются на землю, трезвонят во все звонки:
«Жизнь удивительна, счастье еще возможно…»,
жаль, не хватает твердой руки.
Нынешняя подборка и впрямь куда сильнее прошлогодней — чересчур юморной, чересчур оптимистичной, а потому и несколько дурковатой. Пессимист это хорошо осведомленный пессимист.
Говорят, что смерть — боится щекотки,
потому и прячет свои костлявые пятки:
то в смешные шлепанцы и колготки,
то в мои ошибки и опечатки.
Нет, не все поэты — пиздострадальцы, —
думал я, забираясь к смерти под одеяльце:
эх, защекочу, пока не сыграет в ящик,
отомщу за всех под луной скорбящих —
у меня ведь такие длииинные пальцы,
охуенно длинные и нежные пальцы!
Но, когда я увидел, что бедра ее — медовы,
грудь — подобна мускатным холмам Кордовы,
отключил мобильник, поспешно задернул шторы,
засадил я смерти — по самые помидоры.
…Где-то на Ukraine, у вишневом садочку —
понесла она от меня сына и дочку,
в колыбельных ведрах, через народы,
через фрукты —овощи, через соки-воды…
Говорят, что осенью — Лета впадает в Припять,
там открыт сельмаг, предлагая поесть и выпить,
и торгуют в нем — не жиды, ни хохлы, не йети,
не кацапы, не зомби, а светловолосые дети:
у девчонки — самые длинные в мире пальцы,
у мальчишки — самые крепкие в мире яйцы,
вместо сдачи, они повторяют одну и ту же фразу:
«Смерти — нет, смерти — нет, наша мама ушла на базу…»
Хотя, конечно, и без иронии никуда не денешься:
Боевой гопак
Покидая сортир, тяжело доверять бумаге,
ноутбук похоронен на кладбище для собак,
самогонное солнце густеет в казацкой фляге —
наступает время плясать боевой гопак.
Вспыхнет пыль в степи: берегись, человек нездешний,
и отброшен музыкой, будто взрывной волной —
ты очнешься на ближнем хуторе, под черешней,
вопрошая растерянно: «Господи, что со мной?»
Сгинут бисовы диты и прочие разночинцы,
хай повсюду — хмельная воля, да пуст черпак,
ниспошли мне, Господи, широченные джинсы —
«Шаровары-страус», плясать боевой гопак.
Над моей головой запеклась полынья полыни —
как драконья кровь — горьковата и горяча,
не сносить тебе на плечах кавуны и дыни,
поскорей запрягай кентавров своих, бахча.
Кармазинный жупан, опояска — персидской ткани,
востроносые чоботы, через плечо — ягдташ,
и мобилка вибрирует, будто пчела в стакане…
…постепенно, степь впадает в днепровский пляж.
Самогонное солнце во фляге проносят мимо,
и опять проступает патина вдоль строки,
над трубой буксира — висит «оселедец» дыма,
теребит камыш поседевшие хохолки.
2. Евгений Каминский
Всё пытаюсь вспомнить, за что же я пригласил Женю двадцать лет назад в антологию «Поздние петербуржцы». Приятный парень? Да, конечно, но это же не профессия. Ранний профессионализм (=мастеровитость), если и не обещавший с годами вырасти в нечто большее, то хотя бы не исключавший такой возможности… Да, пожалуй… Но, по-моему, не срослось, хотя мастеровитость на месте. Я не могу понять, почему именно этим человеком написаны именно эти стихи, причем именно этими размерами.
* * *
Когда тебя слегка поддатым
захватят пьяные менты,
наверно, уяснишь тогда ты,
что вовсе не бессмертен ты.
Когда тебя поставят други
промеж собою в полукруг,
как тело скользкое севрюги,
щекой надетое на крюк,
ты будешь мелко трепыхаться,
спадая медленно с лица,
позорно восклицая «Братцы!»,
пока три грозных молодца,
берясь с дубинками за дело,
резинку мятную жуя,
здесь не добьются, чтобы с тела
чулком сползала чешуя.
Не избежать, ни в кодекс — тыча,
ни на прямой вопрос — юля…
Ты в мире этом лишь добыча
в руках ночного патруля.
И на спасенье нет надежды,
конечно, если только сам
ты не архангел под одеждой,
явившийся воздать ментам.
* * *
Брошено слово, а отклика нет, хоть умри.
Только идут на поверхность одни пузыри.
Если ты не был хотя б иногда шестикрыл
в битве с глаголом, то лучше б ты вовсе не был.
В анатомичке покажут тебе, кто ты есть!
Смерть не простит даже вечно живых. Это месть
истины той непреложной, бросающей в дрожь,
что человек, ковырни его глубже, есть ложь…
Что же ты хнычешь?! Подумаешь, мимо прошла
слава людская дурацкой походкой осла.
Разве с небес для похвал ты сорвался сюда,
а не для смут и отчаянной брани суда?!
Вот и ступай себе с миром, покуда не бьют,
рук не ломают нелепым зачинщикам смут.
Слезы твои? Мир вполне обойдется и без,
синь обдирая да звезды срывая с небес.
Поторопись. Ибо жареным пахнет не зря.
Уж над кварталом кровавая всходит заря.
И подбирается грозная к миру волна,
и собирается с ним расплатиться сполна.
Москва
Гнутые березки вдоль болот, лютое, надвинутое небо
и тропы безвольный поворот в сторону, где истины не треба.
Холод отчуждения полей, рощи глушь, запретная, как зона,
и воспеть все это соловей силящийся с удалью Кобзона.
Вот тебе родимые места, Птица-тройка вот тебе лихая!
Над землею гиблой ни креста, ни кола, лишь вышка вертухая,
словно воплощенная тоска… А вдали, как родина другая,
праздная куражится Москва, рожей басурманскою пугая.
Родину по матери послав, смотрит на поля да на болота
царства Вавилонского анклав как баран на новые ворота.
Тот ли все падеж и недород? Так ли все путем кривым да узким
к свету пробивается народ, бывший на земле когда-то русским?
Денежки бюджетные пиля, ставит свечи перед образами…
Русская на кой ему земля, пьяными умытая слезами?!
Корчащийся Лазарем в пыли, сей народ, гробам хранящий верность?!
Что ему шестая часть земли?! Так, Луны обратная поверхность…
3. Катя Капович
Живет в США. Участвует в конкурсе второй раз. Год назад ее стихи всем понравились, но в шорт-лист не попали. Интересно, что будет нынче. Уровень совершенно тот же — и он на самом деле очень высок. Лучшая поэтесса Русского Зарубежья (может быть, наравне с Полиной Барсковой, пишущей совершенно по-другому) это уж как минимум.
Скрэбл
Мы, конечно, наверно в загадку вошли,
за которым занятьем полжизни зевнув,
а на деле все лишь из скрэбла свои
десять букв потянув.
Десять букв потянув, а, глядишь десять лет
все какой-то трещал наверху водевиль —
три плевка, три кивка и знакомый куплет,
и губами жевал шестибровый упырь.
Наверху шел-тянулся плохой сериал
для не очень способных, но добрых людей,
а на деле Аид просто свадьбу справлял
просто тени сплавлял, собирая гостей.
Покатила ладья по Коцит по реке,
зачерпало водичку кривое весло,
засветлел голубой сталактик в пустоте—
это слово нам много очков принесло.
И еще там, на дне — так сказать добрались,
дочерпались до самого дна мы с тобой —
от болтливой игрушки с названием «жизнь» —
залежался, заждался квадратик пустой.
Стихи при этом очень разные.
* * *
Над пустыми, по сути, гантелями,
над гантелями из пресс-папье,
а ведь мы-то, придурки, поверили,
что железные были оне —
наклоняется клоун стареющий,
а под гримом, по сути, старик,
уходящей, хромающей детище
той эпохи последний шутник.
Да и в зрительном зале не мальчики
и не девочки в сумме своей.
Что гантелей бумажные мячики,
сестры младшие лжей?
Мы трапеции этой под сводами
не заметили, как и тогда,
проморгали ее за аккордами —
мы глядели, мой друг, не туда.
* * *
Ты убит в Афганистане,
на твоей могиле крест,
роза над могилой вянет,
и меня обида ест,
что тебя везли мастито
в оцинкованном гробу,
схоронили шито-крыто
и под музыку не ту.
Я приду сюда, в аллею,
по нетоптанной тропе,
вставлю в плеер Чарльза Рэя,
пусть сыграет он тебе.
Чтоб ты вспомнил, как когда-то
пласт винильный ставил нам
после школы, после ада
после рук и ног по швам.
Женская версия Ходасевича?
Турист печальный, одинокий,
средь пирамид как бы урод —
то Бродского припомнит строки
то выразительно зевнет.
Как это высоко, мы знаем,
а высота, известно, злит.
Мы звон монет в уме считаем,
кокос холодный покупаем
среди ацтекских пирамид.
Горит тропическое солнце,
забыты ужасы войны,
фотографируют японцы,
себя на фоне мушмулы.
Кокос нам мальчик открывает,
как скальп снимает с черепной.
И умирает, умирает
история в очередной.
4. Вероника Капустина
Стихи нашей землячки запомнились мне как фантастически изощренные по форме и несколько пустоватые по сути. Вроде этого:
Слежка
Он тихо произнёс
совсем простое что-то,
сказал себе под нос, —
и вот пошла работа:
следим из-за угла,
меняя рост и внешность,
ведь слежкою была
всегда любая нежность,
и воровством… Так вот —
устал, ему так нужно
улечься на живот,
чтобы уснуть послушно.
Следим. Пугаем сон.
И на бок неизбежно
перевернётся он,
чтобы уснуть прилежно.
Мы ходим по стене.
Мы блики-следопыты.
Теперь он на спине.
Глаза его открыты.
Не помнит, что любим.
не знает, что ограблен.
И тьма — под ним, над ним,
он весь во тьму оправлен.
С него смывая тьму,
в рассвет макаем губку —
по радио ему
транслируем «Голубку».
Предложенная на конкурс подборка, однако, в основном не такова: в ней брезжат экзистенциальные смыслы и попадаются, увы, формальные ляпы (вроде «желюка» в следующем стихотворении):
Пора уходить, потому что мы больше не можем.
Пора улетать, и куда, никому мы не скажем.
На этой планете печальны любые пейзажи,
и судьбы всех жителей так некрасиво похожи.
Задраим же люк и вернёмся опять к нашей теме:
к тому, что для нас этот мир недостаточно тесен,
но мы покоряем — сжимая — пространство и время,
и этот рецепт, кроме нас, никому не известен.
Боится кленовая ветка, тревожится птица,
ревёт, как ракета, за окнами мирная фура.
Они полагают, что нам уже не возвратиться,
и, может быть, ветка права, да и птица не дура.
Или в этом без пяти минут (и двух минимальных правок) шедевре:
Последний поцелуй достаётся пустоте
Уильям Батлер Йейтс
* * *
Последний же поцелуй достанется пустоте.
Тянуться недалеко, поскольку она повсюду.
Но она и сама не та, и губы её — не те…
Она поцелует всех. Но я отвечать не буду.
Пусть ходит, висит, лежит. Я этот всемирный морг
Освоила, обжила, и честно плачу ей дань я.
Но кто-то же иногда вдувает в меня восторг,
Кто-то делает мне естественное дыханье.
Или невесть откуда взявшийся «мат», да еще в амфиболической позиции:
* * *
Я бы жизнь провела,
Скользя рукой по руке —
словно вниз по реке,
пока не проглотит мгла
комнату и меня,
шум за окнами, мат,
падающий, звеня,
подтаивающий март,
пошловатый мотив
с настоящей тоской.
Мгновенье цепко схватив,
придерживаю рукой.
5. Игорь Караулов
Подборку Игоря я и в прошлом году оценил высоко, отметив, однако, отсутствие у него собственной интонационно-ритмической системы. И вот он ее, похоже, нащупал, что сразу же превращает его в одного из претендентов на престол. На престол Григорьевки, это уж как минимум.
готический блюз
от замка герцога синяя борода
к замку графа зеленая борода
ведет дорога из снега и льда
дорога из снега и льда
вроде куда-то едешь, а вроде и никуда
дорога идет сквозь сумрачные леса
шляпа кучера трется о небеса
а у каждой ели — синяя борода
у сосны — зеленая борода
вроде куда-то едешь, а вроде и никуда
мешковинный вырви из неба себе лоскут
на губной гармошке туда-сюда погоняй тоску
гаснет у лошади на боку
палевая звезда
вроде куда-то едешь, а вроде и никуда
А еще вот так:
фиолетовая юбка
Город выжмется, как губка,
весь печалью изойдет.
Фиолетовая юбка
на свиданье не придет.
Фиолетовая юбка
на диване, ноги врозь,
говорит кому-то в трубку:
ну, не вышло! не склалось!
Мне теперь не до свиданий
среди лавочек и луж.
Мне доверено заданье
четырех секретных служб.
Я сегодня Мата Хари,
и в сапожках на клею
я на Сретенском бульваре
Борю Иткина убью!
Долго мы терпели Борю,
без пардону существо.
То-то, то-то будет горе
томным девушкам его!
Солнце крутится, как бомба,
в детской, желтой с васильком,
обжигая диски Боба
Марли, Розанова том.
Норовя вдоль книжных полок,
где порядка не найти,
дождь устроить из заколок
и из кнопок конфетти.
А в другом конце истории
загорается софит.
Малый зал консерватории
на три четверти набит.
Там играет Боря Иткин —
юный мученик альта,
и вздыхают ирки, ритки
(не она, не та, не та).
Там играет Боря Иткин,
и кружат в его игре
жизнь в меланжевой накидке,
смерть в нейлоновом гофре.
И особенно вот так:
гуляние черного кобеля
Что делает моего пса красивым,
если не красный красивый поводок?
От такого бледнеет любой противник
и любая сука слабеет на передок.
Озирая победно двор и дома с балконами,
где едва-едва проросшее солнце жжется,
мой кобель похож на старого Шона Коннери
из фильма про Индиану Джонса.
Я с годами тоже, кажется, хорошею,
а то бы пропал, а то бы сгорел дотла,
когда бы твоя любовь на моей шее
на четыре дырочки застегнута не была.
ад
Жизнь будто бы замедленная съемка
неловкого падения на льду.
Не удержала режущая кромка:
сейчас я упаду, и встретимся в аду.
Ад для меня — последняя надежда
увидеть вновь деревья и дома.
Хотя не знаю, как туда одеться:
там будет лето вечное? зима?
Да ладно, всё равно собрать не дали
вещичек, да и взял бы я коньки,
а там — крутить чугунные педали,
чтоб тополя картонные восстали
и близкие остались мне близки.
утро
Рано утром поливальные машины
рвутся в битву, как слоны у Гавгамел.
Рано утром настоящие мужчины,
сердцем львиные, идут на опохмел.
Взоры удочками гнутся через поручень,
там навалена землистая вода.
Посмотри, какие милые чудовища
рассыпают бриллианты навсегда.
Человек, похожий на горбатый мост,
ковыляет в гору по горбатому мосту.
А горбатый мост, похожий на драконий хвост,
хлещет по воде, сверкает медью на свету.
неболезнь
Мне стыдно быть душевно-небольным,
ведь творчество душевно-небольного
истает и развеется как дым,
когда проступит голая основа.
Тогда безумец будет площадей
не голубем, а вольной стрекозою.
Тогда и нищий будет Амадей,
ликующий в воскресшем мезозое.
Чем расстелиться мне под их стопой:
листвой осенней? шубою собольей?
Как устоять мне перед их слепой
фемидой притворившейся свободой?
Мне чудилось, что можно быть смешным,
рассеянным и щуриться волшебно.
Но я рожден душевно-небольным,
а становлюсь больным, но не душевно.
6. Михаил Квадратов
Впервые участвует в нашем конкурсе. Хороший поэт, развивающий традицию прежде всего Николая Олейникова. Ну, в какой мере развивающий, а в какой имитирующий, — на ваше усмотрение.
Мефодий
Мефодий пьян, срывается домой,
Неявный бег кротов под мостовой,
Далёкий клекот бешеных грачей
Его страшит, он беден, он ничей.
И восемь кошек, семеро котят
В окошки укоризненно глядят;
И говорит почтенный господин:
«Повсюду жизнь. Мефодий не один:
Он редко жил, но жизнь себя являла:
Пружинила, срывала одеяло,
Гнала по трубкам кровь и молоко.
Беги, беги — уже недалеко».
* * *
гудят рассветы над золой
там поварёнок удалой
гоняет несъедобных тварей
а остальных берёт и варит
и из обглодышей несложных
меланхолический художник
других ваяет много лет
но не угадывает цвет
* * *
кому тут нянчиться с тобою
здесь небо борется с землёю
и посредине всей фигни
похрустывают дни твои
так фэзэушник недалёкой
среди нелепого урока
тихонько в маленьких тисках
сжимает майского жука
* * *
В отрыв от лета уходя,
Завхоз осеннего дождя
Везёт воды четыре бака,
Его служебная собака
Сидит в тележке тыловой,
Толкает дверку — из-за дверки
Летят стальные водомерки,
Скользят по зыбкой мостовой,
Переливаются, ярятся,
Пугают солнечного зайца,
А тот, в тени липучих слив,
Лежит — бесстрашен и ленив.
Ну и не без Заболоцкого понятно, со всей компашкой
* * *
в среду вечером скажут — сдуру можешь поверить
этой ночью опять умирать — заплакать
и вот из тебя убегают разные птицы и рыбы и звери
в перелески садки перекрёстки слякоть
слёзы глотают — чёрный йогурт четверг — liebe mutter
думать думать одно — холодно — как всего было мало
жизнь вернётся обратно в пятницу утром
мокрой собакой под одеяло
* * *
Горацио, герой природных драм —
нелепый мир его ломал напополам,
да призадумался — быть может, стыдно стало;
герой от радости давай вертеть забралом.
(Так рано утром из последних сил
открытый космос терпит космонавта,
его сварливых баб, его собачку в бантах —
лежит, нахохлившись, и губы закусил.)
Но тщетна радость — в середине сентября
гляди, кого влекут дебелые вакханки
в соседний лесопарк на чёрные полянки:
прощай герой. Жизнь прожита не зря.
7. Андрей Кузьмин
Понятия не имею, кто такой и откуда — и почему он тут. Тем не менее, он тут вполне по делу. Ироник, матерщинник, далеко не бездарный, местами не скучный — why not. Этакий, на мой вкус, подъемелинец, но, в отличие от Севы Емелина, ни темы, ни голоса пока не нашедший. Но, опять-таки, не знаю — может, ему 20 лет. А может, и 55…
Люди живут везде…
Люди живут везде,
Даже в глухой пизде,
Даже в глубокой жопе,
Где нет воды и не топят.
Люди живут в мухосрансках,
Вин не зная шампанских,
Ни коньяков и ни виски,
И ни бум-бум по английски.
Люди выпьют-закусят,
И море им по колено,
Жить надо очень просто,
Все остальное — пена.
Люди живут спокойно,
Не ропща и не ноя,
Люди точно деревья,
Там умирают стоя.
Можжевельник и Береза
«Можжевельник», ответь, я «Береза»
Почему не выходишь на связь?
— Оттого что зимою морозы,
А весной непролазная грязь.
Меж деревьев промерзших и голых,
У истоков застывшей реки
Притулились деревни и села,
И понуро бредут мужики.
Вниз по речке мостки да заборы,
Дистрофической худобы,
Провода, и стальные опоры,
Почерневшие с горя столбы.
Отвечай, «Можжевельник», «Березе»!
Повторяется точно в бреду.
— Я как баба, которая с возу,
Чтоб кобыле полегче, сойду.
Встану поздно. Потом к магазину.
Где-то плачет гармошка назврыд,
Время тянется здесь как резина,
И годами земля не родит.
Мой прадед дворянин…
Мой прадед дворянин
Жил очень широко,
Имел высокий чин,
А сам я ебанько,
А сам я нищеброд,
Работаю как вол,
И полон рот забот,
И я угрюм и зол.
Так в чем же тут мораль?
Так где же тут урок?
Наебанных не жаль —
Смиряйся, дурачок.
И я иду среди
Сугробов в магазин,
Не помня как чудил
Мой прадед дворянин.
Следующее стихотворение следовало бы посвятить Тинякову, но, скорее всего, этот Кузьмин о таком и не слышал
Нищий
Изнывая похотью,
Весь в парше и перхоти,
Да с руками сальными
Выйду я до паперти.
Разверну картоночку,
Набросаю мелочи,
Сяду раскорякою,
Денег дайте, сволочи!
Черному, пропахшему,
Нищему, вонючему
Ссакой да блевотиной,
Форменному чучелу.
Недовольно косится
Старая уборщица,
Вот прошла девченочка,
Отвернулась, морщится.
Ухвачу за юбочку,
Заголю ей ноженьки,
Что, не любишь, девонька,
Нищих, неухоженных?
Засмеюсь юродиво,
Ртом беззубым, гнилостным,
Дай, пизда, на хлебушек,
Хоть чуть-чуть, из милости.
Я сижу на солнышке,
Выставляю прыщики,
Согреваю хрящики,
Дайте денег нищему!
8. Дмитрий Легеза
Петербуржец, врач, один из лидеров «Питера». В конкурсе участвует впервые. Несколько лет назад я невольно (в смысле, без малейшей злости) изничтожал стихотворные подборки Легезы на страницах альманаха «Литературные кубики», просто не понимая, зачем там печатать стихи, да еще такие, да еще в таких количествах. Но и сейчас, познакомившись лично и испытывая к герою данной заметки симпатию, не могу признать его стихи стихами — какие-то они, право слово, ненастоящие. ИМХО.
Товарищ Попова
товарищ Попова
стоит начеку,
но это не повод
не выпить чайку,
врагу Джеймсубонду
по кличке «шпион»,
который в субботу
взорвал эшелон,
везущий спиртное
рабочим Тувы,
которые воют
от жажды, увы
товарищ Попова,
граната в чулке,
и палец толково
лежит на чеке
запомнится Бонду
такой файв-о-клок:
особая бомба
пробьет потолок,
и сорок самбистов
бойцов из ОМОН,
рванутся на приступ,
и сдастся шпион
покуда же повар
несет кренделя,
зажала Попова
во рту канделябр,
как нимфа Калипсо
стоит на столе,
и спрятан под гипсом
ее пистолет
7.
Позитивное
Какой сатин, какой сатин,
по двести, по пятьсот,
с ума сойти, с ума сойти
от этаких красот!
А ситчик-то, а ситчик-то —
горошки, да сердца, —
и девочка лисичкою
глядит на продавца:
— Отрежь-ка василькового
по лучшей по цене,
чтоб наши поселковые
завидовали мне,
чтоб в платьице коротеньком
я выходила в май,
ах, на коленках родинки,
гляди, да не замай.
Вы обсуждайте ситчик мой,
болтайте про сатин —
и агроном Васильчиков,
и фельдшер Константин.
10.
* * *
бессмертный человек идет по коридору,
включает в ванной свет бессмертною рукой,
и мертвая вода, насыщенная фтором,
коснувшись рук его, становится живой
вот он полощет рот, а зеркало над ванной
показывает фильм про зайку в сундуке,
про то, как в кабаках вовсю храпят Иваны —
дурак на дураке
кощеева игла, о, спящие нечутко,
придумана для вас, а правда такова:
я жив, пока жива моя зубная щетка,
пока она жива, она пока жива
9. Евгений Лесин
Московский поэт-минималист (по преимуществу) и иронист. Причем иронический сдвиг порой едва ощутим, но оттого ничуть не менее саркастичен.
Словно гостя-татарина
Вспоминает народ
Космонавта Гагарина
И его самолет.
От тоски ли, от смеха ли,
То герой, то нахал.
Он сказал: понаехали
И рукой замахал.
Все дороги неровные.
А приводят сюда.
Где луга подмосковные,
Где поля и стада.
Где француза ли, чеха ли
Ждет кумыс и мангал.
Он сказал: понаехали.
Жалко, поздно сказал.
* * *
60-е смешные.
70-е бухие.
80-е больные.
И 90-е лихие.
И 00-е силовые.
Правда, порой отменную лесинскую иронию уносит в какие-то ебеня:
Иду по ночному Тушину,
Вспоминаю сладостные моменты.
Вижу плакат: «Голосуй за Пушкина!
Памятник Пушкину в президенты!»
И стоят литературоведы,
Трясут бородами печальными.
Спрашиваю: не ждут ли беды
Россию от такого начальника?
Да что вы, товарищ, очумели?
Какие беды от арапчонка?
От «Пиковой» дамы и от «Метели»?
А у тебя взрослая девчонка?
И смотрят на бабу мою пытливо,
Подозревая, как принято сейчас, педофила.
Взрослая, говорю, просто горб растет криво.
А так ей все 90. Она еще Ленина застрелила.
Ну ладно, говорят, иди на выборы, жопа.
Голосуй и не тряси своим экскрементом.
Я и пошел, а утром гляжу: опа!
Выбрали памятник Пушкину президентом.
Первый же указ: «Голубей ловите.
Ловите от запада и до востока.
А голубя поймав, ему на голову срите.
А потом убивайте мучительно и жестоко».
Ну я и пошел ни шатко, ни валко.
Голубей отлавливать без сантиментов.
Голубей, конечно, немного жалко.
Но мы и не такое видели от президентов
Самое же удивительное — постоянные переклички с петербуржкой Ирой Дудиной
Памяти Тушинского колхозного рынка
Тушинский колхозный рынок закрыт навсегда.
Теперь здесь красивый многоэтажный паркинг.
Занимают лихие беженцы древние города,
О чем по ТВ докладывают радостные доярки.
Улица Свободы. Восточный мост.
А здесь была столовая 500-го завода.
Теперь возвышается во весь свой рост.
«Мебель России» — торговый центр для народа.
Напротив была пивная, теперь бордель-чайхана.
«Утопленником» называли пивную.
Потому что у самой воды. Ответь мне страна,
Сколько еще протянешь? Ведь я один тут кукую.
Кто бы ни пришел к нам — отворяй ворота.
Все равно они нас зарежут, как меньших братьев.
Тушинский колхозный рынок закрыт навсегда.
Трудно торговать с чертом, ничего не потратив.
10. Станислав Ливинский
Первое впечатление от не знакомого мне до сих пор поэта, будто он входит в Лито «Питер» (пусть и с иногородней пропиской),быстро проходит: он как-то ответственнее, серьезнее, экзистенциальнее:
* * *
Маленький город испуганно глянет.
Дочка-весна мерит мамино платье.
Эта хандра так внезапно нагрянет,
как дальний родственник — вечно некстати.
Чуть погостит, а потом — умотает,
крепко обняв, по случаю разлуки.
Маленький город. И раньше светает.
Господи, Боже Ты мой, близорукий.
Жучка на привязи нехотя лает,
жмурится, шельма, на первое солнце.
На ночь свернётся калачиком с краю,
так и подохнет, и так же спасётся.
Так и спасётся. Тебе ли на счастье?
Ранняя Пасха в начале апреля.
Нас разделяют на равные части.
Ходики бьют всё быстрей и быстрее.
Но обрываются на полуфразе,
жгут, пропивают огромную фору.
Лечь, говоришь, умереть восвояси.
Господи, Боже Ты мой, беспризорный.
Маленький город, и я был моложе,
делая вид, что чего-то да стою.
Если бы точка… Но точка чуть позже
станет, пустив корешок, запятою.
* * *
От майских — ни соринки, ни следа. На курьих ножках страшные бараки.
Ни мира, ни, тем более, труда. Об этом и помалкивают флаги.
Ещё был двор, колонка и вода вкуснее, чем на кухне из-под крана.
По поведенью пара, два труда, продлёнка и зашитые карманы.
Потом — осенний день и первый снег всё обнажал, припорошив детали.
И отходил очередной генсек. Я молча пересчитывал медали.
Смотрел, но всё куда-то не туда. На кумаче в очко играли черти.
Гори, гори, кремлёвская звезда, звезда любви… Звезда любви и смерти.
Всё не сбылось, как насвистела мне давным-давно усатая цыганка.
Пластмассовый солдатик на войне, убитый из игрушечного танка.
Он падает замедленно в листву, пересекая траурную ленту.
И я серпом срезаю трын-траву, и молот там кладу, где инструменты.
Известное выражение «пустячок, а приятно» к этим стихам не подходит, потому что они, разумеется, не пустячны. Но все же за рамки «приятности», по-моему, не выходят.
памяти отца
Напомни тот мотив несносной тишины.
Сухое молоко, потом — сухие слёзы.
Ещё была зима, но что-то от весны
сквозило невзначай в её нескромной позе.
Напомни тот мотив, напой его слегка.
Зима, сосновый гроб, опешивший прохожий.
Когда б ушанку сняв, ты простоял века…
Ну, всё. Надень. Пойдём. Простынешь, не дай боже.
Ещё горелый хлеб, отцовский самогон.
И он на свете том сидит, как именинник.
Я помню — брат забрал его магнитофон,
а я на память взял поломанный мобильник.
* * *
Бог на последнем этаже
печётся о моей душе.
Листая старую подшивку
моих грехов, бранит паршивку.
При свете маленькой лампадки
всё время делает закладки.
Бросает в печь черновики.
Не отвечает на звонки.
И я молчу. Я не жужжу
в тоске по мировой культуре,
и всё под окнами хожу,
как кошка по клавиатуре.
Мой Бог, почти как человек,
вздохнёт и вспомнит прошлый век,
когда выписывали черти
ему свидетельства о смерти.
Потом, когда навеселе я,
стучит крестом по батарее,
чтоб сделал музыку потише.
На сочинителей стишков
всегда глядит поверх очков
и что-то в свой блокнотик пишет.
А я рифмую, лью елей,
всю жизнь торчу на перекуре
с дырявой памятью своей
и тройкой по литературе.
11. Герман Лукомников
Московский иронист-миниатюрист, вполне во вкусе Геннадия Григорьева, изрядно такими штуками (и шутками) баловавшегося. Скажем, обращаясь к дамам, которые предпочли ему автора этих строк (что порой бывывало), он заклинал их, апеллируя к моему малому росту: «Не живите ниже Вити!» Будь у нас какая-нибудь специальная поощрительная премия, Лукомников ее вполне заслуживал бы.
Я увидел девушку своих грёз,
Подошёл и целую её взасос,
Но ей показалось, что тут что-то не так,
И она врезала мне в пятак.
* * *
при виде лис во мраке
привиделись вам раки
* * *
В стаю цапли слетаются.
В стаю цапли сплетаются.
* * *
На снегу — стая
Нас негустая…
* * *
На нас напала
Орда Сарданапала,
А на Сарданапала
Нас орда напала!
* * *
ВСЁ ПРОХОДИТ
КАК ПАРОХОДИК
* * *
Как доктор, стучу молоточком
По буквам, пробелам и точкам.
* * *
Я сегодня очень рад:
Чёрный вычертил квадрат.
* * *
Меня ломало,
Но это меняло мало.
Ломало меня немало,
Но это меня не меняло.
* * *
Я так мечтал о воздушных шарах,
Чтоб их иголочкой:
шарах!.. шарах!..
* * *
Летняя поляна на
полотне наляпана.
* * *
Кто-то
В небо
Пальцем
Тыкал:
«Вкл» —
И «Выкл»,
«Вкл» —
И «Выкл»…
* * *
Закрой глаза — открой рот.
Ну какой же ты урод.
* * *
Казалось,
Коза — лось.
* * *
мы буковки, мы буковки,
не смотрите на нас, не смотрите!
* * *
— Ну как, Велимир?
— Да так, Казимир…
* * *
— Караул! Девятый вал! —
Но художник рисовал…
* * *
Не позволяй душе лениться
А телу позволяй лениться
Оно обязано лениться
Не позволяй ему трудиться
Душа обязана трудиться
* * *
Быть может, в языке другом
весну рифмуют с утюгом.
И поэтессам снятся сны…
да-да… об утюгах весны…
* * *
Бог — художник, Бог — поэт,
Я Его автопортрет.
* * *
Иегова,
Мне фигово.
12. Алексей Любегин
Петербургский поэт старшего поколения, с годами как-то во всех смыслах потерявшийся. Был приглашен к участию в конкурсе еще год назад, но тогда мы его не сумели найти. Нынче, найденный, оперативно откликнулся:
Геннадию Григорьеву
На штурвале два букета
Развевает ветерок.
Петербургскому поэту
Дорог русский матерок.
Осуждать его не смейте!
Из России налегке
Он летит в своё бессмертье
На российском матерке.
Перед ним, как будто воды,
Расступаются века,
Он стоит — дитя свободы —
У штурвала матерка.
На века он нас прославил,
Так прославил — боже мой!
Жизнь расхлёбывать оставил
Нас далёко за кормой.
Сентябрь 2011 года
Трогательно, конечно, но в целом как-то не очень. Да и всё остальное, увы, тоже:
Боль
Тот Витебск позабудется едва ли,
Где мне напомнил ночью снеговей
О бабушке, ночующей в подвале,
Чтобы не видеть пьяных сыновей.
Покорная — не биться в стенку лбом же! —
Придёт в подвал и вдарится в тоску…
Она куда бездомнее, чем бомжи,
Привыкшие к ночному чердаку.
В то утро было мне не до Шагала.
Мне виделась в берёзовом дыму
Не зорька, а старушка, из подвала
Плетущаяся к дому своему.
«Скажу, что ночевала у подруги…
Чтоб дети беспокоились? Ни-ни!»
Она-то знае
Виктор Топоров