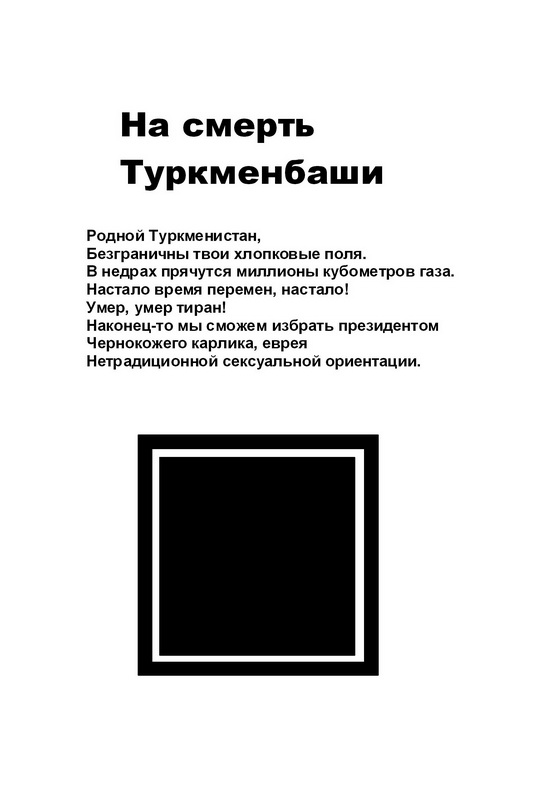29 ноября будет объявлен короткий список Международной поэтической премии им. Геннадия Григорьева, первое вручение которой состоится 14 декабря. «Прочтение» этой публикацией заканчивает цикл публикаций «Дневник члена жюри Григорьевской премии» литературного критика Виктора Топорова.
29. ТАТЬЯНА МНЕВА
Ходила в юности ко мне в семинар; стихи отличались рассудочностью в ущерб поэтичности. Четверть века спустя произошло вот что: поэтичность (минимальную и минималистическую) обрела, а рассудочность переросла в резиньяцию. Стихи были бы недурны, имейся в них хоть какое-нибудь движение (развитие), но они всякий раз заканчиваются в той же точке, в которой начались.
Память о счастье раздвигает колени девам, сужает мужам зрачки,
приставляет лестницу к небесам и роняет вскарабкавшегося на камни,
а ведь хрен припомнит кто-нибудь, что значили понятные когда-то значки,
черные закорючки на белом листе, черные птичьи тельца под белыми облаками.
* * *
Чем ни наполни эту случайную пустоту,
то в ней и сгинет, и потеряет имя,
«в какую сторону идти», — спросишь и в ответ услышишь: «не в ту,
в какую идешь», и что там брезжило искрами золотыми,
что там сияло отчаянной голубизной,
реяло, веяло, не смущалось банальностей и повторений,
все потеряло имя и смысл, как южный полуденный зной
питерской ночью январской. Огонь не возникнет от тренья
слов о слова, о зернистую зыбкую ткань
их неправды и тайны, что прекрасней их, то окажется их и гаже.
Видишь — бесполые, полые, голые — это люди живут, вот меж ними и встань,
не иди никуда, ни в какую сторону, потому что придешь сюда же.
* * *
Все окольные тропы ведут к этому городу все нехоженые пути
если нас подергать за ниточки зажатые в пальцах собранные в горсти
мы и в небо взлетим и встретимся и умрем и восстанем из небытия
и в единое сплавимся и распадемся на многие ты и я
все метафоры рифмы созвучья стекаются к этому городу все не сказанные слова
все безмолвие речи так мало значимой здесь
что пожалуй как нас ни дергай за нитки над каким из миров ни подвесь
все окажется ложь одиночество страх немота синева
* * *
Страшно представить себе: холодный бесстрастный глаз
онтологическим взглядом отовсюду смотрит на нас,
изучает, сверяет, фиксирует жизнь и смерть…
страшно и, в общем, обидно: не на что ему смотреть.
30. Андрей Чемоданов
Катастрофически маленькая подборка. Профессиональное владение общеевропейским верлибром и осмысленное его применение. И все же — возможно, в силу недостаточного объема (такие стихи надо читать — если их надо читать — целыми сборниками) — общая картина как-то не складывается.
Зачем тебе кошелёк
первый
мне подарила мама
по случаю окончания
четвёртого класса
через неделю украли
а в нём был только
список матерных выражений
которые я хотел
вызубрить к первому сентября
второй отобрал
троллейбусный контролёр
«зачем тебе кошелёк
если нет на штраф»
ещё один я порезал
на ремешок для часов
и осталось ещё
на заплату на джинсы
последний
я съел
в Ленинграде
голодал
вырезал кнопку
вытянул нитки
сварил посолил сжевал
на вкус он был как кошелёк
а сегодня
(через шестнадцать лет)
подарили новый
пригодится
на всякий случай
на чёрный день
Сырое мясо
четырнадцать лет назад
на солдатской кухне
я был рубщиком мяса
и снова и снова
бил топором
по свиным и говяжьим тушам
ошметки сырого мяса
долетали до самого потолка
покрывали меня как снег
но кости не поддавались
для меня
это был непосильный труд
ведь я весил всего 50 кг
то есть четвертую часть свиньи
и не больше 12-ти топоров
неизвестно с чего я взял
что сырое мясо содержит что-то
что теряется при его
приготовлении
выбирал
ошметки покрасивее
мыл жевал и глотал
без перца и соли
они были почти безвкусны
сырыми
их было не прожевать
теперь предлагая вам
ошметки своей души
я должен их
проперчить
посолить
хорошо прожарить
назвать стихами
самые нужные вещества
будут утрачены навсегда
но все же
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Update А.Ч. прислал расширенную подборку с очень смешным стихотворением про секс. И всё же общая картина не складывается; а если да, то не слишком выигрышная
31. Ян Шенкман
С приятной горчинкой, как-то убедительно искренние стихи. Перекликаются с ближайшими соседями (по моему чтению) — Чемодановым, Мневой и, в меньшей мере, Бобрецовым — по умонастроению. Тянут если и не на премию Андрея Белого, то уж на стакан водки бесспорно.
* * *
Я думаю обо всем сразу.
О ближайшем будущем. Как правило, ничего хорошего.
О далеком прошлом, населенном тенями прошлого.
А на углу Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова по ночам стоит баба, приятная моему глазу.
Я думаю обо всем сразу.
Никак не могу сделать выбор.
Необязательно правильный. Хоть какой-нибудь.
Стоит только закрыть глаза — трое в комнате:
Президент Российской Федерации,
премьер-министр Российской Федерации
и какой-то неизвестный мне пидор.
Никак не могу сделать выбор.
Погружаюсь в реку времени с головою.
Глубже, глубже. Только это не река, а болотце.
Много раз я хотел бросить все и жить как придется.
Но для этого нужна огромная сила воли.
Просто невероятная для меня сила воли.
* * *
Что бы ни случилось — ничего страшного.
Чуть-чуть подташнивает? Ничего страшного.
Сносит башню? Ничего страшного.
После вчерашнего — ничего страшного.
Все равно все как-нибудь образуется.
Перемелется, переверится, перелюбится.
Я смотрю на тебя, а ты смотришь в окно на улицу.
Не кричи, не плачь, не буди спящего.
Ничего из ряда вон выходящего.
* * *
На углу стоят скамейки,
В луже плавает гондон.
У меня есть две копейки
И мобильный телефон.
На скамейке Коля с Машей
Отдыхают без штанов.
Ничего не знаю гаже,
Чем взаимная любовь
32. Галина Рымбу
Интересная поэтесса, которую я подсмотрел в Сети. Расфокусированное образное мышление с чисто медитативными входами-выходами. Местами смутно походит на стихи Елены Шварц — только внутренний мир куда менее артикулированный; смятение, проистекающее из постоянных метаний (не исключено, что и наоборот).
Я во сне перестал побеждать.
Ю. Кузнецов
в черепной коробке земных передач
наступает ночь, я сложусь воедино.
чёрный эпос — кифары своей циркач
разбивает волной цветную витрину,
белый эпос нудит на щекастой трубе
что-то пошлое, красное спьяну.
осень едет на старом горбе
к той горе, где звучать перестану.
ждать, курить, во дворах поджигать целлофан
и во сне золотой целовать нотный стан, —
беглой музыки жало иное,
алкогольное, ледяное.
почему так легко зарыдать?
причастившись заморской двойной пустоты,
на асфальт, на сухие в прожилках цветы
лить вино, умирать без героя.
а вернёшься домой, — всё иное,
подоконник в шмелях золотых.
* * *
Если вдруг вспомнятся тусклые сёла,
Грязные шторы в доме казённом,
Рыжие бархатцы в детской руке,
Жирная щука в прелом укропе,
Папа, как будто чужой, в тёмной робе
Тихо стоит, прислонившись к стене.
Если вдруг станет такой же стеною
Прошлое, — страх остаётся со мною,
Водит по телу студёным пером,
Солнышко делает тёмным пятном.
«Помнишь, — кричит мне, — щуку в укропе,
Дни посторонние в сладком сиропе,
Зуб свой молочный на толстом ковре,
Книжки про ВОВ там, где врут под чистую?
Первой постелью тебя нарисую,
Яблоком адским, галей в игре,
Гулом слепым дискотеки КЦ-шной,
Сломанной лыжей, лежащей в снегу,
Шахматным полем и спрятанной пешкой»
Это не я. Я так быть не могу.
Если вдруг вспомнится запах сарая,
Мелкие яблоки в дождь собираю,
Белую скатерть тяну со стола, —
Это не я, я такой не была.
Дней настоящих горячие розы,
Тело трамвая, сон спиртовой,
Шёпоты горние, мамины слёзы, —
Только и там это кто-то другой.
Белое слово молвить велю.
Это не я. Я таких не люблю.
33. Алексей Остудин
Хорошо темперированные мужские стихи, в чем, собственно, и проблема: слишком уж хорошо темперированные. Мачо не плачут — и это прекрасно, но как быть с остальными сильными чувствами?
Сладкая жизнь
Откупорь старое кино, где первый кадр шенгенской визы —
гостиница, всё включено: свет, холодильник, телевизор.
Балконы поросли бельём сбежавших на пленэр девчонок…
Что в Римини тебе моём на Данте виале в Риччоне,
переживая Амаркорд субботним днём в толпе бесхвостых
друзей, ревнителей свобод, которые протяжный воздух
засасывают, как стакан до синевы на подбородке?!
(не покупай у молдаван венгерские косоворотки!)
В забое древних дискотек добыть несложно чёрный Гугл —
цепями, будто пленный грек гремя, жара идёт на убыль.
Поймав, заблудшую овцу на бойню тащит добрый пастырь,
чтоб мясо завернуть в мацу, запить вином и сдобрить пастой —
у повара кишка тонка и кетчупом облита тога…
пусть брызги молний с потолка внезапны, будто мысли Бога!
Пора бы стариной тряхнуть: лицом к лицу, в пылу забавы,
пройдём скорее этот путь по макаронине зубами!
Сакартвело
Танцующий лезгинку шесть веков
оброс Тбилиси шерстью облаков —
оттуда и прядётся нить Кавказа.
Куру с Арагви Лермонтов связал:
у Грузии зелёные глаза
и гибкий стан девицы, что ни разу.
Я здесь гнездо стеклянное совью
чтоб миндалём украсить жизнь свою.
Шелковица икру и пудру мечет,
как будто запах чачи ни при чём,
цепляет ветер гаечным ключом
и с болью выворачивает плечи,
захочешь — колыбельную споёт…
Приходит время «запад-на-перёд»
туманом на коленках горы штопать.
А в Кобулети, ниже на этаж:
напоминает губы целаваш,
аджарский хачапури — глаз Циклопа:
холодной пеной море врёт в лицо,
не дождь идёт, а горькое винцо,
овечьим сыром небо быть могло бы
где смерч на горизинте до краёв
налит, как рог, и только грома рёв,
и голоса навстречу: гамарджоба!
34. Александр Кабанов
Один из заведомых фаворитов — и по общей известности, и по качеству, и по внутренней близости к поэзии и поэтике Геннадия Григорьева.
* * *
Се — Азиопа, ею был украден
и освежеван древний бог,
из треугольных рыжих виноградин —
ее лобок.
И мы в мускатных зарослях блуждаем,
когорта алкашей.
Овидий прав: так трудно быть джедаем
среди лобковых вшей.
Се — Азиопа, наша ридна маты,
кормилица искусств.
Кто нынче помнит Зевса? Жестковатый
и сладкий был на вкус.
Так, впрочем, сладок всякий иноверец,
философ и поэт,
добавь в судьбу — лавровый лист и перец,
ты сам себе — обед,
обед молчанья, кулинарный случай,
подстережет в пути,
гори один и никого не мучай,
гори и не звезди.
С иронией порой перебарщивает, но не слишком. Несколько хуже другое: отчетливо видно, куда бежит поэт, но так и остается непонятным, откуда. То есть не просматривается творческий первотолчок: не почему пишет так, а почему вообще пишет?
* * *
Полусонной, сгоревшею спичкой
пахнет дырочка в нотном листе.
Я открою скрипичной отмычкой
инкерманское алиготе.
Вы услышите клекот грифона,
и с похмелья привидится вам:
запятую латунь саксофона
афро-ангел подносит к губам.
Это будет приморский поселок —
на солдатский обмылок похож.
Это будет поэту под сорок,
это будет прокрустова ложь.
Разминая мучное колено
пэтэушницы из Фермопил…
…помню виолончельное сено,
на котором ее полюбил.
Это будет забытое имя
и сольфеджио грубый помол.
Вот — ее виноградное вымя,
комсомольский значок уколол.
Вот — читаю молчанье о полку,
разрешаю подстричься стрижу,
и в субботу мелю кофемолку
и на сельскую церковь гляжу.
Чья секундная стрелка спешила
приговор принести на хвосте?
Это — я, это — пятка Ахилла,
это — дырочка в нотном листе.
Эту вечную ухмылочку хорошо бы скомпенсировать изгойством, но вот чего нет, того нет (как написал бы В.В.Розанов, мысленно сопоставляя с Григорьевым).
* * *
как его звать не помню варварский грязный город
он посылал на приступ армии саранчи
семь водяных драконов неисчислимый голод
помню что на подушке вынес ему ключи
город в меня ввалился с грохотом колесницы
пьяные пехотинцы лучники трубачи
помню в котле варился помню клевали птицы
этот бульон из крови копоти и мочи
город меня разрушил город меня отстроил
местной библиотекой вырвали мне язык
город когда-то звали Ольвия или Троя
Санкт-Петербург Неаполь станция Кагарлык
там где мосты играют на подкидного в спички
город где с женским полом путают потолки
на запасной подушке вынес ему отмычки
все мое тело нынче сейфовые замки
и заключив в кавычки город меня оставил
можно любую дату вписывать между строк
кто то сказал что вера это любовь без правил
видимо провокатор или Илья пророк
а на душе потемки чище помпейской сажи
за колбасою конской очередь буквой г
помню как с чемоданом входит Кабанов Саша
на чемодане надпись Дембель ГСВГ *.
* СВГ — Группа Советских Войск в Германии.
35. Игорь Караулов
Хороший поэт. Даже очень хороший. Хороший, но наполовину игрушечный: флейта-пикколо. Великолепная ирония, замешенная на смирении, которое, впрочем, отдает и стоицизмом; внутренняя (да и взаимная) сбалансированность стихов ему бесспорно в плюс. А что в минус? Маскирующееся под умеренный постмодернизм, а на деле вынужденное обращение к чужим интонационным и ритмическим ходам. Даже в верлибре (см. третье стихотворение)
из детства
Мальчик толстый, кудрявый, еврейский
мешковато бежит по росе.
Папа любит читать юморески
на шестнадцатой полосе.
А поднимет глаза от газеты —
сразу в сердце прорежется плач:
нужники вместо тёплых клозетов
и обмылки малаховских дач.
Просто хочется выть от ублюдочности,
от пригорков в собачьем говне.
«Нету будущности, нету будущности
у Илюшеньки в этой стране».
Мама рыжики ест в маринаде
и читает журнал «Новый мир».
Папа будущность видит в Канаде,
собирается ехать в ОВИР.
Я не знаю, уехали, нет ли.
Кто хотел, уезжали всегда.
Слово «будущность» — в книжке поэта
разъяснилось мне через года.
Оказалось, что будущность — это
когда ты осторожно войдёшь,
в непонятное что-то одета,
как советская вся молодёжь.
* * *
Я имею право
говорить себе.
Я не умираю
в классовой борьбе.
Ни в литературной (мутной и блатной),
ни в контрокультурной,
ни в какой иной.
Не забили рот мне
всяким барахлом:
патокою рвотной,
мерой и числом.
Я не актуальный,
не передовой.
Я полтораспальный,
тёплый и живой.
Я таскаю тело,
как отшельник-рак.
И чихать хотел я
на грядущий мрак.
фуга
Стоит отлучиться на секунду —
в магазин, скажем, оплатить мобильный —
и уже считают, что ты умер,
а то и чего похуже.
Прямо на секундочку отлучиться,
за цветами вот, за сигаретами для дамы,
за ингредиентами, нужными в хозяйстве.
Зато какие там цены!
Копейки медные, стотинки, оболы,
детские смешные деньги.
На секунду, мухой,
бронзовой брошечной мухой,
вслед за дирижаблями из радужной плёнки,
между слоновьих корней секвойи,
вдоль огорода, где растят мороженое,
чтобы в лиловой автолавке
купить сахар, крахмал и дрожжи —
недостающие ингредиенты.
На секунду, буквально туда и обратно —
а тебя уже не замечают,
и чужие люди на твоей кухне
ворочают сковородками
и с железной улиткой
сквозь тебя проходят по коридору.
Вот я, в трениках,
в тапках на босу ногу,
отлучусь на секундочку: сахар, дрожжи.
Даже дверь на ключ не закрываю.
Просто прикрываю.
36. Игорь Сид
Представленная на суд жюри игровая сюжетная и сказочная поэма отсылает, конечно, в какой-то мере к «Дню «Зенита» и к «Доске», но никак не более того. Ее надо (если надо) анализировать подробно; отрывки, на которые она распадается, производят по отдельности невыигрышное впечатление, поэтому не привожу ничего. Общее ощущение: увы, мимо кассы (в том числе и буквально).
Update Более тщательно вычитанный вариант той же поэмы
37. Эля Леонова
Читая Элю, отчетливо осознаешь, что возрастной барьер отсечения надо было ввести не только «сверху», но и «снизу». Неплохие стихи, даже очень неплохие, но какие-то (пока?) беззвучные. Разевает рыба рот…
Рыбаки
Я выхожу на край замерзшего залива.
Деревья за спиной ворчат неторопливо,
и вящей тишиной, и куполом горбатым
малиновая мгла повисла над Кронштадтом,
а где-то вдалеке лишенная осанки
фигура волочет нагруженные санки
(каленые крючки, складная табуретка)
и песенку поет, и всхлипывает редко.
Неясно почему, с какой-то тайной целью,
пожертвовав едой, газетой и постелью,
пренебрегая их небесными благами,
я выхожу на лед и топаю ногами;
а крепок ли залив, а рыба в нем живая,
а снег белее чем, он вообще бывает;
до первых рыбаков с тяжелыми носами.
О чем они молчат смешными голосами?
Один сошел с ума и точит рыбьи кости,
другой карандашу привязывает хвостик
и пишет подо льдом таинственные фразы,
которые для рыб, цветных и пучеглазых.
Вторые рыбаки сидят гораздо молча,
у них суровый вид, и лед под ними толще,
они его грызут, железом беспокоят
и тащат из него на белый свет такое!
Занятие свое отнюдь не прерывая,
они следят за мной, в сомненьи пребывая,
что я мерещусь им, как миражи в пустыне;
и вспарывают борщ, и ждут, пока остынет.
Последним рыбакам пристало борщ в кармане
всегда носить с собой, не то его не станет;
я им машу рукой, прощаться вслух не смея,
и берег вдалеке согнулся и темнеет.
Зачем им только знать, что через четверть часа,
пока они молчат и делают припасы,
на в том же самом льду, под тем же самым снегом,
какой они скребут стремительным набегом,
я что-то, что не снег, блестящее, увижу,
и страшно удивлюсь, и подойду поближе,
и разгляжу окно в его раскрытом виде,
и долгожданный свет ко мне оттуда выйдет.
38. Лена Элтанг
В сегодняшней (отчасти уже вчерашней) традиции повального подражания Бродскому даже отступление к срединному (образца первой половины 1930-х) Мандельштаму воспринимается чуть ли не как новация. Так- в «благополучных» стихах Лены (относительно благополучных, конечно), но куда интереснее заведомо «неблагополучные», в которых слышится незаемный, пусть и несколько амузыкальный, голос.
* * *
приходи я хочу показать тебя кактусу
он цветёт красногубый зима не зима
а на пики тебе выпадает хоть как тусуй
забубённый валет небольшого ума:
алый рот в молоке лоб в холодной испарине
да и тот не приходит хоть волоком но
шелкопряды как мы золотые непарные
всё одно доплетают своё волокно
разговор-то у каждого свой с дознавателем
то ли пить взаперти то ли красным цвести
то ли марш в легион завоевывать звательный
чтобы просто о господи произнести
* * *
я-то знаю как вовремя рвется перепревшая нитка времен:
так бессовестно спится и пьется,
что не помнишь ни лиц, ни имен,
то царапаешь черную спину, то смеешься, то бьешься, пока
где-то месит колдуньину глину материнская злая рука,
так бессовестно пьется и спится (заживает, вот-вот заживет)
что с того, что втыкаются спицы
в свежеслепленный голый живот.
хор молчит. начинается лето, непривычное птичье житье,
и тебя призывают к ответу за античное имя мое
* * *
не завидуй не завидуй вот коробочка с обидой
вот сундук а в нём тряпьё это юность ё-моё
в кольцах стразы в пальцах цейсы
праздность шали веницейской
от вишнёвого ситро слиплось сладкое нутро
вот скворечня но пустая был жилец да весь растаял
станиславский леденец
замусоленный конец
утопился чёрный клавиш ничего сама поправишь
как войдёшь в свои права вот сухая голова
голубого аматёра погорелого актёра
поливай её в жару и люби когда умру
амулет с подъятым удом кто не помню врать не буду
подарил и был таков
не ищи черновиков
нынче ночью тяпнув стопку всё пустили на растопку
ссыпав буквицы с листа как смородину с куста
б. к.
где нынче сидор где коза и кто её дерёт
медовый спас катит в глаза и ясно наперёд:
послать за сидором гонца и пить и пить втроём
он сам корица и пыльца мы сбитень с ним собьём
крошится мёрзлым молоком озёрный край небес
и град идёт идёт пешком и сидор через лес
несётся вскачь в дождевике коварен как шайтан
каштан в кармане и в руке и на крыльце каштан
природа ходит ходуном съедает поедом
и стрекозиный слабый лом и муравьиный дом
гудит в ненастной голове имбирный сладкий спирт
шипастый шар плывёт в траве в нем марсианин спит
* * *
пахнет мокрою рогожей на неапольской барже
хлябь тирренская похоже успокоилась уже
а с утра болталась пьяно билась в низкие борта
еле-еле capitano доносил вино до рта
возвращаешься в сорренто как положено к зиме
укрываешься брезентом на застуженной корме
где сияет померанец не достигнувший темниц:
закатился в мокрый сланец цвета боцманских зениц
итальянские глаголы вспоминая абы как
крутишь ручки радиолы ловишь волны в облаках
в позитано sole sole в риме верди в местре бах
проступает грубой солью маре нострум на губах
возвращаешься счастливый вероятно навсегда
зыбь гусиная в заливе — зябнет зимняя вода
всеми футами под килем и рябит еще сильней
будто рыбы все что были приложили губы к ней
и стоят себе у кромки опираясь на хвосты
и молчат под ними громко сорок метров пустоты
39. Аля Кудряшева
Довольно обаятельные стихи; их сетевая популярность вполне объяснима. Мило смотрелись бы и в книге. Переклички с Полозковой — но без Веро4киной пошловатости и, увы, без ее яркости. Самый оригинальный штрих — начало нумерации стихов цикла не с единицы, а с нуля. Самое точное слово — вальсок.
Рыбный вальсок
Позови меня, брат, позови меня, ласковый брат,
Мы пойдем по дороге туда, где пылает закат,
Где лини и язи при поддержке язей и линей,
Выясняют, какой из князей и который длинней.
Подожди меня, брат, подожди меня, ты терпелив.
Там, должно быть, отлив, а быть может, и вовсе прилив,
Там качаются сосны в сережках тягучей смолы,
Под нежаркое солнце весь день подставляя стволы.
Приведи меня, брат, приведи меня, ибо туда
В одиночку не ходит ни ветер, ни снег, ни вода.
Даже реки, которые были знакомы едва,
Прибывают туда, заплетаясь, как два рукава.
Так что смело шагай, предъявляй меня как аусвайс,
И ныряй в этот вальс, ты ведь понял, что всё это вальс.
На песочный паркет, на сосновый кудрявый шиньон
То язи, то лини серебристой сорят чешуей.
А закат всё пылает, пылает, никак не сгорит.
Не гони меня, брат, не гони, я впишусь в этот ритм,
В этот круг. В этом кружеве всё невпопад в голове —
То язей, то правей, то ли нет — то линей, то левей.
И прилив переходит в отлив или наоборот,
И танцуют жуки среди мшистых лохматых бород,
И Каспийское море в условно укромной тиши
Торопливо впадает в раскрытую волжскую ширь.
И пылает закат, а потом догорает закат,
Не кончается вальс, но кончается сила в руках,
Потускневшая, но дорогая еще чешуя
Возвращается, тихо вращаясь, на круги своя.
Пристрели меня, брат, пристрели, ты же дружишь с ружьем,
Потому что отсюда никто не уходит вдвоем,
Ни линя, ни язя. В одиночку уходят, скользя.
И подолгу молчат. Потому что об этом нельзя.
40. Оля Хохлова
Оле я отдал первое место на конкурсе «Заблудившийся трамвай». В частности, за это стихотворение:
анна анна очнись ты очень больна
береги голову анна она одна
ночь твоя раскаляется добела
но все равно — черна
бабка твоя цыганка — дурная кровь
слышишь стучит сердечко: открой открой
думать не вздумай анна не открывай
это молва пришла тебя добывать
это уже горит и ещё несут
анна я знаю чем завершится суд
что успокоит зуд
.. я бы обнял тебя милая если б мог
но это жар горячечный монолог
ты ошибалась детка неся в бреду
всякую ерунду
память запри
как называл забудь
лопнуло небо и покатилась ртуть
не выбирая путь
свет упразднен. это дают отбой
что там за тип — с крыльями и трубой
..
анна очнись
нарочный за тобой
И за это:
* * *
она горчит как память. как вода
прозрачная, но вязкая на ощупь
во сне перемещая города
течет во мне — без страха и стыда
и совесть — как исподнее — полощет
а мне-то что? я маленький и злой
с прокуренной по кухням головой
в серсо играю с ангелами нимбом
они мне шепчут в правое: давай
другие шепчут в левое: давай
и — либо ты упал и умер, либо —
ступай во двор и мелом нарисуй
все то, что эти ангелы несут
в прозрачных ртах своих и перьях белых
все то, что отрицал и признавал
рисуй о том, что мир — безбожно мал
что ты за ним никак не поспевал
покуда смерть в тебе не подоспела
Но здесь конкуренция куда жестче. У Оли подлинно поэтическое мышление (суггестивно-эллиптическое), но она его, кажется, побаивается и норовит поэтому многое читателю растолковать — разжевать или, если угодно, разбавить (как вино водой) — и напрасно. Есть речи: значенье темно иль ничтожно (ничтожно — зачеркнуть).
В эти сны, чёрно-белые, с титрами,
В этот город немой над Невой,
Я впустил Твою музыку тихую
И она говорила со мной.
Повторяла, занозила, мучала —
Не вернуться уже, не вернуть.
И тоска — загрудинная, жгучая —
До светла не давала уснуть.
Мимо парка, кофейни, закусочной,
Без раздумий покинув кровать,
Я бежал, задыхаясь, за музыкой
В безнадёжной попытке — догнать.
Проступали из мрака — полосками,
Отголосками пыльных гравюр —
Узкобёдрые улицы плоские
В обветшалых домах от кутюр.
Лишь под утро — измучен синкопами,
Поражён тишиной ключевой,
Я очнулся — тревожный, растрёпанный,
А вокруг — никого, ничего.
Только сердце, безрадостно тикая,
На последних аккордах сбоит.
И тоска — чёрно-белая, тихая —
Проникает за шторы мои.
41. Иван Квасов
Собственно, не стихи и даже не иронические миниатюры, а зарифмованные хохмы. Местами остроумно, местами не очень. Такое мы (с Григорьевым) практиковали вовсю, но никогда не считали поэзией: «Не живите ниже Вити», «Хорея от анапеста не отличит она, пизда», и т.п.
Низкие истины
Если дядя с тетей нежен
Кунилингус неизбежен.
Если дядя не опрятен
Секс с ним маловероятен.
Если дядя дяде даст
Дядя станет педераст.
Если тетя некрасива
Добавляйте водку в пиво.
Если женщина грустит,
Сделай что-нибудь. Хоть вид.
Если тетя плохо пахнет
Ее вряд ли кто-то трахнет.
Часть тушки
Мужики купались в речке
За высокою скалой,
Рыбы трогали уздечки
Их пиписек под водой.
Апофеоз ММ
Маленький мальчик по стройке гулял,
Где и оставил свой маленький кал.
Это увидел строитель поддатый,
Старый, больной, обделенный зарплатой.
Мальчик подтерся своим дневником,
Понял старик после взгляда мельком.
Поднял, расправил листы дневника
И задрожала больная рука.
Тройки там были по многим предметам,
И замечания были при этом.
Старый строитель к директору школы:
«Ваш ученик? Составляй протоколы!»
«Это не наше…» и несколько школ
Старый строитель за день обошел.
Долго ходил он по школам, пока
Не обнаружили ученика.
Больше не будет он гадить на стройке…
Дети, стыдитесь учиться на тройки.
Записочка
Вскрываю вены.
Целую
Лена
Укропное место
Басня
Однажды педераст и гомофоб
Решили вместе вырастить укроп
Продать пучками на колхозном рынке
А деньги разделить на половинки.
Вот каковы мечтанья извращенцев
Не покупайте зелень у чеченцев.
42. Шиш Брянский
Сознательная стихотворная стилизация: элементарная (первое стихотворение), переусложненная (второе) и вывернутая наизнанку (третье). Тезис-антитезис-синтез. Талантливо? Безусловно. Интересно? Пожалуй. Хорошо? Вряд ли. Середина-то провисает.
* * *
Друг сердечный, волк позорный,
Лес густой, слуга покорный,
Кот учёный, мэн крутой
Да червонец золотой
Саша Чёрный, Боже Святый,
Лысый, лысый, конопатый,
Сумрак сонный, день деньской,
Сокол ясный, царь морской
Пидор гнойный, гусь хрустальный,
Луг духовный, торт миндальный,
Клён кудрявый, лист резной,
Гроб комфортный заказной
* * *
Там, где бетонную пыль на закате гнилоокий жжёт сетлячок,
Поперёк запасного горла Москвы Яуза вязкая течёт.
В омофорах латунных скунс и лемур по церковным праздникам яд
Из реторт разливают, и больничные трубы дымят.
Там я и встретил его — над рекою прокисшей, близ чавких лагун,
У перил, чей вод её тяжче чорный цинготный чугун.
Он стоял, отравленным паром причащаясь чёрство, юродно кривясь,
Тщетного детства надгробье рябое, полусрубленный полый вяз.
Он меня сразу узнал и окликнул — в бу́рсе мы учились одной,
Я был ссаненький птенчик беспёрый, и власть он имел надо мной.
Помню, ломом ебал он меня и харей тыкал в гавно,
В уши вгонял мне свёрла тупые, и выколол око одно.
А когда излетел я из веси вороньей, как беглый недоклёванный грач,
Смрадным перстом всё грозил в голове из бyрсы вечный палач.
В атлантийской палестре пил я с жыдами мудрости дохлой вино,
А теперь я как он, и нет у меня никого, кроме него.
И вот говорит он: «Что же нас душат, квасят в жилых нужниках,
Что же нас давят всё, давят, не додавят никак?
Нас под землю загнали, вместо нашего хлеба жабские пекут пироги,
О, куда же от едкой этой нам деться монетно-мыльной пурги?»
— Да, — отвечал я, — видишь, мой милый, вот наша судьба —
Скиптр и венец у меня отобрали, кастет и квас — у тебя,
Мнилось — для Лелевых бус наши выи, оказалось — для ихних плах,
Флаг изосрали и крест вороной о десяти крылах,
От полярных стражей нам сабли достались, чтоб мы лютых не боялись врагов,
А теперь борейских мехов сильнее мертвенный крысиный ков.
Но голубино-орлью в печени я выносил месть,
Не печалься, Андрюша, у меня для них кое-что есть.
Не укрепное сусло нам подносят, а подогретый мазут,
Сувениры из нашей крови и костей в мерцедесах диаволы везут,
Море дымится, ярые вепри топчут безгубых Марусь,
А я лечу и воркую, а я стою и смеюсь.
Я кличу: о Волче, провой же нам зорю, о Агнче пурпурный, родись!
Не матерным словом, а ядерным блёвом я разрушу их парадиз.
Я даже сказать не умею, какую проглотят они вафлю,
Когда я им из-под кожи постылой улыбку свою явлю
И Бог наш косматый в красной избе протрубит в медвежий гобой,
И на зимний престол, Его кровью умытый, взойдём мы с тобой,
И ты вновь меня выябешь, выколешь око, накормишь бурсацким гавном,
И двумя орденами священной войны мы зажжёмся в небе льдяном,
И двумя сынами великой страны мы воскреснем в Духе одном.
* * *
Мамка мне Гарчышники паставила,
Акцябровую вдахнула хмурасць,
Выпила за Родзину, за Сталина,
Агурцом салёным паперхнулась.
Мамка пьёт, как папка пил, бывалача,
С Лёхаю касым и с дзедай Вовай —
В Тубзалет схадзила, праблевалася,
А патом па новай, блядзь, па новай.
Мне же Спину жгут газетки хуевы,
Внутрэнее чуйствую сгаранье.
Гадам буду — мне падобнай уеби
Ащущаць не прывадзилась ране.
Цела всё раздулась, как у маманта,
На Щеках смярцельная рубиннасць…
Мамка! мамка! я же сдохну, маменька!
Ни Хуя не слышыт — атрубилась.
Вот как алкагольные напитачки
Да трагедыи парой даводзят.
В тры нуль нуль аткинул я капытачки,
Вся радня сбяжалась, мамка воет.
В гробе я ляжу, с пячалью думая:
Помер, мамка, помер твой рабёнак!
Видзишь, мамка, таки врэзал Дуба я
Ат Гарчышникав тваих ябёных.
Всё?
Всё!
Начинаем голосование.
Виктор Топоров