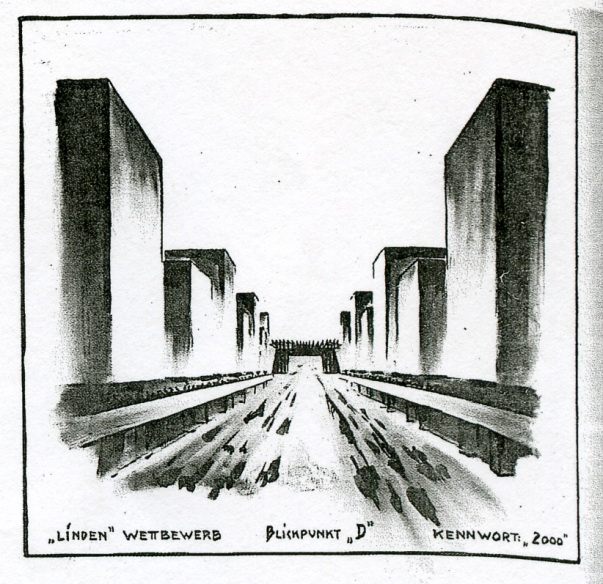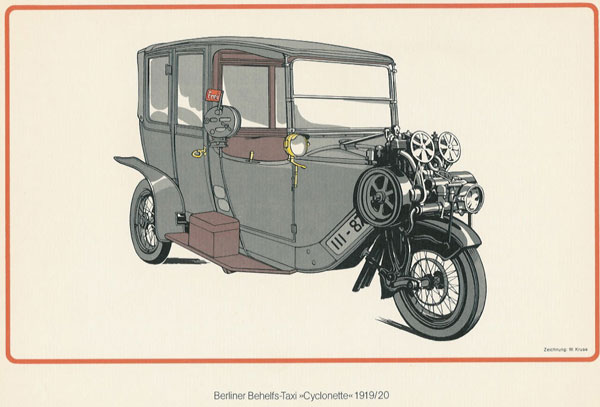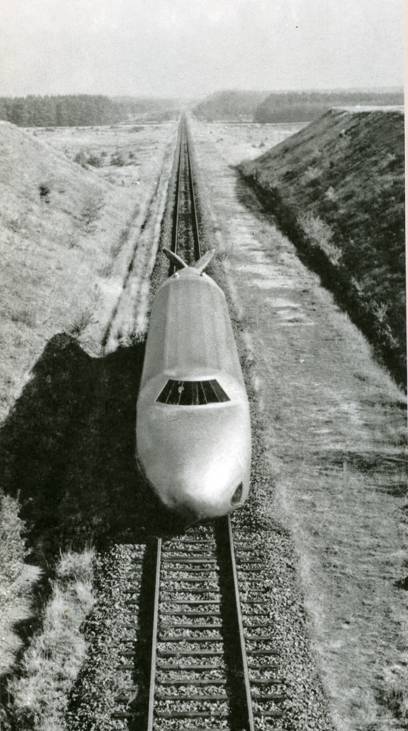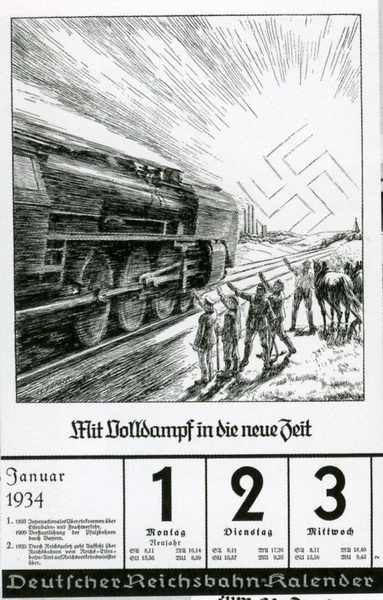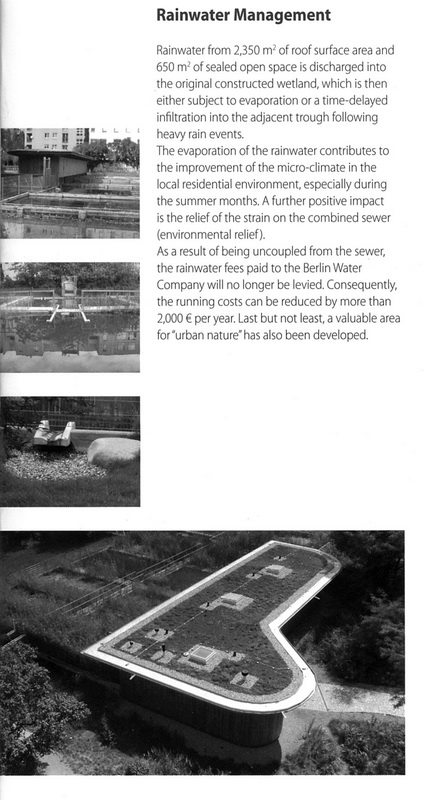Отрывок из романа Сергея Неграша и Анны Варенберг «Талисман»
О книге Сергея Неграша и Анны Варенберг «Талисман»
Ника открыла глаза и попыталась пошевелиться, соображая: где она и что происходит? Память возвращалась неохотно. Дарфар… да, кажется, именно в это проклятое богами место занесло ее. А зачем? Что она здесь забыла?..
Она покосилась на разведенный на земляном полу убогой хижины уже догорающий костер.
Интересно, сейчас ночь или день? Под пологом непроходимых влажных лесов царил вечный полумрак, а сейчас, в сезон дождей, и подавно. Подумав о воде, девушка облизала пересохшие губы.
«Как хочется пить!.. И вообще, надо бы мне встать, выбраться наружу и оглядеться», — отметила она.
Ника приподнялась на жестком ложе и тут же упала обратно, не в силах вынести мучительного, до тошноты, головокружения. Уже давно она не испытывала подобной слабости.
«Да есть тут кто-нибудь, кроме меня?!» — тяжелые веки опускались сами собой, но Ника усилием воли отогнала дремоту. Однако то, что она увидела в следующий момент, было поистине ужасно. Тварь! Гигантская змея, кольцами свернувшаяся в противоположном углу хижины, с мерзким шипением подняла крошечную голову, явно намереваясь напасть.
Ника вскрикнула…
— Очнулась? — спросил человек, входя в хижину. Не обращая внимания на змею, он приблизился к девушке и склонился над ее ложем.
— Там… там… — Ника попыталась предупредить его об опасности, тыкая дрожащим пальцем в угол, но незнакомец, не оборачиваясь, спокойно произнес: — Это Нджомонго, он — друг, его не надо бояться.
Тут Ника, знавшая множество разных языков и машинально переходящая на используемый собеседником, осознала, что человек говорит на английском. И сам он явно не из Черных Королевств.
— Кто ты? — спросила она пересохшими губами.
Тот произнес нечто такое длинное и невыговариваемое, что Ника усомнилась в своем первоначальном впечатлении. Но мужчина тотчас поправился:
— Если проще, мое имя Муонг. А твое?
— Какая разница? — тут же ощетинилась девушка.
— Какая разница? — усмехнувшись, переспросил Муонг. — Ну надо же мне выяснить, как обращаться к жене.
— Какая еще… Я не твоя жена!
— Очень даже моя. Уже половину луны, — возразил он. — И, между прочим, тебе оказана большая честь — быть пятой женой Муонга.
Его слова звучали настолько нелепо, что Ника с удовольствием бы рассмеялась — если бы смогла.
— Вообще-то, я назвал тебя Бара, это по смыслу то же самое, что пятый палец на руке, и если тебя устраивает это имя…
— Нет! Совершенно не устраивает! И дай мне воды.
Мужчина поднял ее голову, подсунув руку под затылок, и поднес к губам Ники половину скорлупы кокосового ореха, наполненную водой.
— Я рад, что ты крепкая здоровая женщина, Бара, — заметил он, — иначе ты бы умерла. Колдуны племени с большим трудом вытащили тебя с того света, и то потому, что боялись моего гнева. Гнев лучшего охотника — это, знаешь ли, не шутка!
Человек, назвавший себя Муонгом, был наг, если не считать причудливой раскраски, покрывавшей его лицо и тело, и набедренной повязки из каких-то листьев, впрочем, мало что способной скрыть, — во всяком случае, когда он поворачивался спиной, то о существовании этого жалкого подобия одежды забывалось.
Он не отличался солидным ростом, пожалуй, ниже шести локтей, но по сравнению с представителями многих дарфарских племен производил, должно быть, внушительное впечатление. Он весь состоял из гибких сухожилий и мускулов, перекатывающихся под кожей при каждом движении. Под белой кожей. То есть определить ее цвет как белый можно было опять же лишь в сравнении с иссиня-черной — коренных обитателей Дарфара. Наверняка Муонг появился на свет далеко от этих лесов.
— Ты не… — начала было Ника, но мужчина обжег ее жестким, почти угрожающим взглядом.
— Я — Муонг, лучший охотник племени Мбонго, Детей Змеи, посмей только еще раз в этом усомниться — и больше не услышишь ни единого понятного тебе слова!
Теперь он мог говорить все, что угодно.
Память Ники, отважной искательницы приключений, вполне восстановилась для того, чтобы разобраться, кто же перед нею на самом деле. Тот, кто и был ей нужен: Белый Воин! О нем ходили легенды! Впрочем, само его существование многие считали досужей выдумкой.
— Хорошо, я постараюсь не ошибаться, — сказала она, — но и ты впредь не должен звать меня какой-то Барой. Мое имя — Ника.
Плотно сжатые, с опущенными уголками губы Муонга дрогнули. Девушка пришла к здравому выводу: не стоит торопить события и задавать явно неприятные этому человеку вопросы, на которые он все равно не ответит.
Ника решила подобраться к нему с другой стороны.
— Я, что, была тяжело больна? — поинтересовалась она.
— Да, мы нашли тебя, истерзанную лихорадкой и без сознания, и принесли в селение.
— Одну? А мои… спутники?
— Одну. Если с тобой и был кто-то, то они погибли. Выжить в наших лесах непросто. Но тебе повезло. Мы ставили сети на оленей, а попалась ты. Видимо, ты брела наугад, уже едва соображая куда…
— Гм, — пробормотала Ника; смутные, отрывочные воспоминания все же возникали в ее голове, словно фрагменты кошмарного гобелена. — А когда и как я умудрилась выйти за тебя замуж?
— Сразу же, едва очутилась в племени, — невозмутимо просветил ее Муонг. — Нам ведь надо было определиться, как с тобой поступить. Ведь ты попалась в сеть, значит, ты — наша добыча, мало ли для чего пригодная…
— В смысле?
— Например, тебя могли съесть. Запомни: ты жива до тех пор, пока остаешься моей женой и законным членом племени Детей Змеи, Муонг-Барой-Мбонго.
Нике стало по-настоящему страшно. Муонг не шутил, да и она сама прекрасно знала, что каннибализм в Черных Королевствах обычное дело.
— Я научу тебя соблюдать Закон, — снова заговорил Муонг. — У нас сложный для непосвященного уклад жизни, а расплачиваться за промахи приходится дорого. Там, где нарушен Закон, даже я не защищу.
«Странно все это», — подумала Ника. Черные племена обычно примитивны, их язык прост, а законы — да их зачастую и вовсе нет. Так, по крайней мере, она до сих пор полагала. Похоже, она заблуждалась.
Муонг зажарил над огнем кусок какого-то мяса и предложил Нике. Девушка не отказалась, благоразумно воздержавшись от того, чтобы выяснить, чем именно ее угостили? Пока она не готова воспринять все сразу.
Нику снова начало клонить в сон….
Очнулась Ника в объятиях Муонга. Она лежала на боку, а ее законный супруг спал, прижавшись к ней всем телом и обхватив ее руками. Неужели он, что называется, исполнил супружеский долг, а она этого даже не заметила? А что, если это не в первый раз? Она считается его женой — почему бы ему не воспользоваться?..
«Ну что за мерзавец! Обладать женщиной, пока она без сознания… ничего, ему еще придется об этом пожалеть!» — вскипела она.
Ника резко развернулась, собираясь дать Муонгу достойный отпор, но тот схватил ее за руки.
— Я не трогал тебя, — произнес он, словно прочитав ее мысли.
— Нет? — подозрительно переспросила девушка, все еще тяжело дыша.— Мне так не показалось! Ты спал рядом со мной, и…
— А где же мне еще спать? С Нджомонго? — он кивнул в сторону невозмутимо свернувшегося рядом с их ложем удава.
— Но ты… — Ника растерялась. Нет, никогда ей не привыкнуть к естественному для дарфарских племен положению вещей, когда люди ходят друг перед другом в чем мать родила.
В неверном свете костра литое бронзовое тело Муонга казалось прекрасным.
Он разглядывал ее.
— Я не трогал тебя, — повторил он. — Я никогда бы такого не сделал без согласия женщины. А то, что я спал, обняв тебя, — разве это так уж страшно? Просто я не выношу одиночества.
— Ну так пошел бы к любой другой из своих женушек, — проворчала Ника. — Наверное, они более сговорчивы…
— Видишь ли, ни одна из них, конечно, не отвергнет меня. Но по Закону беременные женщины неприкосновенны. А сейчас как раз три мои жены вынашивают сыновей, четвертая же недавно родила и будет еще два года кормить ребенка: в это время мужчине нельзя подходить к ней ближе, чем на расстояние вытянутой руки, не то что делить ложе.
— И как же ты обходишься?
Подумать только, иметь целый гарем и вести жизнь монаха!
— Бара, — тихо сказал он, — между человеком и скотом есть отличия.
— Прости, — вырвалось у нее.
По совершенно необъяснимой причине Ника чувствовала, что он ей симпатичен и вызывает доверие. Впрочем, больше тут доверять некому. Или не доверять. Муонг пока единственное живое существо, с которым она общалась, поскольку этот самый удав — Нджомонго?.. — слава богам, не особенно обращал на нее внимания.
И вообще Муонг спас ей жизнь…
Ника вспомнила все. Как впятером — она и четверо мужчин — пробирались сюда. Как проникли в Заповедные Леса. И как потом ее спутники погибли один за другим. Словно сами стихии ополчились против них: одного убила вода, другого — земля (он провалился в глубокую яму-ловушку, и воткнутые на ее дне острые колья пронзили его насквозь), третий стал жертвой аллигатора, а последний… На толстой ветви, метрах в тридцати над тропинкой, висело бревно с копьем. От него вниз спускалась тонкая лиана, по виду ничем не отличавшаяся от других. Она пересекала дорогу и была привязана к дереву, росшему неподалеку. Стоило задеть за такую лиану, чтобы копье вместе с бревном потеряло равновесие и прикончило жертву. Это и произошло с несчастным Эшби…
Сама же Ника подхватила лихорадку, да еще и угодила в сеть, чудом не став жертвой каннибалов. Точнее, чудеса здесь ни при чем. Ее выручил Муонг, Белый Воин. А она не нашла ничего лучшего, как незаслуженно его оскорбить, что как минимум опрометчиво! Он — тот, кто способен довести ее до цели, ради которой она, собственно, и явилась в Дарфар.
Пока она размышляла, Муонг, ничего не говоря, поднялся, приподнял травяной полог и вышел. Ника последовала за ним.
За стенами хижины хлестал проливной холодный дождь.
— Муонг? — окликнула девушка. — По-моему, стоять здесь, вот так, под дождем — идиотизм. Вернись в дом, пожалуйста. И давай не будем ссориться по пустякам. В конце концов, мы, кажется, единственные белые люди на сотни и сотни лиг, хочешь ты этого или нет, и должны держаться вместе.
В темноте ночи она различала только его силуэт.
«Заполучить бы Муонга в проводники», — вдруг подумалось Нике. Он наверняка знает дорогу в Город. И с ним не так уж трудно разговаривать. Этот человек ей нужен, и, стало быть, любым способом, хитростью или силой, она заставит его…
— Прежде среди охотников за сокровищами Города не было женщин, — сказал Муонг, не оборачиваясь. — Поэтому я не убил тебя как всех остальных. Пока, — добавил он. — Но это никогда не поздно сделать, Бара. Запомни.
У нее мгновенно пересохло во рту, и Ника воздержалась от ответа. Для него не секрет, что ее сюда привело! И он вовсе не собирался ей помогать, как раз наоборот…
«Ее голова забита призрачными видениями огромной, невиданной добычи, — размышлял между тем Муонг. — Понадобятся месяцы, чтобы она начала иначе смотреть на мир».
Прошло еще две седмицы, а, может быть, и больше — Ника путалась, считая однообразные дни. Она продолжала делить кров с Муонгом, но Белый Воин по-прежнему оставался для нее загадкой. Если бы не цвет его кожи и речь, он ни в чем не отличался бы от прочих Детей Змеи, как называло себя маленькое племя, в котором очутилась девушка.
Он знал их обычаи, свободно говорил на их языке, а Ника понимала пока только отдельные слова. И все его любили и почитали! Как же! Муонг талантлив во всем — он не только лучший охотник, но также и первый и в искусстве изготовления самых длинных и прочных наконечников для копий и стрел, и в умении резать по дереву, кости и камню. Еще он замечательно играл на ликембе, странном музыкальном инструменте, напоминающем длинное деревянное блюдо, украшенное выжженным орнаментом, по краям которого были натянуты восемь струн из сухожилий животных. Звуки, извлекаемые ловкими пальцами Белого Воина, неизменно привлекали женщин, заставляя их танцевать возле костров. Впрочем, не только женщин…
Чем дольше Ника жила среди Детей Змеи, тем сильнее недоумевала. Она ожидала встретить тупых и кровожадных дикарей — а ее окружали люди, способные тонко чувствовать, обладающие врожденным даром к разнообразным искусствам и склонностью к украшению своих убогих жилищ.
Сама она не принимала участия в общих забавах, только смотрела. И думала, напряженно думала.
Однажды, когда Муонг в очередной раз развлекал соплеменников, Ника, не дожидаясь окончания представления, вернулась в хижину.
Вскоре песни и смех стихли, и следом за ней явился Муонг.
— Тебе не понравилось, как я пел сегодня? — спросил он. — Почему ты ушла?
— Нет, что ты! Я не понимаю слов, но все равно твое пение меня завораживает.
— Жаль, что не понимаешь. Ты не изучаешь наш язык и многое теряешь. У Детей Змеи самые красивые легенды на свете.
У Муонга, как и Ники, была склонность к языкам, он владел многими: испанским, итальянским, французским…
— Должно быть. Они странный народ.
— Мы, — поправил он, — Бара, не они, а — мы.
— Я — не Дитя Змеи.
Мужчина покачал головой и сменил тему.
— Завтра будет большая охота. Ты пойдешь вместе со всеми.
Эта идея Нике понравилась. До сих пор ей не выпадало случая хоть как-то проявить себя. Веселиться на манер Мбонго она не умела, зато уж с копьем и стрелами не сомневалась, что управится.
Муонг заметил, как оживленно блеснули ее глаза.
— Ого, да у тебя лежит душа к охоте!
— Куда больше, чем к бесконечному строительству хижин, — не стала спорить Ника.
Строительство и ремонт жилищ было одним из главных занятий женщин племени. Глины и кизяка, способных скрепить постройки, в Заповедных Лесах не водилось, и дожди частенько разрушали хижины. Остов их крепился к центральному столбу, затем переплетался лианами, а сверху покрывался листьями. Если за подобной крышей постоянно ухаживали — убирали сгнившую листву и добавляли свежую, — то она оставалась водонепроницаемой. Пола у хижин не было. На сухой траве, а чаще на песке лежали связанные лианами стволы бамбука, заменяющие кровати, вместо подушек — ворох листьев, посредине очаг, — вот и вся обстановка. Никаких съестных припасов: когда появлялось мясо, его съедали в тот же день.
— Почему вы не пользуетесь шкурами оленей и кабанов, как все люди? — спросила как-то Ника у Муонга. — Зачем спать на голом бамбуке и дрожать по ночам от холода, если можно сшить одежду из шкур?
— Мы — дети чащи. Если мы наденем чужие шкуры, лес перепутает нас со зверьми и не будет помогать. И потом, это ведь ты предпочитаешь дрожать от холода, а не прижиматься к тому, кто рядом с тобой — а вовсе даже не я.
Ника более не поднимала этот вопрос. В общем-то, глупо с ее стороны жить под одной крышей с красивым, сильным мужчиной, считаться его женой и не спать с ним. Ника не раз ловила себя на том, что разглядывает его просто до неприличия откровенно. Конечно, Муонга это не смущало, раз он запросто, как все остальные, ходил обнаженным, но девушке привыкнуть к местным обычаям было нелегко.
Проблемы вызывала и необходимость прикрывать собственное тело. Женщины племени носили лишь подобия передников и узкие набедренные повязки.
Девушка всем существом противилась тому, чтобы Муонг считал ее своей вещью. Нет, конечно, она старательно изображала, будто смирилась со своим положением и не пыталась тайком покинуть селение: отправляться в чащобу в одиночку, без проводника, — верная гибель! Кроме того, ее останавливало еще и вот что: если бы она сбежала, то ушла бы отсюда ни с чем. А это ее не устраивало.
Но кто она здесь? Пленница?
Кроме Муонга, за ней вроде бы никто не следил, она ходила, где хотела, и вообще была предоставлена себе самой.
Ее не связывали, ей не угрожали и ничего не требовали…
Чтобы только не умереть со скуки, она участвовала в обыденных делах, которыми занимались женщины племени. И те были настроены по отношению к ней вполне дружелюбно; их не смущало, что она на них не похожа и не умеет говорить на их языке. Они общались с ней с помощью жестов и богатой мимики и искренне радовались, когда видели, что достигли успеха, и охотно спешили на выручку, если она с чем-то не сразу справлялась.
«Да, они — дикари, — размышляла Ника, — но таких искренних и открытых людей редко где встретишь».
Интересно, рассказал ли кому-нибудь Муонг, что она отказала ему в супружеских радостях? Или же нет?..
Сейчас, впрочем, ее в основном занимали мысли о предстоящей охоте.
— Что я должна делать? — спросила Ника.
— А чего бы тебе самой хотелось? Загонять дичь вместе с женщинами или ловить ее с мужчинами?
— Разве Закон не запрещает мне, женщине, выполнять то, что традиционно мужская привилегия?
— Нет, если ты на один день станешь мужчиной.
— Как так?..
— С помощью боевой раскраски и заклинания, которое я, как лучший охотник, имею право произнести, не призывая колдунов. Дети Змеи относятся к такому обряду благосклонно, нужно только, чтобы женщина не ждала ребенка.
— Естественно,— рассмеялась Ника,— беременный охотник — чересчур!
— Иногда в племени рождаются женщины, в которых таится неукротимый дух воинов, — продолжал он, — они любят охотиться и воевать. Это не удивляет наш народ, их просто не принуждают быть такими, как все. Это полезно для племени. Такова, например, Мвиру-Аамили-Мбонго, третья жена вождя. Он гордится ею, хотя она не дарит ему детей.
— Хм, Мвиру-Аамили-Мбонго такая же, как Муонг-Бара-Мбонго, то есть я? И ты тоже гордишься моей необычностью?
Он покосился на нее, но не ответил.