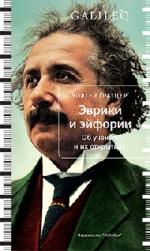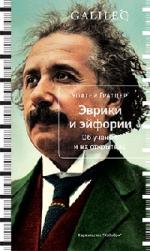Глава из романа
Глава первая,
которая, по логике вещей и событий, должна стать последней, однако в ней все только начинается. Здесь впервые появляется наша героиня и заводит речь о том, какие не ожиданные (и ненужные) приобретения можно сделать в продуктовом магазине. Кроме того, в этой главе имеются одно телевизионное шоу, несколько свежих идей и целых четыре толстяка
Ресторан держат четыре брата. Старший, Массимо, сидючи, свисает со стула боками, а ходит, раскачиваясь и отсвистываясь, как резиновая утка, отслужившая банной игрушкой минимум пяти поколениям. Массимо в полном соответствии с именем — главный — команды подает с места: «Альфонсо! Устрицы на первый! Марио! Счет на восьмой!», и так же с места он орет на посетителей, если они вдруг заказали не то вино или пропустили первое.
Альфонсо — следующий брат — выглядит чуточку более подтянутым и даже запросто проходит в дверь — правда, поднос он всегда крепко держит обеими руками, и ноги у него явственно заплетаются. Мне с моего места видно, что Альфонсо каждый новый поход на кухню отмечает бокалом вина из припрятанной в шкафике бутылки.
Тем временем заляпанная разнокалиберными пятнами карта меню (будто карта мира, заляпанная материками) выскальзывает из волосатой ручищи Марио. Третьего брата можно даже назвать стройным при известном человеколюбии и на фоне старших парней. Марио весит не более ста пятнадцати килограммов, но зато ему не очень повезло с подбородками — подбородков у Марио несколько, и каждый имеет собственный размер, очертание, а возможно, и предназначение.
Я, пожалуй, слишком откровенно изучала удивительные подбородки Марио, потому что он вдруг смутился, сдвинув карты одной ручищей, пока другая, похожая на раскормленного бобра, ловко сгребла наши сервировочные тарелки и бокалы: мы с Екой хором отказались от вина. По этому поводу Марио укоризненно поцокал языком, но бокалы послушно унес, и вскоре к нашему столу подкатился веселым колобком четвертый толстяк, Джанлука, — эти четыре брата так подробно орали друг на друга, что не запомнить, как кого зовут, не смог бы только абсолютно глухой посетитель, каких в ресторане «Ла Белла Венеция» в тот вечер, по-моему, не было.
Ека разгладила складочку на скатерти, раскрыла меню — такое же заляпанное, как и у меня (разве что пятна-материки у нее были несколько более темными), и впилась взглядом в список «антипасти». Я смотрела на Еку и думала, что скоро настанет день, когда мне больше не надо будет на нее смотреть. «Господи! — взмолилась я, поднимая глаза к пыльной муранской люстре, свисавшей над головами посетителей. — Я согласна отдать что угодно, лишь бы этот день пришел скорее!» Я согласна стать такой же толстой, как Альфонсо, Массимо, Марио и Джанлука вместе взятые, лишь бы вернулось то славное время, когда никакой Еки не было ни в моей жизни, ни в моих кошмарах.
Хорошо бы, кто-нибудь рассказал эту историю от начала и до конца. Хорошо бы, этот кто-нибудь рассказал все честно, как на приеме у врача, более того — как врач врачу, отбросив ложный стыд и сомнения, этику и деонтологию, честь и совесть, — но, судя по всему, рассказывать придется мне самой. Что ж, ничего другого в мире все равно не осталось. Только эта история, я и Ека. А остальное — декорация и статисты. Даже «Ла Белла Венеция» с газетными вырезками и фотографиями, наклеенными прямо на стены, даже Массимо, выписывающий счет и с трудом удерживающий авторучку сарделечными пальцами.
Начать историю можно так:
«Геня всегда любила есть и радовалась тому, что это — есть.
Еда как способ насытиться, еда как наслаждение, еда как способ манипулировать людьми. Лучший и самый верный способ: куда уж там нейролингвистическому программированию. Хотите превратить бульдога в кролика? Вовремя покормите его. Хотите уютной семейной жизни? Готовьте сами. Хотите счастья? Ешьте по-настоящему вкусно! Ешьте, как Геня. Ешьте с Геней. Ешьте лучше Гени (если сможете). И не бойтесь растолстеть — набирают вес лишь те, кто не умеет есть вкусно. «Вкусная еда не бывает вредной» — так говорит Геня Гималаева — гений кулинарии, ведущая телепрограммы «Гениальная кухня» на канале «Есть!».
Или так:
«…Геня Гималаева любила готовить и любила кормить всех вокруг — особенно детей и несчастных влюб ленных, потому что именно детей и несчастных влюбленных кормить сложнее всего».
…Джанлука склонился к нашему столику и громко, во всю плоть, закричал:
— Синьоры, а теперь расскажите мне все!
— Антипасто мисто, — тихо, будто пароль, произнесла Ека. — Первое я пропускаю (Массимо в отдалении скрежещет зубами), на второе — печень по-венециански с полентой. И те булочки с чесноком, которые были вчера.
— То же самое. — Я кивнула Джанлуке, и он покатился в кухню, где Альфонсо неверными движениями прятал опустевшую бутыль под стол.
…Меня назвали Евгенией, но я не люблю это имя вместе со всеми его жжено-женски-жеманными-жэковскими производными. Просто не любить — ничего страшного, но, как только дело дошло до публичности, пришлось выкручивать себе новое имя. Кстати, Еке (однако! она должна была появиться значительно позднее, но вылезла в первых строчках), так вот, Еке помогли найти новое имя коллеги, поскольку свое родное — Катя — она произносила с гадким таким присюсюком: «Каця». Это было даже хуже, чем Жека! Народ скинулся идеями и раскошелился на Еку, три первых буквы длинного имени, которое нравится мне ничуть не больше моего собственного.
Все, я постараюсь взять себя в руки и хотя бы несколько минут подряд не думать об этой… об этой… хотите, расскажу, как мы с нею встретились?
Я тогда была счастлива, как в песне: «Их дети сходят с ума оттого, что им нечего больше хотеть». У меня было несколько телепрограмм, был рой преданных поклонников, рубившихся за меня, как пчелы — за правду-матку, был несравненный и тогда еще неистовый П.Н., была моя чудесная кухня, в общем, все было именно так, как представляют себе наивные молодые люди в наивных молодых мечтах. Потом, по мере взросления, эти люди понимают, что за каждым успехом, как буксир на тросе, тянется штраф, и удивительно, если штраф этот опаздывает, — как правило, счета за удовольствие подают без малейшей задержки. Это вам не Массимо с братовьями из ресторана «Ла Белла Венеция» — вчера мы ждали счет больше сорока минут, после чего на полусогнутых явился Альфонсо с абсолютно пустым листком бумаги и сказал:
— Аллора, синьоры, давайте вместе вспоминать, чего вы тут наели.
Так вот, в доекатерининскую эпоху я честно не знала, о чем бы еще попросить провидение, ну разве только чтобы в гипермаркет «Сириус» завезли наконец свежие артишоки и стали их продавать не раз в полгода, а постоянно. Я помню, что думала именно об артишоках в тот день, когда катила по залу «Сириуса» громадную корзину.
То был осмотр владений: сразу, после того как у нас открыли «Сириус», я привыкла считать его своим домом. Кассирши здесь знают меня по имени, новенькие продавщицы берут автографы, а смелые покупательницы спрашивают, с чем что есть и как лучше готовить. И все они — кто искоса, кто явно — заглядывают в мою корзину, пытаясь запомнить, что именно купила сегодня в «Сириусе» Геня Гималаева.
Когда я была маленькой, именно так — Гималаева — выговаривала свою простую фамилию Ермолаева. Помните, я рассказывала об этом в интервью — журналисты всегда задают одни и те же вопросы.
В тот день у меня в корзине уже лежали две упаковки белейших крупных шампиньонов, тыква «баттернат», венгерский бекон (душистый, скользкий, но достаточно прочный для того, чтобы им можно было обмотать, как лентами, толстенькие эскалопы или куриные грудки), а еще там были индийский рис, морщинистый мягкий чернослив, груши «александри» и литовский пармезан, к которому я отношусь вполне дружески, хотя и не понимаю, почему он называется пармезаном. Я разминалась перед покупкой главного продукта и не могла решить, что буду сегодня готовить — нежное, как моцарелла, филе судака или баранину с чесноком: в «Сириусе» с утра хвалились свежими поступлениями…
…Геня Гималаева, кулинарная этуаль, подруга и личный повар главного городского гурмана, оценивающего блюда по шкале междометий от удивленного «М-м-м?» до страстного «О-о-о…», ловко рулила корзиной по лучшему городскому магазину снеди и вспоминала вчерашнюю премьеру «Сириус-шоу». Шоу снимали именно здесь, в гипермаркете «Сириус», уже пять лет бывшем гордым спонсором и основным подателем рекламы телеканала «Есть!». Покупательницы произвольно выбирали продукты, а затем рассказывали (и впоследствии — показывали) ведущей, какие прекрасные блюда будут готовить из купленного. Претенденток отлавливали в очереди, предлагали отдемонстрировать покупочки и поделиться рецептом с телезрителями. Двух тетенек Геня вчера подготовила сама — для того, чтобы слегка разукрасить серый фон хозяек «средней» корзины.
— …Знаете, как питаются русские люди? Я часто задаю себе этот вопрос, потому что хочу научить соотечественников любить еду и готовить ее с удовольствием. Поделюсь с вами секретом, — доверительно, как гинекологу, рассказывала видеокамере Геня. — Я очень люблю заглядывать в корзины покупателей «Сириуса» (первое упоминание), но что я там вижу? Унылую копченую курицу, готовый салат, наструганный равнодушными руками незнакомого вам человека (здесь меня слегка занесло, но ничего, все перегибы вырежут при монтаже), полуфабрикатные перцы, кетчуп, майонез и торт под пластиковым колпаком. Прибавьте к этому три бутылки пива, нарезанный батон, шоколад и получите картину «Ужин по-русски»! Не знаю как вам, дорогие, а лично мне почему-то совсем не хочется делить такую трапезу даже с самыми лучшими друзьями. К счастью, сегодня нам это, кажется, не грозит. Давайте узнаем, что собирается приготовить на ужин наша гостья — Елена! Я вижу в корзине у Елены российский сыр, муку, яйца, куриные окорочка…
(Елена смущается так, будто Геня демонстрирует телезрителям ее собственные окорочка.)
…оливковое масло, бородинский хлеб, кинзу, творог, каперсы, горчицу с черной смородиной. Интересный набор!
(Елена — не подготовленная заранее тетенька, это стопроцентно натуральная покупательница. Она кусает губы, озирается по сторонам, словом, демонстрирует неуверенность в себе и в окружающих. Замороженные окорочка смотрятся жутко, но мы-то знаем, как могут воспарить эти птицы в умелых руках!)
— Я обжарю окорочка, — рассказывает Елена, — разморожу их, конечно, а потом намажу горчицей, посып лю тертым сыром с каперсами и запеку в духовке. А творог и яйца — это на утро: сырники сделаю.
Геня обожает сырники. Она готова их есть на каждый завтрак, но об этом даже П.Н. не знает. Они с Геней редко вместе завтракают — П.Н. приходит к ней, как в ресторан.
Геня все так же ловко управляет корзиной и с удовольствием вспоминает вчерашнее шоу. Удача, большая и зубастая, как рыба-меч… Геню почти все узнают — некоторые покупатели решительно сворачивают с ее пути и прячут корзины: стесняются! Боятся хорошего вкуса. «Расслабьтесь, я сегодня без камеры, — думает Геня. — Я здесь в частном порядке».
Геня решает — вяленые помидоры! Паркует корзину рядом с такой же точно чужой, машинально заглядывает в нее и видит там сон про двойника. Бекон, сливки, литовский пармезан, судак, тыква «баттернат», шампиньоны… И… баночка вяленых помидоров — увы, последняя в «Сириусе» (второе упоминание). Та самая баночка, вокруг которой сложилось сегодняшнее гениальное меню — теперь, потеряв опору, оно рассыпается на глазах…
Счастливая обладательница банки, гражданочка с очень короткими, но при этом пышными волосами (что само по себе не внушает доверия), равнодушно улыбнулась Гене и покатила корзину дальше.
…Я спряталась за стеллажом с маслом. Кстати, тыквенное масло! Отлично, берем. Бутылочка тихо звякнула о прутья корзины, воровка вяленых помидоров сделала отвлекающий внимание круг, пошла за мной и взяла с полки такую же бутылочку.
Заметно ниже меня — беляночка, и глаза очень светлые. Рот, как у рыбы-зубатки… Правда, рыбы столько не живут — ей не меньше тридцати пяти. Тыквенное масло! Она хоть знает, как с ним обращаться? Судя по всему, да — она берет с полки свежую рукколу. Если взять рукколу, добавить обжаренные кедровые орешки, сбрызнуть тыквенным маслом, будет нам и «М-м-м?» и «О-о-о…». А еще я, пожалуй, сделаю сегодня каприйскую закуску в собственной версии — красные и желтые помидоры, базилик, адыгейский сыр и моденский уксус. Свежий адыгейский сыр ничем не хуже моцареллы, остатки его я пущу на шахи панир — жаренный по-индийски сыр с пряностями… Обойдемся без вяленых помидоров.
Через полчаса мы с Зубаткой столкнулись у кассы, ее покупки уже ехали по ленте — и мало чем отличались от моих. Я тоскливо проводила глазами баночку с помидорами.
Между прочим, если отвлечься от скорби по ее поводу… вот бы залучить такую покупательницу в новое шоу! Жаль, что я не успела даже додумать до конца эту мысль, как Зубатка ловко сгребла покупки в пакеты и пропала из виду.