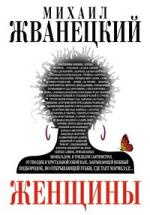- Издательство «Эксмо», 2012 г.
- Вместе с героями нового романа Гийома Мюссо «Спаси меня» читатели окажутся в заснеженном Нью-Йорке. В необычно молчаливом и спокойном городе, укутанном снежным покровом, происходит случайная встреча двух людей. Он — доктор, за плечами которого немалый груз тайн и застарелой боли. Она — официантка-француженка, как и тысячи молодых девушек приехавшая в Центр мира, чтобы покорить его. И, как тысячи молодых девушек, столкнувшаяся с беспощадностью этого города. Герои как две снежинки кружатся в беспечном вихре, пока страшная авиакатастрофа не разделяет их жизнь на «до» и «после». Какова цена жизни любимой? Может ли ошибка, совершенная в далеком прошлом, перечеркнуть счастье в столь хрупком настоящем?
Сэм читал историю болезни, когда старшая медсестра Бекки похлопала его по
плечу.
— Доктор, ваше дежурство закончилось полчаса назад, — произнесла она, указывая
на расписание, висевшее на стене.
— Да-да, сейчас… Только дочитаю, — ответил Сэм так, словно просил ее об
одолжении.
Но Бекки была непреклонна.
— Вас самого пора лечить, — сказала она, отбирая у него папку. — Идите домой.
И Сэму пришлось подчиниться. Бекки смотрела, как он идет по коридору. Одна из
практиканток, проходивших стажировку в больнице Святого Матфея, вздохнула:
— Какой он клевый…
— Даже не думай, милочка. У тебя никаких шансов.
— Он что, женат?
— Хуже.
В комнате отдыха Сэм повесил измятый халат в металлический шкафчик.
Поправил галстук, надел пиджак и пальто — и все это, даже мельком не посмотрев в
зеркало. У него давно пропало всякое желание производить на других впечатление, но ему
и в голову не приходило, что в глазах многих женщин именно это делало его еще более
привлекательным.
Он вызвал лифт. Следом за ним в кабину вошел китаец-санитар, толкавший перед
собой каталку. Лежавшее на ней тело было с головой накрыто простыней, что не
оставляло никаких сомнений в том, что этот пациент больше не нуждается в лечении.
Санитар хотел было пошутить на эту тему, но, встретив мрачный взгляд Сэма, передумал.
Лифт остановился на первом этаже. Больничный холл, где было полно народу и стоял гул
голосов, напоминал зал ожидания в аэропорту. Не удержавшись, Сэм заглянул в
приемную отделения скорой помощи. Она была переполнена.
«А в следующие несколько часов все только ухудшится».
В углу приемной скорчился на стуле пожилой мужчина. Его била дрожь, и он
кутался в потертое пальто, глядя на стайку экзотических рыбок в аквариуме. Рыбки, не
останавливаясь, плавали по кругу. Очень худая молодая женщина сидела, подтянув
колени к подбородку. Сэм случайно встретился с ней взглядом. Ее глаза были красными
от недосыпа или наркотиков, за ее ногу цеплялся хнычущий ребенок.
«Может, остаться на ночное дежурство?»
— Шесть долларов, дорогуша!
Жюльет расплатилась с таксистом-гаитянином, добавив немного на чай за то, что
тот, узнав в ней француженку, говорил на ее родном языке.
Такси остановилось на перекрестке Бродвея и Седьмой авеню — на Таймс-сквер, где
и днем и ночью было не протолкнуться. Жюльет всегда тянуло сюда как магнитом. На
этом небольшом треугольнике, залитом асфальтом и со всех сторон стиснутом
небоскребами, находилось множество знаменитых театров.
В любую погоду — в дождь, снег, ураган — Таймс-сквер всегда залит светом
огромных рекламных щитов и ярких вывесок, которые тысячью огней переливаются на
фасадах. Восхитительное зрелище! Кажется, будто волны прилива и отлива вносят
оживленные праздничные толпы в двери театров, кинозалов, ресторанов и выносят
обратно на улицу.
Жюльет купила хот-дог и с удовольствием ела, стараясь не закапать кетчупом свое
чудесное пальто. Она посмотрела на огромный экран с расписанием ближайших
спектаклей и направилась к зданию из белого мрамора, перед которым каждый год
тридцать первого декабря собирается целая толпа, чтобы увидеть, как, возвещая начало
нового года, спускается вниз огромный хрустальный шар — знаменитое Большое Яблоко,
символ Нью-Йорка.
Жюльет хотела в последний раз окунуться в пьянящую атмосферу праздника и
роскоши. Можно было сколько угодно ворчать вслух, но в глубине души она обожала
Манхэттен. Она была городской мышью, а не деревенской. Природа, уединение, пение
птиц оставляли ее равнодушной. Ей были нужны кипение городской жизни, движение,
скорость, круглосуточно открытые магазины. Было нужно знать, что она может зайти в
них в любое время суток.
Конечно, все тут выглядело несколько преувеличенным, нереальным, словно
Таймс-сквер был гигантским ночным клубом, воздвигнутым посреди Манхэттена. Кому-то агрессивная реклама, оглушительная музыка и клубы дыма, вырывающиеся из дверей,
могли показаться настоящим кошмаром…
Но здесь Жюльет чувствовала себя живой. Вокруг было настоящее столпотворение,
зато она не была тут одна. Черт возьми, ведь это Нью-Йорк, это Бродвей, «самая длинная
улица в мире», как пишут в путеводителях! Улица, пересекавшая весь Манхэттен и
уходившая дальше, в Бронкс.
* * *
В холодном вечернем воздухе раздался вой сирены. Автоматические двери
больницы Святого Матфея медленно закрылись за Сэмом как раз в тот момент, когда на
стоянку влетела машина скорой помощи. Сэм бросился на помощь санитарам, но потом
остановился. Он только что предложил доктору Фримен, возглавлявшей отделение скорой
помощи, подежурить, но та отказалась, сославшись на то, что Сэм и так не спал несколько
ночей подряд.
Он с утра не выходил на улицу и уже забыл о том, какой был снегопад. Было так
холодно, что кружилась голова. Сэм шел к выходу с территории больницы и видел, как
санитары суетятся вокруг носилок. До него долетали обрывки фраз: «Ожоги второй
степени… давление 8/5… пульс 65… 6 по Глазго…»
Голоса становились все тише. Сэм сел в машину. Посидел несколько минут,
положив руки на руль. Ему всегда нужно было время, чтобы в голове утих шум, чтобы
забыть о пациентах, которых он видел в этот день. Чаще всего это ему не удавалось.
Сэм чувствовал чудовищную усталость. Он ехал вверх по Первой авеню, на север.
Сегодня вечером движение было не очень плотным. Он включил радио.
«…мэр Нью-Йорка оценивает ущерб, причиненный снегопадом, как минимум в
десять миллионов долларов. Напомним, что дефицит городского бюджета, возникший
этой зимой из-за расходов на расчистку дорог, уже составляет четырнадцать миллионов.
В настоящее время дорожные службы продолжают расчищать главные магистрали
города. На дорогах по-прежнему гололед, поэтому советуем вам быть особенно
внимательными за рулем…»
* * *
Жюльет казалось, что она — капля воды, влившаяся в бурный поток. Пестрая толпа
несла ее вперед по тротуарам, залитым ярким светом огромных вывесок. Гудки машин,
бренчание уличных музыкантов, шум разговоров, проносящиеся мимо желтые такси… У
нее начала болеть голова. Как загипнотизированная, она не могла оторвать взгляд от
огромных экранов на фасадах домов. Голова теперь не просто болела, но еще и
кружилась. Экранов было столько, что она уже не знала, куда смотреть: биржевые курсы,
видеоролики, новости, прогноз погоды…
Жюльет не видела, куда идет, со всех сторон ее толкали, и она решила перейти на
другую сторону. Ей показалось, что там не так много народу. По улице в обе стороны
неслись машины, но Жюльет их не замечала.
* * *
Сэм ехал вверх по Бродвею. Он поставил в проигрыватель диск с джазовой
музыкой, и в машине, за окнами которой мелькали здания из стекла и бетона, зазвучал
саксофон. Сэм подавил зевок и потянулся за пачкой сигарет, которая лежала в кармане
рубашки. Дурная привычка, которой он обзавелся в юности. В то время большинство
мальчиков Бед-Стая начинали курить лет в семь, а потом переключались на что-нибудь
покруче. На заднем стекле машины, ехавшей перед ним, красовалась яркая наклейка. Сэм
прищурился, чтобы разобрать, что там написано. If you can read this, you’re too near.
Длинный гудок заставил его вздрогнуть. Он мысленно выругался вслед обогнавшей его
машине. Его глаза скользнули по плакату с рекламой какого-то средства, помогающего
бросить курить. Пышущая здоровьем топ-модель в шортах и обтягивающей майке
наглядно доказывала, что спорт полезен, а табак вредит здоровью. Слоган, растянувшийся
во всю ширину дома, гласил: «Еще не поздно изменить вашу жизнь!»
— Говори за себя, — сказал Сэм вслух.
Изменить жизнь? Зачем? Он уже один раз изменил свою жизнь, хватит. Он
вызывающе затянулся и глубоко вдохнул дым, словно доказывал кому-то, что ему
наплевать, здоровым или больным он умрет. Он не боится ни Бога, ни смерти. В Бога он
не верил, а со смертью ничего не мог поделать.
Убирая зажигалку в карман, Сэм нащупал рисунок Анджелы. Он развернул его и
увидел, что с обратной стороны листок покрывает множество мелких непонятных
значков: треугольники, кружки, звезды. Что бы это могло значить?
Задумавшись, Сэм только в последний момент заметил молодую женщину, которая
переходила улицу прямо перед его машиной.
О боже! Тормозить уже поздно! Сэм резко вывернул руль, взмолившись Богу, в
которого не верил, и заорал:
— Стойте!
* * *
— Стойте!
Жюльет замерла на месте. Машина пронеслась в миллиметре от нее, и она впервые
почувствовала дыхание смерти. Джип вынесло на тротуар, раздался визг тормозов, и
машина остановилась.
— Идиот! Убийца! — крикнула Жюльет водителю, отлично зная, что и сама была
виновата в том, что произошло. Ее сердце отчаянно колотилось. Опять она думала бог
знает о чем! А этот город не терпел мечтателей и рассеянных. Опасность тут подстерегала
повсюду, буквально на каждом углу.
— Черт бы вас побрал! — выругался Сэм.
Он действительно испугался. Всего две секунды, и его жизнь могла полететь
кувырком. Он лучше, чем кто бы то ни было, знал, что все мы живем на краю пропасти. И
это страшно.
Он выскочил из машины, схватив аптечку, которая всегда лежала у него на
пассажирском сиденье.
— Что с вами? Как вы себя чувствуете? Я врач, я могу вас осмотреть или отвезти в
больницу.
— Все нормально. Со мной все в порядке, — ответила Жюльет.
Он подал ей руку, чтобы помочь подняться, и тут она впервые посмотрела на него.
Секунду назад ее вообще не существовало, и вот она стоит перед ним.
— Вы уверены, что с вами все в порядке? — снова пробормотал Сэм, словно не
слышал ее.
— Да.
— Может быть, хотите немного выпить, чтобы прийти в себя?
— Нет, спасибо, — отказалась Жюльет. — Не стоит.
Сэм с удивлением обнаружил, что продолжает настаивать.
— Прошу вас, соглашайтесь. Тогда я поверю, что вы меня простили.
Он указал на громадную башню отеля «Мариотт», нависавшую над западной
стороной Таймс-сквер.
— Я только поставлю машину на стоянку. Это займет всего минуту. Подождите
меня в холле, хорошо?
— Хорошо.
Он сделал несколько шагов к своему джипу, но вдруг обернулся и крикнул:
— Меня зовут Сэм Гэллоуэй. Я врач.
Жюльет смотрела на него. Ей вдруг ужасно захотелось понравиться ему. И в тот
момент, когда она открыла рот, чтобы ответить, она уже знала, что сейчас сделает
ужасную глупость. Но было поздно.
— Очень приятно. Жюльет Бомон. Я адвокат.