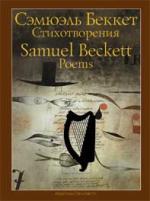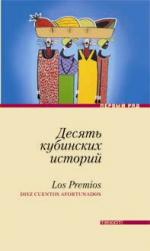Отрывок из книги французского философа Жоржа Перека
Глава LXXXVII
Бартлбут, 4
В просторной гостиной квартиры Бартлбута, огромной квадратной комнате, оклеенной тусклыми обоями, собрана мебель, предметы и безделушки, которыми Присцилла когда-то хотела себя окружить в своем особняке под номером 65 по бульвару Мальзерб: диван и четыре больших кресла резного и позолоченного дерева, покрытые старинными шпалерами мануфактуры Гобелен, представляющими на желтом решетчатом фоне портики в арабесках из гирлянд листьев, фруктов и цветов с птицами: голубками, попугаями, попугайчиками и т. п.; большая четырехстворчатая ширма из шпалер Бовэ с композициями в арабесках, а в нижней части — с обезьянами, ряженными в духе Жийо; большая шифоньерка с семью зеркалами эпохи Людовик XVI из резного акажу и вставками из цветной древесины; на ее верхней панели из белого в прожилках мрамора стоят два канделябра на десять свечей, серебряное блюдо для разрезания мяса, маленький карманный набор для письма в футляре из акульей кожи, содержащий два флакончика с золотыми пробками, перьевую ручку, скребок и золотой шпатель, гравированную хрустальную печатку и крохотную прямоугольную шкатулочку для мушек в позолоченной гильошировке и голубой эмали; на высоком камине черного камня — часы из белого мрамора и фигурной бронзы, циферблат которых с пометкой «Hoguet, a Paris» поддерживают двое склоненных бородатых мужчин; по обе стороны от часов — два аптечных бокала из мягкого фарфора Шантийи; на том, что справа, имеется надпись «Тер. Выдерж.», на том, что слева, — «Гуммигут»; и наконец, на маленьком овальном столике розового дерева с мраморной столешницей стоят три скульптурные композиции из саксонского фарфора: одна представляет Венеру и Амура, сидящих в украшенной цветами колеснице, которую тянут три лебедя; две другие — аллегорические изображения Африки и Америки: Африку символизирует негритенок, забравшийся на лежащего льва; Америку — женщина в головном уборе из перьев; сидя верхом на крокодиле, она прижимает к левой груди рог изобилия; на ее правой руке сидит попугай.
На стенах много картин; самая заметная висит справа от камина: это темное и строгое полотно Гроциано «Снятие с Креста»; слева — морской пейзаж Ф. Х. Манса «Прибытие рыболовных судов на голландское взморье»; на дальней стене, над большим диваном, — картонный эскиз к работе «Голубой мальчик» «Blue Boy» Томаса Гейнсборо, две большие гравюры Лёба с работ Шардена «Дитя с юлой» и «Трактирный лакей», миниатюрный портрет какого-то аббата с расплывшимся от самодовольства и чванства лицом, мифологическая сцена Эжена Лами, живописующая Бахуса, Пана и Силена с целой когортой сатиров, гемипанов, эгипанов, сильванов, фавнов, лемуров, ларов, леших и домовых; пейзаж под названием «Таинственный остров» за подписью Л. Н. Монталеско: изображенный на нем берег привлекает доступной песчаной отмелью и растительностью слева, но справа своими отвесными скалами, изрезанными наподобие башен, и всего одной расщелиной напоминает неприступную крепость; и акварель Уэйнрайта, друга сэра Томаса Лоуренса, художника, коллекционера и критика, который был одним из самых знаменитых «львов» своего времени и — как стало известно уже после его смерти — по неопытности умертвил восьмерых человек; акварель называется «Ломовой» («The Carter»): грузчик сидит на скамье у стены, оштукатуренной известью. Это высокий и крепкий мужчина в серых холщовых штанах, заправленных в потрескавшиеся сапоги, серой рубахе с широко распахнутым воротом и пестром платке; правое запястье стянуто кожаным напульсником в заклепках; на левом плече висит тряпичная сумка; справа от него, возле кувшина и буханки хлеба, лежит кнут из плетеной веревки, чей конец расходится на множество жестких нитей.
Диваны и кресла покрыты прозрачными нейлоновыми чехлами. Вот уже лет десять, не меньше, как этой комнатой пользуются лишь в исключительных случаях. В последний раз Бартлбут входил сюда четыре месяца назад, когда обстоятельства дела Бейсандра вынудили его обратиться к Реми Роршашу.
В начале семидесятых годов две крупные фирмы гостиничного туризма — MARVEL HOUSES INCORPORATED и INTERNATIONAL HOSTELLERIE — решили объединиться для того, чтобы эффективнее отразить сильнейший натиск двух новых гигантов гостиничного бизнеса «Holiday Inn» и «Sheraton». Североамериканская компания «Marvel Houses Inc.» имела крепкие позиции на Карибах и в Южной Америке; что касается «International Hostellerie», то этот холдинг управлял капиталами из Арабских Эмиратов и базировался в Цюрихе.
В первый раз руководящие отделы двух компаний собрались в Нассау, на Багамах, в феврале 1970 года. В результате совместного изучения складывающейся в мире ситуации они убедились в том, что единственным шансом сдержать прорыв конкурентов является выработка такого стиля гостиничного туризма, который не имел бы аналогов в мире. «Концепция гостиничного бизнеса, — заявил президент „Marvel Houses“, — основанная не на одержимой эксплуатации культа детей (аплодисменты) и не на угождении всяким командировочным, до неприличия раздувающим счета своих расходов (аплодисменты), а на верности трем фундаментальным ценностям: досуг, отдых, культура (продолжительные аплодисменты)».
Неоднократные встречи в штаб-квартирах двух компаний позволили уже в последующие месяцы конкретизировать цели, который так блестяще наметил президент «Marvel Houses». После того, как один из директоров «International Hostellerie» остроумно заметил, что в названиях и той и другой организации используется одинаковое количество букв (24), их рекламные службы ухватились за эту идею и предложили выбрать в двадцати четырех различных странах двадцать четыре стратегических места, где смогли бы разместиться двадцать четыре гостиничных комплекса совершенно нового стиля: верхом изысканности стало то, что перечень двадцати четырех отобранных мест был составлен таким образом, что из двух букв, стоящих в начале слов, по вертикали прочитывались названия фирм-учредительниц (См. табл. № 1).
В ноябре 1975 года генеральные директоры встретились в Эль-Кувейте и подписали договор об объединении, в рамках которого было решено, что «Marvel Houses Incorporated» и «International Hostellerie» совместно создают два филиала-близнеца, — структуру гостиничного инвестирования, названную «Marvel Houses International», и банковскую структуру гостиничного финансирования, окрещенную «Incorporated Hostellerie», — которым, при надлежащем обеспечении капиталами, поступающими от двух головных фирм, поручается разработать, наладить и успешно завершить строительство двадцати четырех гостиничных комплексов в ниже указанных местах. Генеральный директор «International Hostellerie» становится генеральным директором «Marvel Houses International» и заместителем генерального директора «Incorporated Hostellerie», а генеральный директор «Marvel Houses Incorporated» становится генеральным директором «Incorporated Hostellerie» и заместителем генерального директора «Marvel Houses International». Штаб-квартира структуры «Incorporated Hostellerie», отвечающей в первую очередь за финансовое управление операцией, была размещена в самом Эль-Кувейте; структура «Marvel Houses International», взявшая на себя организацию и эффективное осуществление строительства, была — из соображений, связанных с налогообложением, — зарегистрирована в Пуэрто-Рико.
Итоговый бюджет операции, значительно превышавший миллиард долларов, — каждый номер обходился более чем в пятьсот тысяч франков, — предположительно покрывал расходы по созданию гостиничных центров, которые были бы в одинаковой степени роскошны и автономны. Основная идея подрядчиков заключалась в том, что, если привилегированное место отдыха, досуга и культуры, каким должен всегда являться отель, разумно располагать в особенной климатической зоне, адаптированной к конкретным пожеланиям (тепло, когда где-то холодно, чистый воздух, снег, содержание йода и т. д.) и вблизи специфических мест, предназначенных для определенной туристической деятельности (морские ванны, горнолыжные станции, курорты, города-музеи, естественные [парки и т. д.] или искусственные [Венеция, Матмата, Disneyworld и т. д.] курьезы и ландшафты и т. д.), то это ни в коем случае не может становиться обязательным условием: хорошая гостиница — это гостиница, где клиент должен иметь возможность выбираться, если ему хочется куда-то выбираться, и не выбираться, если куда-либо выбираться оказывается для него тяжелой необходимостью. Следовательно, комплексы, которые предусматривалось построить силами «Marvel Houses International», в первую очередь должны были отличаться тем, что intra muros в них имелось бы все, что богатая, требовательная и ленивая клиентура могла бы захотеть осмотреть или сделать, не выходя из гостиницы, как неизменно происходит с большинством североамериканских, арабских и японских туристов, которые чувствуют себя обязанными объехать всю Европу и ознакомиться с сокровищами ее культуры, но вовсе не желают ради этого выстаивать километровые очереди в музеи или тащиться в неудобных автобусах через загазованные пробки к Сен-Сюльпис или площади Сен-Жиль.
Эта идея уже давно легла в основу современного гостиничного туризма: она привела к организации закрытых пляжей, все более активной приватизации морских побережий и лыжных спусков, а также к быстрому распространению созданных на пустом месте клубов, поселков и центров отдыха, напрочь лишенных живого контакта с географическим и человеческим окружением. Но в данном случае эта идея была превосходно систематизирована: клиент одного из комплексов «Hostellerie Marvel» получал бы в свое распоряжение не только пляж, теннисный корт, подогретый бассейн, поле для гольфа на 18 лунок, манеж для конной езды, сауну, морскую курортную зону, казино, ночные клубы, бутики, рестораны, бары, газетный киоск, табачную лавку, агентство путешествий и банк, — как в любом другом четырехзвездочном отеле, — но имел бы еще и лыжню, подъемник, каток, дно океана, волны для серфинга, сафари, гигантский аквариум, музей античного искусства, римские развалины, поле брани, пирамиду, готический храм, восточный базар сук, форт в пустыне бордж, буфет кантина, арену Плаца де Торос, археологические раскопки, пивную бирштюбе, дансинг Баль-а-Джо, танцовщиц с острова Бали, и т. д. И т. п., и т. д. И т. п.
| MIRAJ MIRAJ | Индия | |
| ANAFI | Греция (Киклады) | |
| ARTIGAS | Уругвай | |
| VENCE | Франция | |
| ERBIL | Ирак | |
| ALNWICK | Англия | |
| HALLE | Бельгия | |
| OTTOK | Австрия (Иллирия) | |
| HUIXTLA | Мексика | |
| SORIA | Испания (Старая Кастилия) | |
| ENNIS | Ирландия | |
| SAFAD | Израиль | |
| ILION | Турция (Троя) | |
| INHAKEA | Мозамбик | |
| COIRE | Швейцария | |
| OSAKA | Япония | |
| ARTESIA | Соединенные Штаты (Нью-Мексико) | |
| PEMBA | Танзания | |
| OLAND | Швеция | |
| ORLANDO | Соединенные Штаты (Disneyworld1) | |
| AEROE | Дания | |
| TROUT | Канада | |
| EIMEO | Архипелаг Таити | |
| DELFT | Нидерланды |
С целью обеспечить этот непостижимый объем заявленных услуг, который уже сам по себе оправдывал бы планируемые тарифы, «Marvel Houses International» разработала три сопутствующие стратегии. Первая заключалась в том, чтобы искать изолированные или легко изолируемые территории, изначально обладавшие богатыми и еще недостаточно освоенными туристическими ресурсами; в этой связи важно отметить, что из двадцати четырех отобранных мест пять находились в непосредственной близости от природных заповедников — Алнвик, Эннис, Отток, Сория, Ванс; пять других являлись островами: Эре, Анафи, Эймео, Оланд, Пемба; помимо этого проект предусматривал создание двух искусственных островов, один — во Внутреннем море неподалеку от Осаки, другой — напротив Иньяка на побережье Мозамбика, а также комплексное благоустройство озера Траут в Онтарио, где предполагалось создать подводный центр отдыха.
Второй подход заключался в том, чтобы предлагать местным, региональным и федеральным администрациям тех зон, где «Marvel Houses International» желала закрепиться, создание «культурных заповедников», причем «Marvel Houses» покрывала бы все строительные расходы в обмен на концессию на восемьдесят лет (первые предварительные расчеты показали, что в большинстве случаев предприятие окупилось бы за пять лет и три месяца и было бы рентабельным в течение семидесяти пяти последующих лет); эти «культурные заповедники» могли бы создаваться на пустом месте, либо включать известные фрагменты или строения, как в Эннисе, в Ирландии, в нескольких километрах от международного аэропорта Шеннон, где руины аббатства XIII века были бы включены в зону гостиницы, либо интегрированы в уже существующие структуры, как в Делфте, где «Marvel Houses» предложила муниципалитету спасти целый квартал города и восстановить «Старинный Делфт» с его гончарами, ткачами, художниками, граверами и чеканщиками, одетыми в традиционную одежду и работающими в своих мастерских при свечах.
Третий подход «Marvel Houses International» заключался в том, чтобы прогнозировать рентабельность предлагаемых развлечений, изучая, — по крайней мере, в Европе, где компания сосредоточила пятьдесят процентов всех своих проектов, — возможности ротации; но идея, сначала затрагивающая лишь персонал (танцовщицы Бали, задиры с Баль-а-Джо, тирольские официантки, тореадоры, фанаты корриды, спортивные инструкторы, заклинатели змей, жонглеры-антиподисты и т. д.), вскоре стала применяться к самим элементам оформления и привела к тому, что, несомненно, и сделало проект по-настоящему оригинальным: простое и радикальное отрицание пространства.
И действительно, при сравнении бюджетов на строительство и бюджетов на обслуживание очень быстро стало понятно, что возводить в двадцати четырех экземплярах пирамиды, подводные площадки, скалы, укрепленные замки, каньоны, гроты и т. п. оказалось бы дороже, чем оплатить проезд клиенту, находящемуся в Халле, который пожелал бы прокатиться на лыжах пятнадцатого августа, или клиенту, оказавшемуся в самом центре Испании, который захотел бы поохотиться на тигров.
Так родилась идея типового контракта: при проживании четырех и более суток клиенту предоставлялась бы возможность без дополнительной оплаты провести каждую последующую ночь в любом другом отеле корпоративной сети. Каждому вновь прибывающему гостю вручался бы своеобразный календарь с перечислением семисот пятидесяти туристических и культурных событий, — на каждое отводилось определенное количество часов, — дабы он мог заказывать сколько угодно мероприятий в пределах своего предполагаемого пребывания в «Marvel Houses», причем дирекция обязывалась бы — без дополнительной оплаты — выполнять его пожелания на восемьдесят процентов. Вот самый простой пример: если клиент, прибывающий в Сафад, заказал бы вразбивку такие события, как катание на лыжах, железистые ванны, посещение старого квартала касба в Уарзазате, дегустация швейцарских сыров и вин, турнир по канасте, осмотр музея Эрмитаж, ужин по-эльзасски, экскурсия по замку Шан-сюр-Марн, концерт филармонического оркестра «Де Муан» под управлением Ласло Бирнбойма, прогулка по гротам Бетарам («маршрут по всему горному массиву, волшебно подсвеченному 4500 электрическими фонарями! Сокровищница сталактитов и чудесное разнообразие естественных декораций во время прогулки на гондоле, дабы напомнить призрачные виды прекрасной Венеции! Уникальное Творение Природы!») и т. д., то управляющие, обработав данные на мощном компьютере компании, немедленно предусмотрели бы переезд в Куар (Швейцария), где имели бы место лыжные катания по глетчерам, дегустация швейцарских сыров и вин (вина из Вальтелина), железистые ванны и турнир по канасте, и еще один переезд, из Куара в Ванс, для посещения Воссозданных Гротов Бетарама («маршрут по всему горному массиву в волшебной подсветке и т.д.»). В самом Сафаде могли бы быть организованы ужин по-эльзасски, а также экскурсии по музею и замку с аудиогидами, позволяющими удобно устроившемуся в мягком кресле путешественнику ознакомиться с выгодно представленными и внятно описанными художественными шедеврами всех времен и народов. Однако переезд в Артезию, где стояла сказочная копия касба из Уарзазата, и в Орландо-Disneyworld, куда на весь сезон был ангажирован филармонический оркестр «Де Муан», Дирекция могла оплатить лишь в том случае, если клиент остался бы на еще одну дополнительную неделю, а в качестве возможной замены посоветовала бы посещение подлинных синагог Сафада (в Сафаде), концерт камерного оркестра из Брегенца под управлением Холла Монтгомери с солисткой Вирджинией Фредериксбург (Корелли, Вивальди, Габриэль Пьерне) (в Вансе) или лекцию профессора Стросси из Клермон-Ферранского университета на тему «Маршалл Маклюэн и Третья коперниковская революция» (в Куаре).
Разумеется, руководители «Marvel Houses» направляли бы все свои усилия на то, чтобы обеспечить каждый из двадцати четырех заповедников всеми обещанными объектами. При абсолютном отсутствии такой возможности, в одном месте они объединяли бы развлечения, которые в другом было бы удобнее заменить на доброкачественную имитацию: так, например, грот Бетарама был бы единственным, зато в других местах существовали бы такие пещеры, как Ласко или Лез Эйзи, конечно, менее зрелищные, но не менее насыщенные с образовательной и эмоциональной точки зрения. Такая мягкая и гибкая политика позволила бы осуществлять невероятно амбициозные проекты, и уже с конца 1971 года архитекторы и урбанисты начали творить, пусть пока еще на бумаге, настоящие чудеса: перевозка камень за камнем и строительство в Мозамбике оксфордского монастыря святого Петруния, воссоздание замка Шамбор в Осаке, уарзазатской Медины в Артезии, Семи Чудес Света (макеты в масштабе 1:15) в Пембе, Лондонского моста на озере Траут и дворца Дария в Персеполисе в Уистле (Мексика), где предстояло повторить в мельчайших деталях все великолепие резиденции персидских царей, несметное множество их рабов, колесниц, лошадей и дворцов, красоту их любовниц, роскошь их музыкальных церемоний. Было бы жаль тиражировать эти шедевры, поскольку оригинальность всей системы заключалась как раз в географической уникальности чудес и мгновенном исполнении желания, которое мог высказать состоятельный клиент.
Результаты исследований покупательского спроса и рыночных возможностей отмели все сомнения и опасения финансистов, так как они совершенно неопровержимо доказывали существование столь значительной потенциальной клиентуры, что можно было вполне обоснованно надеяться окупить проект не за пять лет и три месяца, как указывали первые расчеты, а всего лишь за четыре года и восемь месяцев. Начался приток капиталов, и в первые месяцы 1972 года, с реальным запуском проекта, было объявлено о строительстве двух экспериментальных комплексов в Трауте и Пембе.
В соответствии с пуэрториканскими законами 1% от общего бюджета «Marvel Houses International» должен был тратиться на приобретение произведений современного искусства; в гостиничном бизнесе обязательства подобного рода чаще всего приводят к тому, что в каждом номере отеля вывешивается какой-нибудь подкрашенный акварелью рисунок тушью с пейзажами Сабль-д’Ор-ле-Пен или Сен-Жан-де-Мон, либо перед главным входом выставляется какая-нибудь нелепая громоздкая скульптура. Но «Marvel Houses International» претендовала на более оригинальные решения, и, наметив три-четыре идеи — создание международного музея современного искусства в одном из гостиничных комплексов, покупка или заказ двадцати четырех значительных произведений у двадцати четырех действующих мэтров, учреждение «Marvel Houses Foundation» для распределения стипендий молодым художникам и т. п., — руководители «Marvel Houses» решили снять с себя этот второстепенный для них вопрос, поручив его какому-нибудь искусствоведу.
Их выбор пал на Шарля-Альбера Бейсандра, который был франкоязычным швейцарским критиком, регулярно публикующим свои хроники в «Фрибургском эксперте» и «Женевской газете», а также цюрихским корреспондентом полудюжины французских, бельгийских и итальянских периодических изданий. Генеральный директор «International Hostellerie» — и, следовательно, генеральный директор «Marvel Houses International» — являлся одним из его постоянных читателей и несколько раз успешно пользовался его советами относительно инвестиций в произведения искусства.
Приглашенный на Совет директоров «Marvel Houses» и введенный в курс дела, Шарль-Альбер Бейсандр сумел легко убедить компаньонов, что самый подходящий способ упрочения их престижа — это собрание очень небольшого количества первоклассных произведений: не музей, не скопление, и уж во всяком случае, не хромированная рамка над каждой кроватью, а горстка шедевров, ревностно хранимая в одномединственном месте, которые любители со всего мира мечтали бы увидеть хотя бы раз в жизни. Воодушевленные подобной перспективой, руководители «Marvel Houses» дали Шарлю-Альберу Бейсандру пять лет на собирание этих раритетов.
Итак, в распоряжении Бейсандра оказался пусть пока еще условный — окончательные расчеты, включая его собственные комиссионные в размере 3-х процентов, планировалось произвести не раньше 1976 года, — но все же колоссальный бюджет: более пяти миллиардов старых франков, сумма достаточная, чтобы приобрести три самые дорогие картины в мире или, — как он забавы ради высчитывал в первые дни, — скупить полсотни работ Клее или почти всего Моранди или почти всего Бэкона или практически всего Магритта и, может быть, пять сотен работ Дюбюффе, два десятка лучших работ Пикассо, сотню картин Де Сталя, почти всю продукцию Франка Стелла, почти всего Клайна и почти всего Кляйна, всего Марка Ротко из коллекции Рокфеллера, а к ним — в виде бонуса — всего Хюффинга из фонда Фитчуиндера и всего Хюттинга «туманного периода», которого Бейсандр, впрочем, находил скорее посредственным. По-детски наивная экзальтация, вызванная этими подсчетами, очень быстро прошла, и Бейсандр довольно скоро понял, что его задача оказалась более сложной, чем ему представлялось сначала.
Бейсандр был человеком искренним, внимательным, совестливым, открытым, он любил живопись и живописцев и чувствовал себя понастоящему счастливым, когда после долгих безмолвных часов, проведенных в мастерской или в галерее, его наконец пленяло устойчивое присутствие картины, ее прочное и невозмутимое бытие, ее плотная очевидность, которая мало-помалу проявлялась и превращалась в нечто почти живое, нечто исполненное, одновременно простое и сложное «здесь» и «сейчас», как знаки какой-то истории, какого-то труда, какогото знания, которые наконец-то проступали в итоге трудного, петляющего и, быть может, пытливого начертания. Разумеется, задание, порученное руководителями «Marvel Houses», носило меркантильный характер; тем не менее, оно ему позволяло, изучая искусство своего времени, множить эти «волшебные мгновения», — выражение принадлежало его парижскому коллеге Эсбери, — и он взялся за дело с воодушевлением.
Однако в художественном мире новости распространяются быстро, а искажаются с удовольствием; вскоре все уже знали, что Шарль-Альбер Бейсандр стал агентом крупнейшего мецената, который поручил ему составить самую богатую частную коллекцию из работ действующих современных художников.
Через несколько недель Бейсандр заметил, что обладает властью, намного превышающей его кредитные возможности. При одной только мысли, что в самом неопределенном будущем критик может, гипотетически, подумать о приобретении того или иного произведения для своего богатейшего клиента, торговцы теряли голову, а наименее признанные таланты за один день возвышались до ранга Сезаннов и Мурильо. Как в той истории о человеке, который на все про все имел одну банкноту достоинством в сто тысяч фунтов стерлингов и сумел, не разменяв ее, прожить целый месяц, одно лишь присутствие или отсутствие критика на художественном мероприятии имело сокрушительные последствия. Едва он появлялся на каком-нибудь аукционе, цены тут же начинали расти, а если он ограничивался беглым осмотром и быстро уходил, котировки колебались, снижалась, падали. Что касается его обзоров, каждый из них становился настоящим событием, которое инвесторы ожидали с нарастающей нервозностью. Если он писал о первой выставке какогонибудь художника, то художник продавал все за один день; а если он даже не упоминал об экспозиции признанного мэтра, то коллекционеры внезапно теряли к тому всякий интерес, а обделенные вниманием полотна продавали себе в убыток или отправляли на хранение в бронированные сейфы в ожидании того, когда они снова будут в фаворе.
Очень скоро на него стали оказывать давление. Его задаривали шампанским и фуа-гра, за ним отправляли черные лимузины с шоферами в ливреях; затем торговцы заговорили о возможных комиссионных; известные архитекторы выражали желание выстроить ему дом, а модные дизайнеры наперебой предлагали его отделать.
В течение двух-трех недель Бейсандр упрямо продолжал печатать свои рецензии, убежденный в том, что рано или поздно вызываемые ими опасения развеются, а страсти утихнут. Затем он пробовал использовать различные псевдонимы — Б. Драпье, Дидрих Никербокер, Фред Даннэй, М. Б. Ли, Сильвандер, Эрих Вайс, Гийом Портер и т. п., — но из за этого ситуация ничуть не улучшилась, поскольку отныне торговцы пытались угадывать его под любой непривычной фамилией, и необъяснимые потрясения продолжали будоражить художественный рынок еще долго после того, как Бейсандр совсем прекратил писать и даже дал об этом объявление на отдельной странице во все газеты, с которыми сотрудничал.
Последующие месяцы оказались для него самыми трудными: он запретил себе посещать аукционы и присутствовать на вернисажах; он принимал самые невероятные меры предосторожности, заходя в галереи, но всякий раз его инкогнито раскрывалось, и это вызывало катастрофические последствия; в итоге он решился вообще отказаться от любых публичных мероприятий; теперь он ходил только по мастерским; он просил художника показать ему пять работ, которые тот считал лучшими, и оставить его с ними наедине как минимум на час.
За два года он посетил более двух тысяч мастерских, разбросанных в девяносто одном городе в двадцати трех разных странах, и теперь его ждало самое сложное; ему предстояло перечитать все свои заметки и сделать выбор: в шале де Гризон, которое в его распоряжение любезно предоставил один из директоров «International Hostellerie», он думал о странном задании, которое ему поручили, и о курьезных последствиях, к которым оно привело. И приблизительно тогда же, в полном одиночестве — если не считать коров с тяжелыми колокольчиками, — разглядывая ледниковые пейзажи и размышляя о смысле искусства, он узнал об авантюре Бартлбута.
Он узнал о ней случайно, собираясь разжечь огонь в камине и комкая страницу двухлетней давности из местной газетенки «Свежие новости из Сен-Мориц», которая в зимний сезон дважды в неделю передавала сплетни горнолыжного курорта: в «Ангадинер» на десять дней приехали Оливия и Реми Роршаш, которых не преминули проинтервьюировать:
— Реми Роршаш, каковы ваши планы на ближайшее будущее?
— Мне рассказали историю одного человека, который совершил кругосветное путешествие только для того, чтобы рисовать картины, а затем их методично уничтожать. Я бы не прочь сделать из этого фильм…
Изложение было кратким и неточным, но достаточным, чтобы пробудить интерес критика. После того, как Бейсандр узнал о подробностях, проект англичанина его воодушевил, и тогда он очень быстро принял решение: именно эти произведения, которые автор стремился бесследно уничтожить, составили бы самое ценное сокровище самой редкой коллекции в мире.
Первое письмо от Бейсандра Бартлбут получил в начале апреля 1974 года. К тому времени он мог разбирать лишь заголовки газетных статей, и письмо ему прочел Смотф. В нем критик подробно рассказывал свою историю и пояснял, почему этим расколотым на множество пазлов акварелям он решил уготовить необычную художественную судьбу, в праве на которую сам автор им отказывал: уже столько лет художники и торговцы со всего света мечтали о том, чтобы в сказочную коллекцию «Marvel Houses» вошло хотя бы одно из их творений, а он, Бейсандр, предлагал одному-единственному человеку — не желавшему ни показывать, ни сохранять свое творчество — продать все, что от него еще оставалось, за десять миллионов долларов!
Бартлбут попросил Смотфа это письмо разорвать, последующие, если таковые будут, не распечатывая, отправлять обратно, а их автора, если тот вдруг пожалует собственной персоной, — не принимать.
Три месяца Бейсандр писал, звонил и стучался в дверь, но лишь зря потерял время. Затем, одиннадцатого июля он нанес визит Смотфу и поручил передать его хозяину, что объявляет ему войну: если для Бартлбута искусство заключалось в уничтожении задуманных им произведений, то для него, Бейсандра, искусство заключалось в сохранении хотя бы одного из этих произведений, причем любой ценой, и он намерен одолеть упрямого англичанина.
Бартлбут достаточно хорошо знал — хотя бы уже потому, что испробовал на себе, — какие пагубные последствия может иметь страсть даже для самых благоразумных людей, и не сомневался в том, что предложение критика было сделано всерьез. В качестве первой меры предосторожности ему следовало бы обезопасить уже восстановленные акварели, а для этого — прекратить их уничтожать на тех самых местах, где они некогда были нарисованы. Но предположить, что Бартлбут так и поступит, значило недостаточно хорошо его знать: брошенный ему вызов он не мог не принять, и акварели по-прежнему продолжали отправляться на свое исходное место, дабы там обретать белизну изначального небытия.
Эта финальная фаза великого проекта всегда осуществлялась с меньшей официальностью, чем предшествующие стадии. В первые годы — если находилось время съездить туда и обратно на поезде или слетать на самолете — эту операцию часто производил сам Бартлбут; позднее этим занимался Смотф, а затем, когда пункты назначения оказывались все более отдаленными, было взято за правило отправлять акварели представителям, с которыми Бартлбут некогда связывался на месте или с теми, кто их впоследствии сменил: к каждой акварели прилагался флакон со специальным растворителем, подробный план с точным указанием, где все должно произойти, пояснительная справка и письмо за подписью Бартлбута, который просил представителя надлежащим образом произвести уничтожение полученной акварели, следуя указаниям в пояснительной справке, а после завершения операции отправить ему обратно лист бумаги, ставший вновь чистым. До последнего времени операция проводилась точно, как предусматривалось, и спустя десять-пятнадцать дней Бартлбут получал белый бумажный лист, и ни разу ему даже не пришло в голову, что кто-то мог лишь сделать вид, что уничтожил акварель, а на самом деле отправил ему простой лист бумаги, — в чем он все же не забывал удостовериться, проверяя на всех листах — а они изготавливались для него специально — наличие его личной монограммы и мельчайших следов разреза Винклера.
Чтобы отразить наступление Бейсандра, Бартлбут рассмотрел несколько возможных решений. Самое эффективное заключалось бы в том, чтобы поручить уничтожение акварелей верному человеку и приставить к нему телохранителей. Но где найти верного человека, учитывая почти безграничное могущество, которым обладал критик? Бартлбут доверял лишь Смотфу, но Смотф был слишком стар, и к тому же за эти пятьдесят лет миллиардер — ради успешной реализации проекта — почти совсем отстранился от управления своим капиталом, передав его управляющим, и теперь даже не нашел бы средств, дабы обеспечить старому слуге дорогостоящую охрану.
После долгих размышлений Бартлбут решил обратиться к Роршашу. Никто не знает, как он сумел заручиться его помощью, но, во всяком случае, именно при содействии продюсера он поручал телеоператорам, отправлявшимся для репортажей к Индийскому океану, на Красное море или в Персидский залив, уничтожать акварели по установленным правилам и снимать это уничтожение.
В течение нескольких месяцев эта система функционировала без сбоев. Накануне отъезда оператор получал акварель, которую следовало уничтожить, а вместе с ней запечатанную коробку со ста двадцатью метрами обратимой пленки, то есть такой, которая в отличие от негативной после проявки дает реальное изображение. Смотф и Клебер отправлялись в аэропорт и встречали оператора, который вручал им выбеленную акварель и снятую пленку, которую они сразу же отвозили в лабораторию на проявку. В тот же вечер или — самое позднее — на следующий день, на кинопроекторе 16 мм, установленном в прихожей, Бартлбут мог отсмотреть фильм. После чего он его сжигал.
Однако различные инциденты, которые с трудом можно было принять за случайные совпадения, свидетельствовали о том, что Бейсандр не отказался от своих намерений. Наверняка, это он организовал ограбление квартиры Робера Кравенна, химика, занимавшегося реакварелизацией пазлов после истории с Морелле в 1960 году, и устроил преступный пожар, в результате которого чуть не сгорела мастерская Гийомара. Бартлбут, чье зрение слабело с каждым днем, все больше выбивался из намеченного графика, и поэтому на момент ограбления в мастерской Кравенна не было пазла; что касается Гийомара, то он сам потушил очаг возгорания — смоченные в бензине тряпки — еще до того, как поджигатели успели выкрасть акварель, которую он только что получил.
Но этого было явно недостаточно, чтобы Бейсандр отступился. Меньше двух месяцев назад, двадцать пятого апреля 1975 года, в ту самую неделю, когда Бартлбут окончательно потерял зрение, неминуемое все же произошло: отправившаяся в Турцию съемочная группа с оператором, который должен был съездить в Трапезунд, чтобы произвести уничтожение четыреста тридцать восьмой акварели Бартлбута (на тот момент англичанин отставал от графика уже на шестнадцать месяцев), не вернулась: через два дня стало известно, что четыре человека погибли в совершенно необъяснимой автокатастрофе.
Бартлбут решил отказаться от своих ритуальных уничтожений; отныне собираемые им пазлы уже не надо было склеивать, отделять от деревянной основы и погружать в раствор, из которого лист бумаги выходил бы абсолютно белым, а было достаточно просто укладывать в черную коробку мадам Уркад и бросать в печь. Это решение оказалось одновременно запоздалым и бесполезным, так как Бартлбут так и не успел завершить пазл, начатый в ту неделю.
Через несколько дней Смотф прочел в газете, что компания «Marvel Houses International», филиал «Marvel Houses Incorporated» и «International Hostellerie», объявила себя несостоятельной. Новые расчеты показали, что, учитывая увеличение строительных расходов, для амортизации инвестиций в двадцать четыре культурных заповедника потребуется не четыре года и восемь месяцев и даже не пять лет и три месяца, а шесть лет и два месяца; основные заказчики, напуганные этой перспективой, вывели свои капиталы и вложили их в гигантский проект по буксировке айсбергов. Программа «Marvel Houses» была приостановлена sine die. О Бейсандре никто никогда ничего больше не слышал.
1 На первый взгляд может показаться, что Соединенные Штаты оказались в списке дважды — Artesia и Orlando — вопреки решению строить двадцать четыре комплекса в двадцати четырех различных странах, но, как весьма справедливо заметил один из директоров «Marvel Houses», Orlando к Соединенным Штатам относится территориально, тогда как Disneyworld — это обособленный мир, в котором «Marvel Houses» и «International Hostellerie» просто обязаны иметь свое представительство. Авт.