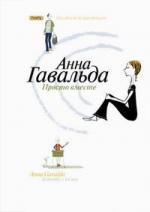Исследования показали, что применительно к классической литературе понятие «глубина текста» имеет не только метафорический, но и буквальный — топологический — смысл.
Понятие «глубина текста» связано с ортогональностью осей чтения и понимания: наличие «глубины» как реального свойства исключает одновременность чтения и понимания. Синхронизировать их и интегрировать в одно целое при наличии «глубины» невозможно. Движение вдоль текста (чтение), если текст обладает «глубиной», не дает возможности его понимать, то есть читающий не успевает актуализировать все коннотации, приуроченные к каждой из точек линейного текста. Необходимы остановки чтения и уход в глубину, внутрь текста, где обнаруживается собственная структура и собственное содержание. Так возникают комментарии, но это не комментарии элементов линейного текста («Париж — столица Франции»), а описание элементов глубинной структуры текста, выходящей на поверхность, в линейный текст, а в конечном счете и всей этой глубинной структуры текста, скрытой под линейным текстом. Собственно «структура текста», изученная московско-тартуской школой (и основанная на приложении лингвистических понятий «синтагма» и «парадигма» к тексту литературных произведений), относится именно к этой «глубине», противопоставленной «поверхности». Примером, поясняющим эти теоретические положения, является комментированное издание рассказа Поля Морана «Я жгу Москву» (см.: Золотоносов М. Слово и Тело: Сексуальные аспекты, универсалии, интерпретации русского культурного текста XIX — ХХ веков. М., 1999. С. 161-359).
Самым заметным внешним признаком этого комментария является то, что он в 14 раз превышает по объему сам комментируемый рассказ. Это означает, что словесные затраты на описание глубинного текста потребовались значительные — гораздо большие, чем сам линейный текст. И это, на наш взгляд, закономерно, поскольку глубинная структура, если она есть, представляет собой сложное и многосвязное явление — более сложное и разветвленное, нежели линейный текст. За время, прошедшее с публикации того комментария, автору пришлось еще однажды делать подобную работу — это комментарий к рассказу А. П. Чехова «Открытие», который вошел в книгу «Другой Чехов: По ту сторону принципа женофобии», готовящуюся к изданию в 2007 году. Кстати, здесь соотношение исходного литературного текста и комментария примерно такое же, как и в первом случае: 1 : 14.
Выявление и описание «глубинного текста» — самое увлекательное, что существует в литературоведческой работе, поскольку речь ведь идет не просто о структуре, но именно о тексте, имеющем свой сюжет, своих специфических персонажей и т. п. И этот «глубинный текст» оказывается неким скрытым, но чуть ли не более «подлинным» текстом, который надо открыть, в чем и состоит пафос исследовательской работы.
Кстати, впервые с «глубиной текста» автор столкнулся лет двадцать назад в связи с анализом структуры «Бесов». Результаты были оформлены в виде статьи (Золотоносов М. «Случайный человек» в «Бесах»: генезис, структура, семантика // Содержательность форм в художественной литературе: Межвузовский сборник. Куйбышев, 1989. С. 61-84), но на подобные «братские могилы» провинциальных научных трудов никто и никогда не обращал и не обращает внимания. Статья, естественно, осталась незамеченной, однако в ней были зафиксированы весьма существенные свойства, характерные для определенной модификации «глубинного текста», и именно результаты того исследования нам хотелось бы представить подробнее в этой статье.
Развитие текста Достоевского (а его проследить нетрудно, поскольку сохранились все подготовительные материалы) шло из исходной точки, в которой были статично противопоставлены два персонажа — мужчина и женщина. Дальнейший процесс привел к выделению из этих двух персонажей неких ипостасей, свойства которых и идеология позволяли бы создать динамику отношений и сюжет линейного текста. Так мужской персонаж разделился на Князя и Учителя, а женский персонаж — на Красавицу и Воспитанницу. В подготовительных материалах последовательно возникают отношения Учителя и Князя с Воспитанницей и Красавицей, которые актуализируют два устойчивых сюжетных мотива: плотской, «низкой» любви и платонической, «высокой». Именно эта оппозиция и потребовала разделения одного женского образа на два, соответственно должен был разделиться и исходный мужской персонаж.
Рассмотрим четыре примера, связанных с «Бесами», которые мы рассматриваем как единство подготовительных материалов и окончательного (дефинитивного) текста.
- В подготовительных материалах в образе Красавицы объединены будущие Лизавета Николаевна и Марья Игнатьевна Шатова. Поэтому варианты поведения Красавицы соответствуют поведению обеих героинь окончательного текста романа (здесь и далее опускаем подтверждающие цитаты).
- Дарья Павловна и Марья Игнатьевна Шатова в подготовительных материалах объединены под именем Воспитанницы.
- В подготовительных материалах Шатов и Картузов (многие качества которого потом отдаются Лебядкину) функционально заменяют друг друга в отношениях с Красавицей.
- Марья Тимофеевна (Хромоножка) и Дарья Павловна занимают одинаковую позицию по отношению к Шатову, Князю и Картузову (Лебядкину).
Из этих примеров можно сделать некоторые выводы. Прежде всего, выясняется наличие двух типов связи между персонажами окончательного текста, рассмотренного совместно с подготовительными материалами: либо они связаны через общий протообраз, в котором синтезированы свойства характера и поступки, впоследствии распределенные между несколькими персонажами (примеры 1 и 2), либо персонажи окончательного варианта в ситуациях, описанных в подготовительных материалах, функционально заменяют друг друга (примеры 3 и 4).
Так, например, Шатов и Картузов восходят к Учителю, фигура которого возникает на самом раннем этапе работы над романом — в наброске под названием «Зависть», в котором появляются А. Б. (затем Князь), Воспитанница, Учитель и чуть позже Красавица. Учитель возникает как антипод А. Б. (Князя) в качестве защитника женской чести: сначала только Воспитанницы (имеющей «брюхо» от Князя), а затем и Красавицы. Примечательно, что именно в тот момент, когда в наброске возникает Красавица (11, 59; ссылки даются по изданию: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972-1986; при цитатах указываются цифрами том и страница), от Учителя отделяется ипостась, специально связанная с Красавицей, — «сосед Картузов, пишущий стихи Красавице» (11, 60), который «вмешивается в историю Князя с Воспитанницей в интересах Кбармасзиной» (11, 61), как именовалась Красавица еще в наброске «Картузов», предшествовавшем «Зависти».
Важнейшей особенностью творческого процесса Достоевского является то, что различные варианты как характеров, так и сюжетных связей между ними, сочиненные в процессе подготовительной работы, не отбрасываются, а накапливаются и по мере накопления требуют новых и новых персонажей, в которых сохраняющиеся варианты могли бы быть овеществлены. Скажем, сохраняются оба варианта отношений Воспитанница — Шатов (Шапошников), где первая выступает и как сестра, и как невеста Шатова. Первый вариант кристаллизуется в «Дарью Павловну», второй — в «Марью Игнатьевну Шатову». С заменой Шатова на Лебядкина (а протообраз у них общий) Воспитанница реализуется как Хромоножка — сестра Лебядкина и как Лиза Тушина — несостоявшаяся (воображаемая) невеста Лебядкина. В результате в романе возникают комплексы персонажей с идентичной внутренней структурой:
Шатов — Дарья Павловна
Лебядкин — Хромоножка
(брат — сестра)
Ставрогин — Лизавета Николаевна — Маврикий Николаевич Лебядкин
Ставрогин — Марья Игнатьевна — Шатов
(первая пара — любовники, вторая пара — муж и жена,
как состоявшиеся, так и не состоявшиеся)
Ставрогин — Хромоножка
Ставрогин — Дарья Павловна
(отношения платонической любви)
Описанный процесс с неизбежностью породил «случайность» персонажей. Исходные образы расщепляются, поскольку один персонаж не в состоянии выполнить все сюжетные функции, и от этого свойства (идеологические, социальные, психологические) распределяются между персонажами, при этом остаются и маловероятные (с точки зрения нормы) наборы свойств — то, что традиционно именуется «обратными общими местами». Главное, что характеры персонажей определяются не одним лишь окончательным текстом, но всей длинной «родословной», начало берущей именно в подготовительных материалах.
В «Зависти» Учитель «вырастает в красоте <…> кончает идеалом красоты» (11, 60), в то время как Князь олицетворяет противоположный нравственный полюс, «ненавидит Учителя» (11, 60), бьет его по лицу.
Нетрудно увидеть знакомые по тексту романа «Бесы» сюжетные положения. Однако сравнение показывает, что они не просто «перевернуты» (в романе Шатов бьет Ставрогина по лицу), а перераспределены, в результате чего в характере Ставрогина соединены в противоречивую комбинацию и плотская любовь (в двух вариантах — с Лизой и Марьей Шатовой), и «христианская» (11, 208), причем тоже в двух вариантах: церковный брак с женой-девушкой Марьей Тимофеевной и отношения с Дарьей Павловной.
Особенного внимания заслуживает реакция Ставрогина на удар кулаком, неожиданно нанесенный Шатовым. Эта реакция — классический пример «обратного общего места». Хроникер даже специально подчеркнул в своем рассказе, что Ставрогин в силу особенностей своей натуры должен был убить Шатова (10, 164). Однако вместо этого Ставрогин «схватил Шатова обеими руками за плечи; но тотчас же, в тот же почти миг, отдернул свои обе руки назад и скрестил их у себя за спиной» (10, 166).
Странная реакция Ставрогина в окончательном тексте романа остается необъясненной. Объяснение дают подготовительные материалы, в которых, наоборот, Князь дает Шатову пощечину (причина та же, что и в дефинитивном тексте: связь с Воспитанницей), а Шатов ее сносит. Перевертыш психологических характеристик Шатова и Князя приводит к тому, что в дефинитивном тексте романа бьет Ставрогина Шатов, причем Достоевский комбинирует этот перевертыш с кротким характером получившего пощечину персонажа, сформировавшимся еще в подготовительных матриалах. Но то, что было логично для характера Шатова, пропагандиста личности Христа, или для Князя, который «снес пощечину», потому что являлся лицом романическим и загадочным, новым человеком «безмерной высоты» (см. 11, 131), заменяющим Голубова (11, 136), то совершенно алогично и парадоксально для характера Ставрогина.
Однако парадоксальность эта снимается, если дефинитивный текст рассматривать в системе (сумме) с подготовительными материалами, которые создают «глубину текста». То есть возникает метасюжет, который включает не перипетии поверхностного (линейного) текста, а различные фазы процесса развития персонажей, их выделения из нескольких исходных протообразов, и именно на основе анализа суммарного текста открывается структура поверхностный текст — глубинный текст, которая характеризует сочинение Достоевского как метароман. Только с учетом того, что «Бесы» надо рассматривать как такой метароман, можно объяснить загадочную фразу Хромоножки: «Прочь, самозванец! <…> Я моего князя жена, не боюсь твоего ножа!» (10, 219). Содержащиеся в подготовительных материалах наброски характера Князя (и само это имя — Князь) как «нового человека», почитающего личность Христа за жизненный идеал (именно на этой стадии эволюции образа Князя и возникла Хромоножка), разъясняют смысл этой странной фразы. Хромоножка словно читала подготовительные материалы и помнит о них, внося их в дефинитивный текст. Другой пример: в дефинитивном тексте Лебядкин говорит Ставрогину, что хочет завещать свой скелет в академию «с тем, однако, чтобы на лбу его был наклеен на веки веков ярлык со словами: „Раскаявшийся вольнодумец“» (10, 209). Эта странная для Лебядкина фраза объясняется генезисом персонажа из Учителя — Картузова, и не случайно, например, Шатов, также генетически восходящий к Учителю, «радикально изменил некоторые из прежних социалистических своих убеждений и перескочил в противоположную крайность» (10, 27).
Существенной чертой «глубинного текста» «Бесов» как метаромана (в указанном выше смысле) является его «сюжетность», и если трансформировать текст подготовительных материалов в некое связное повествование, то выглядело бы оно так: вдруг Хромоножка превращается в жену Князя и сестру Картузова; вдруг Воспитанница становится сестрой Шатова и т. д. Эти «вдруг» подготовительных материалов, на уровне черновой работы свидетельствующие о развитии замысла и накоплении вариантов, Достоевским часто не отбрасываются, а превращаются в неожиданности, зафиксированные в «поверхностном» тексте: вдруг высняется, что сестра Лебядкина — жена Ставрогина, вдруг к Шатову является его жена со ставрогинским ребенком, вдруг Шатов дает пощечину Ставрогину и т. д. Все это следы соединения в тексте различных сюжетных вариантов, альтернатив.
Таким образом, Достоевский производит «сборку» различных вариантов, создаваемых в процессе работы. Возникает аналогия со «слоистой» структурой поведения индивида, в которой обнаруживаются «в застывшем виде различные законченные уже фазы развития. Генетическая многоплановость личности, содержащей в себе пласты различной древности, сообщает ей необычайно сложное строение…» (Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. М., 1983. Т. 3. С. 63). Так же устроен персонаж Достоевского: развитие культурного индивида и развитие персонажа у Достоевского в процессе художественного творчества имеют общие черты органического развития, идущего «по законам напластования и надстройки новых этажей над старыми» (Там же. С. 140). Можно предположить, что возникающая «глубина текста» вызвана именно органикой процесса творчества.
Противоположный вариант творчества — использование стереотипов, литературных штампов. Именно такова современная литература, лишенная глубины текста в указанном смысле. Отсутствует как органика процесса творчества, подмененная игрой со стереотипами, так и ортогональность «чтения» и «понимания». В текстах В. Пелевина или Б. Акунина «понимать» нечего, все исчерпывается «чтением». Характерный пример — новейший роман В. Пелевина «Ампир В» (2006), который нам недавно пришлось рецензировать. Если применять топологический образ, то все сводится к тому, что рассказ объемом в четыре страницы растягивали в роман объемом 408 страниц; в результате получилась очень тонкая пленка, лишенная глубины, к тому же ткань во многих местах порвалась, образовались дырки, которые видны по всему тексту, а на конец материала и вовсе не хватило. Сам Пелевин использование стереотипов и штампов осмыслил таким образом: «Наступила эпоха цитат из массовой культуры, то есть предметом цитирования становятся прежние заимствования и цитаты, которые оторваны от первоисточника и истерты до абсолютной анонимности». Такова почти вся современная русская проза.
Михаил Золотоносов