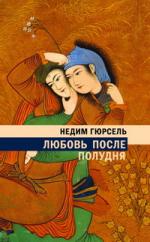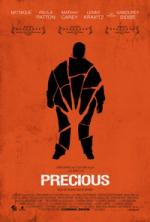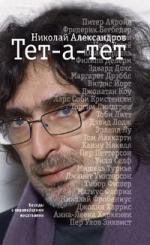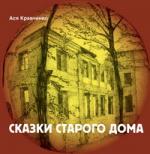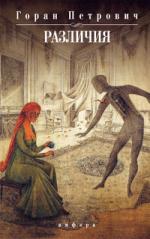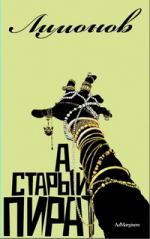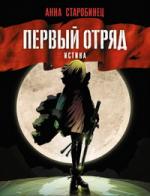«Я Лина Лом —
пиздец, облом
и вся хуйня — из-за меня»
Это ее программное стихотворение.
И точно — про нее. Где Лина — там вечно пиздец, облом и вся хуйня…
Ей бы еще подошла кликуха «Авария». Хотя Лом — тоже нормально.
Немецкого дедулю она себе конечно придумала.
Как, впрочем, и Эвелину. Зовут ее просто Лина Ломакина.
Она когда-то жила на Петроградской — тусила в компании Тани Тайниной.
Мы там все как-то пресекались, она меня младше лет на семь, кажется.
К Никите Михайловскому ее занесло пару раз — совсем еще зеленую.
Вроде бы у Алины Алонзо она мелькнула.
Но Алина ее быстро шуганула — слишком яркая была девчонка.
Стихов тогда никаких особых не было…
То есть она, конечно, обзывала саму себя поэтессой, но кто ж в юности не пишет стихи? Все девицы кругом были либо артистки, либо художницы, либо поэтессы.
Все, кто называется «честные давалки», то есть не профи-проститутки и не тупые «бляди на интерес».
В общем, Лина была смешная, яркая, долговязая — очень хорошенькая…
Честно давала всем, кто мог ее рассмешить.
То есть, разного рода богемным отморозкам.
Или просто торчкам. Алкашами тоже не брезговала.
Но потом ее совсем уж занесло в наркошную среду.
А я эту среду хорошо знаю с четырнадцати лет.
Причем — знакомство началось сразу с конца — шприцы, кровища…
А я типа такой «шабос гой» — всех колю.
Ну? в общем, хорошая терапия для школьницы — уже к пятнадцати я сильно шугалась любой наркоты. Ажно траву не пробовала да двадцати пяти.
Ну вокруг-то все было.
См. мемуары Оли Жук.
Которая тож Лину Ломакину отлично знает.
Еще, помню, всех наркошей ее фамилия веселила.
Это я все к чему? А к тому, что она не живет в Гермашке безвылазно.
Да, жила — она когда-то убежала туда от одной истории.
А сейчас она, по крайней мере, полгода в году проводит в Питере.
Но светиться ей просто нельзя.
История, в общем, детская, глупая.
Она в какой-то момент вписалась курьером — перевезти из Азии чемодан травы. Это денег тогда стоило немеряно.
И лет за это давали немеряно.
Ну, десятку за чемодан точняк могли дать.
А Лина в аэропорту увидела собаку. Ментовскую собаку-нюхача.
И бросила этот гребаный чемодан. Испугалась, в общем.
Люди потом говорили, что все это гон, что она чемодан за два дня скурила
со своим тогдашним. С кем она тогда была, никто и не помнит…
Гепнер ли, Юнгер? Буля, али Сашка Воробьишка?
Одним словом, скурить за два дня чемодан — было кому.
Но я верю в историю с собакой.
Я сама однажды в Париже видала такую в аэропорту.
И по-любому неприятно становится.
Я, например, везла штук пять красивых трубочек — просто для подарков.
И вдруг испугалась, что собака унюхает.
Хотя все трубочки куплены в магазине на Канал-стрит.
И на витрине написано «табакко пайп».
Ну а тут реальный чемодан шалы и глины.
А на дворе конец восьмидесятых.
Свобода, типа, уже есть, но в основном, свобода быстрой съебежки.
Должок на нее повесили.
Она никогда естественно не работала и заплатить не могла.
Ну и убежала на Гермашку.
Наверное, от тоски и отчаяния начала писать реально хорошие стихи.
Здесь — ее никто не видит.
Даже Мякишев, которого на считает патроном и учителем, видит ее редко.
Но и он не знает, где она зависает в Питере.
И Таня Тайнина молчит как рыба.
И Жучка — не колется.
Потому что наркошные долги, сродни карточным — они не списываются.
И нету понятия срока давности.
Вообшем, если Лина засветится — ее найдут и снова спросят.
А все эти годы, ей типа счетчик стучал. Люди-то никуда не делись.
Ну, в смысле, много кто выжил.
И есть кому с нее спрашивать.
Есть и еще причина, почему она никогда не появляется — на вечерах, стишки зачитать туда-сюда…
Ей за сорок, и выглядит она… пройдя все, что можно пройти… да?
Я всегда говорила: бедным — этого нельзя.
Ну нету у нас бабла на массажиста, пластическую хирургию, чистый розовый кокос, ежеквартальные поездки в Мексику на мескалиновые грязи…
В общем, зубов у девки нету. Морда — сильно мятая.
И все это обидно, если ты хороший поэт, и тебе всего-то слегка за сорок.
Она ж в завязке. То есть выплыла, очнулась, проснулась…
Кругом — осколки хрустального гроба, обломки королевича Елисея…
А вот зеркальце, сука, целехонько.
Свет мой, зеркальце, скажи… ну ебаный в рот…
В общем, показываться на поэзо-вечерах она не хочет.
Читают ее стихи обычно кореша: Емчик Мякишев и Черный профессор Болдуман.
С Болдуманом у них точно в юности что-то было.
Насчет Мяки не уверена.
Но Болдуман знает, где она живет в Питере.
В конце-концов, он мог бы и заплатить этот ее долг.
Но она боится вообще встретить этих людей.
Она в завязке несколько лет уже, и все серьезно.
В общем, у нее истерический страх вообще поднимать эту тему.
В результате, по городу ходит дурацкая сплетня, что никакой Лины нет.
Что она — проект Мякишева и Болдумана.
Потому что вся связь с ней — тока через них.
И стихи ее читают со сцены — тока они.
Но это конешно — пиздеж.
Есть она, есть — и как минимум полгода проводит в Питере.
И сейчас она в Питере.
Я ее недавно видела на Невском. Она прошла мимо.
Нормальная такая Ломакина — тока без зубов и высохшая вся.
В растманской шапочке. Ножки легка заплетаются.
Взор куда-то… нахх.
Похожа на Снежку-барабанщицу.
Я думаю, что лет через десять она нам покажется.
И тут нам всем мало не покажется!
Потому что поэт она — сильный. И становится все лучше и лучше.
Тут немного биографии http://slova.uuuq.com/number6/6%20-%20authors.htm, тут еще стихи http://slova.uuuq.com/number6/6%20-%20lom.htm, тут теги на лину в жж у кунштука http://kunshtuk.livejournal.com/tag/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC, http://kunshtuk.livejournal.com/?skip=10&tag=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC, http://kunshtuk.livejournal.com/?skip=20&tag=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC, http://kunshtuk.livejournal.com/?skip=30&tag=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC.
И вот — из последнего:
Просто сказка
Пусть жжет еще сильней! — почти у самых глаз.
А. Тарковский
Лжецы в учителях, а во френдах — подонки,
Конечный горизонт завален пустотой.
Угодник Николай глядит из-за иконки
Покойно — сквозь окно — в колючий лес густой.
Прикольно мне скакать по веточкам и сучьям,
По-щучьи исполнять желания твои,
Проворно кружевить по сеточкам паучьим,
Пером крыла кромсать небесные слои.
Живу и не тужу — сама себе в угоду!
Уроки позабыв, забанив всех френдов.
Аскаю на скаку огня живую воду —
Наполнить бы сосуд до первых холодов…
Восшествие
За щастье рассказывать нечего мне —
Торчала морковкой из грядки одна.
Якшалась с грибками на book’овом пне,
Зияла, подобно поганке, бледна.
Тут.
Вдруг друг по верёвке спустился с небес —
Надёжный, отважный грибник-букинист.
И прелестей для он на грядку прилез,
Спасения ради — чудной альпинист.
Gut.
Задобрил сорняк, убелил чернозём,
Опальной травы подсуропил в струю,
Телеги катил про архангелов-зём,
Венчальные кольца вертел на хую.
Плут.
Три короба нежной ажурной трухи,
Рассеяв туман, поразвесил окрест —
Похлёбку варил из земной требухи,
Хотел укорить мой крутой эверест.
Крут!..
Шлюсс*
Хыть**! Постная старость пьёт воду с лица,
А девичьи косы подрезал мне ты —
Я вспомню трёхбуквенный код от ларца,
Где в войлок для стелек свалялись мечты…
Пусть живо метнутся, меня веселя,
Сверкающей сворой пустующих сук!
Не вовремя тянет-потянет земля —
Не вырос ещё мой осиновый сук.
Покуда бодрит бананасовый сок,
Шарахает шнапс, пригревает коньяк,
В потешном мешке завершу марш-бросок,
Исполнив под куполом церкви флик-фляк***.
* Шлюсс — термин, обычно применяемый к клоунским номерам, последняя, эффектная точка, яркий финал. (ЦИРКОВОЙ СЛОВАРЬ «Мир Цирка от А до Я»)
** Хыть — междометие без определенного смысла. В целом аналогично панковскому «хой!» или новорусскому «блин». (Словарь молодёжного сленга)
*** Фляк — акробатическое и гимнастическое упражнение, прыжок с двух ног вверх-назад с двумя фазами полета: прогибаясь в первой части после толчка ногами до опоры на руки, сгибаясь во второй части после толчка руками (курбет). Фляк выполняется: из полуприседа, после кувырка, колеса, курбета, рондата, темпового сальто и т.д. (Толковый словарь спортивных терминов, 2001)
Der letzte Flug*
Треть «Trittico»** приняв заместо пагубной текилы,
Законы готики поправ на нижнем вираже,
За нюрнбергским November’ом я наступлю на вилы
И трезвым рылом влипну в снег, подвыпивший уже.
Над кирхою завис больной боец нечистой силы,
Стоят-молчат колокола на ноющем ветру,
Кирюха — вечный корефан взывает из могилы:
«Когда Flugzeug’ом*** из гостей к апостолу Петру?»
Отложен близлежащий рейс: нелётная погода,
Забит-накрыт аэропорт Dezember’ской пургой.
И, в общем-то, рукой подать пора до неба свода…
Но полежи пока один, покойный-дорогой.
* Дэр лецтэ Флюг — последний рейс
** Trittico® Триттико. Лекарственная форма: таблетка 150 мг. При лечении расстройств либидо (не по Фрейду, но по Юнгу. ЛЛ) рекомендуется суточная доза 50 мг, при лечении импотенции, в случае монотерапии препаратом, рекомендуемая суточная доза более 200 мг. Показание к применению: тревожно-депрессивное состояние на фоне органических заболеваний центральной нервной системы, алкогольные депрессии, расстройства либидо и потенции.
*** Флюгцойг’ом — самолётом
Игры с Люсей
Братья мне — грибы-дубы, сводный папа — лес,
Мама — яма на горе, кум — водоворот,
Сёстры — глыбы и грубы, дроля — уд с небес,
Чада — чаги в сентябре, лепший кореш — крот…
Чур! На кислом и не то чудится в себе —
Искривляются миры, затухает свет
До агонии. Барто — свалка в серебре,
Сэм Маршак — вахлак игры, Михалкова — нет.
Der Schlagbaum*
Если светлая даль по накуре маячит,
То, увы, горизонт низок перед грозой…
Я не сука — лишь равный меня зафигачит
На Гермашке, граничащей с русской кирзой.
Пусть появится кат мой, подкатит красивый
С парабеллумом в жёсткой изящной руке,
Белокурый с рейхстаговской гербовой ксивой —
На шальном перекрёстке — потом, вдалеке —
С опергруппой, овчарками, мотобригадой;
Messerschmitt’ы — на бреющем, Abwehr в тылу!
Я открою шлагбаум с привычной бравадой
И сигнальным флажком дам ему по еблу.
* Дэр Шлагбаум — шлагбаум
Необдолбанное путешествие
(по дороге из Куксенхаузена)
Mitfahren nach Мunchen* в канун Рождества —
На встречу с наследием предков лечу;
Подрублены древние корни родства —
Альбрехтом Альтдорфером их залечу.
Матис Готхардт-Нитхарт почешет мой зрак—
Без Кранахов — крах на Гермашке, капут!
Мне Дюрер — гроссфатер**, и Гольбейн — не враг…
Нырну в Barerstrasse***, пусть скопом пропрут!
До Пинакотеки пути — с гулькин хер,
Когда в гермошлеме душистый гашиш,
Но если дня два не долбать, например,
По Бану ебаному низко летишь…
* Митфарэн нах Мюнхен — на попутке в Мюнхен
** Гроссфатер — дедушка
*** Barerstrasse — Барерштрассе, улица в Мюнхене, где находится Пинакотека
Прорыв в прорву
Ввернулся ли в Питер шурупом?
Забился ли в Kreuzberg гвоздём?
Пусть даже ты сделался трупом —
По Unter den Linden пройдём!
Нырнём во дворы Петроградки
Сквозь створ Бранденбургских ворот —
Имел неплохие задатки,
А где притязанья, задрот?
Твой призрачный гений желанья
Отправился в люди… Собес*!
И тащит мечты на закланье
В гниющую прорву телес.
Когда-то бухали-махали,
Искали себя в забытьи.
И хули нашли-то? Das Heile**,
Der Friedhof*** да ложку кутьи.
* Собес
1. Социальное обеспечение
2. Учреждение, ведающее социальным обеспечением
(Словарь Ожегова)
** Дас Хайле — благо
*** Дэр Фридхоф — кладбище
Про любовь
Всё скурвлено, выпито, кончен приём.
Спускают на лифте. Ложусь в кадиллак.
Мы люто с тобой оттянулись вдвоём,
Отъеду ж, однако, одна я — гуд лак.
Стерильная музыка, ясный кокос,
Лиловый в ливрее прилеплен к рулю.
Зачем я с тобою пустилась вразнос?
И чем я наутро себя обнулю?
Hier Lina*
Замёрзло Lambrusco Frizzante винцо —
Ледышку сосу, сохраняя лицо.
А что остаётся — сгустилася мгла —
Чужбина-горбатина! Как я могла?!
Оставила в ахуе слабую ма —
Гужбаню, торчкую, пирую. Чума!
А дальше-то что? Ни кола, ни угла —
Невы — колоница, Фонтанки — смола…
Вернулась в мой город знакомый. Для слёз.
Где все — мертвецы. А кто выжил — тверёз.
Где высились шпильки моей Петропа
И в пачках давали балет Петипа.
И что же теперь? Возвращаться в Deutschland,
Где можно глинтвейном залиться до гланд,
Заткнувшись сосиськой и рулькой свиной?
Уж лучше шалить под шалой на Сенной!
* Хир Лина — здесь
** Дойчланд — Германия