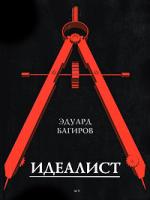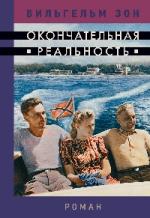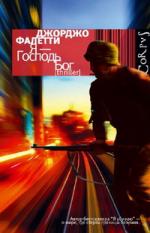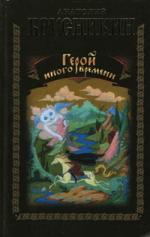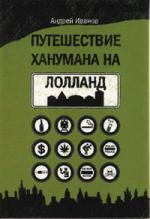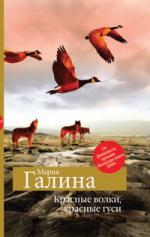Отрывок из романа
* * *
— Э, слышь! Встал, давай, быстро! — Я проснулся от резкого тычка ментовской дубинкой в ребра. — Встал, кому сказал! Документы! Билет показал!
Я открыл глаза, сразу же впрочем зажмурив их снова: по сетчатке больно резануло — мощную иллюминацию тяжеловесных люстр в Девятом зале ожидания Казанского вокзала никогда не приглушали. На здоровенном табло можно было разглядеть время — полпятого утра. Несколько минут назад уполз пассажирский на Иркутск, и теперь, кроме челябинского в пять ноль две, отправления не планируется аж до семи утра, а пассажиры электричек этим залом не пользуются. Поэтому здесь было почти пусто, и моя растянувшаяся на четыре сиденья тушка здорово бросается в глаза.
— В Рязань еду, командир, — пробормотал я, выпрямляя затекшую спину. — Тетка у меня там.
— Билет где? — Свинорылый сержант лениво перелистывал мой украинский паспорт. — Билеты прибытия и убытия должны быть.
— Не купил еще… билет-то. В семь пятнадцать, командир, рязанский сто десятый. Позже куплю.
— Да хорош в уши-то ссать, — подошедший второй мент на паспорт даже не взглянул. — Какая Рязань, нахер? Я его тут уже третье дежурство вижу. Бомжара это, ептыть. Ну-ка, че у тя в торбе? Показал быстро. Муфлон, ептыть.
— Да ничего там нет, командир, — я суетливо расстегивал молнию рюкзака. Пальцы дрожали, молнию заклинило, открылась не враз. — Так, рыльно-мыльные всякие приблуды, мелочь разная. Книжка вот, фотоаппарат старенький.
— Открывай, ептыть. Карманы вывернул, давай, рязанец херов, — он внимательно ощупывал мое почти пустое портмоне, в недрах которого шуршала лишь какая-то мелочь. — На что билет-то покупать собрался, хер собачий? Че лапшу-то на уши вешаешь?
Я, опустив глаза, молчал. Второй мент бегло осмотрел скудное содержимое рюкзака, повертел фотоаппарат, брезгливо поморщился, швырнул его обратно.
— Че делать-то с ним, Сань? В отделение?
— Да нахер он нужен в отделении-то? — второй, поморщившись, отмахнулся. — Че там с ним делать будут? У него ж бабла даже на штраф не хватает. Возись с ним, гнидой хохляцкой. Э, — ткнул он в мою сторону дубинкой, — ну-ка встал, и свалил давай отсюда. Пока ноги ходят. Еще раз увижу, отведу вон за пути, кишки поотшибаю. Пшел!
Я сгреб рюкзак, тяжело поднялся, и, сгорбившись под безразличными взглядами пассажиров, побрел в сторону выхода. В голове шумело, и к страшному желанию спать вдруг добавилось проснувшееся вместе со мной острое чувство голода. Но спать все же хотелось сильнее. Я спустился на перрон, и двинулся к электричкам. Ровно в пять отходит голутвинская, путь долгий, и я смогу выспаться. А оттуда в восемнадцать ноль семь таким же макаром потом вернусь. Что-что, а уж расписание Казанского вокзала я знал назубок, хоть ночью разбуди. Это, впрочем, неудивительно — на данном моем жизненном этапе Девятый зал ожидания — место моего проживания.
Вообще-то я родился на Чукотке. Всякое бывает. Заполярный военный поселок на несколько сотен человек, дальняя даль и дикая дичь, называвшаяся Мыс Шмидта. Об этом месте я помню немногое. Некоторая часть моего пребывания там запечатлена на черно-белых фотографиях — валяются где-то у матери в шкафу.
В период моего взросления эти снимки меня всегда завораживали. Двухэтажный барак, за которым открывается с одной стороны тундра, с другой — нечто непролазное, все в нагромождениях льда. Я на снимке, как и положено, бодрый, смеюсь. Даже, вероятно, розовощекий. Мама тоже улыбается, хотя и не очень уверенно.
Когда мне исполнилось пять лет, моего отца, офицера Советской Армии, перевели в Среднюю Азию, в крохотный, выжженный беспощадным каракумским солнцем город Теджен. Рожденный в насквозь промерзшей ледяной заднице, первое время я не очень понимал отсутствия снега — одной из неизменных жизненных констант. Таких же, как мама, папа, дом…
Теперь дом стал другим — тоже серым железобетонным бараком, но четырехэтажным. И окружали его не бескрайние снега, а раскаленные пески, тоже, впрочем, бескрайние. В Туркмении моей маме не очень-то нравилось. Коренная москвичка, она вообще довольно плохо переносила отсутствие театров и интеллектуального общения. В Теджене-то интеллектуально пообщаться можно было разве что с верблюдами.
По профессии моя мама — учитель русского языка и литературы. В бытность свою студенткой филфака она влюбилась в молодого сибиряка-лейтенанта. Полюбила за стать, гонор, за блестящие в те времена перспективы, ну и за фамилию тоже. Елена Репина, как не крути, звучало лучше, чем девичья Кукушкина. И с вопросом замужества матушка долго не раздумывала. В те времена выйти замуж за видного лейтенанта вообще было мечтой любой нормальной девушки — девяносто процентов советской молодежи были пропитаны чистейшим, неподдельным духом романтики, ныне напрочь утраченным. Нельзя же на полном серьезе считать за романтику традиционный вывоз девушки в Турцию бойфрендом-ларечником. Хотя, кому и кобыла невеста.
Короче, мама любила отца настолько, что по моему рождению выбор имени для нее даже не стоял — и стал я Илья Ильич.
По каким-то причинам, выяснить которые теперь реальным не представляется, отца серьезно невзлюбил один из его командиров. И сразу же после свадьбы отец получил распределение на Мыс Шмидта. Впоследствии он рассказывал, что какой-то шутник, из тех, кто распределяет места службы, сказал тогда:
— Репин, значит? Илья? Живописец, стало быть? Уа-ха-ха! Ну, тады давайте-ка организуем ему проживание в живописных местах…
Мама же любила Москву и очень по ней скучала. Вместе с ней, заочно, любил Москву и я. Перед сном мама рассказывала мне о главном городе СССР и я как-то по-своему рисовал в своем подсознании знаменитые переулки Арбата, все эти сивцевы вражки, полянки, варварки; Красная же площадь грезилась мне сплошь устланной красными коврами.
В своей тогдашней жизни я ничего, кроме снега и песка, не видел. И поэтому потрясающий эффект на меня произвел Ашхабад. Мама уговорила отца съездить туда на время отпуска, и это был первый в моей жизни по-настоящему большой город. Там, в восьмилетнем возрасте я впервые побывал в театре, в музее. В этом городе мне было интересно все. Я не представлял места прекрасней. Но мама все равно уверяла, что Москва — лучше.
В восемьдесят восьмом отца перевели в Киев, и только там я понял, что предмет моих ночных грез, Ашхабад — обыкновенное нагромождение безликих серых коробок. Киев оказался очень сильным впечатлением, в этот великолепный город я влюбился сразу и надолго. Поразил он меня буйством красок, роскошными зданиями, живыми парками, и всем-всем-всем. Киев стал для меня самым лучшим в мире городом. После Москвы, разумеется. С ней, как говорила мама, не сравнится вообще ничего. А у меня не было оснований не верить маме.
— Когда-нибудь, Илья, ты тоже увидишь Москву, — говорила она. — Впереди у тебя долгая, интересная жизнь.
С общением в Киеве, правда, было туговато. Мы жили в полузакрытом военном городке. Среди моих местных сверстников большинство составляли русские пацаны и девчонки, такие же, как и я, дети военных. Был, правда, один кореец. В футболе ему не было равных во всем районе. Еще он хорошо дрался, и к нему никогда никто не лез. Был еще таджик с каким-то странным именем, уже и не вспомню… Да и вообще я много чего теперь не вспомню: во дворе детвора постоянно менялась. Сегодня семья военного в Киеве, завтра в Калмыкии, или в какой-нибудь Карелии — просторы великой родины были необъятны.
Киев вообще являлся традиционно русскоязычным городом, так что «щирые и свидомые» хохлы в расшиванках в мою жизнь являлись довольно редко. В моем детском сознании они, добродушные и улыбчивые, ассоциировались с развеселыми дебелыми продавщицами на Бессарабском рынке. С добродушными мордастыми дядьками. С прекрасными, в общем, людьми.
* * *
Когда мне исполнилось двенадцать, не стало Советского Союза. Украинцев в моей жизни появилось куда больше, чем раньше. А вот мои друзья со двора разъезжались кто куда. Уезжали, в основном, в Россию, к родным.
Многие из офицеров присягали Украине и оставались в Киеве. То же сделал и мой отец, которому из расчета год за два в Заполярье, до пенсии оставалось всего ничего.
Да и мать не то, чтобы радовалась распаду СССР, но у нее были свои резоны. Она рассудила, что если отец присягнет Украине, то его больше никуда отсюда не переведут. Ни на Мыс Шмидта, ни в Теджен, ни еще в какой-нибудь Джезказган или Пярну. Новообразованное государство, которому теперь будет служить отец, простиралось сплошь на теплых и приятных местностях. Так что куда бы ни отправила своего офицера новая родина, там будет хорошо и, в общем-то, не голодно. А Москва… Ну, в Москву-то съездить можно всегда.
И мать можно было понять.
А спустя еще пару лет мой отец, гордый офицер, не дослужившись до полковника, уволился из украинской армии и устроился охранником — сначала на рынок, потом на повышение — в супермаркет.
Ушел в запас он не из-за каких-то там идейных расхождений. Просто после шести месяцев без зарплаты хочешь не хочешь, а начнешь как-нибудь выкручиваться. Воровать сроду не умел, но семью-то кормить надо. А я уже заканчивал школу.
Мою любимую школьную учительницу-историчку звали Валентина Васильевна. Женщина умная, милая и принципиальная. Если бы не она, моя судьба, возможно, сложилась бы как-нибудь по-другому. Уроки она вела по старинке, то есть по советским еще учебникам, объективным и добрым. Она рассказывала нам об истории великой России — от Балтики до Тихого океана. О Великой отечественной войне. О том, что Киев, между прочим, город-герой.
Уроки истории мне нравились. Поэтому, получив аттестат, я, не особо раздумывая, подал документы на исторический факультет Киевского университета. Поступил я с двумя четверками по устным экзаменам и высшим баллом по сочинению — писал я всегда грамотно.
* * *
«Украинский язык — один из древнейших языков мира. Есть все основания полагать, что уже в начале нашего летоисчисления он был межплеменным языком» (Учебник украинского языка для начинающих. Киев.).
«У нас есть основания считать, что Овидий писал стихи на древнем украинском языке» (Статья «От Геродота до Фотия», газета «Вечерний Киев»).
«Украинский язык — допотопный, язык Ноя , самый древний язык в мире, от которого произошли кавказско-яфетические, прахамитские и прасемитские группы языков. Древний украинский язык — санскрит — стал праматерью всех индоевропейских «языков» (Словарь древнеукраинской мифологии).
«В основе санскрита лежит какой-то загадочный язык „сансар“, занесенный на нашу планету с Венеры . Не об украинском ли языке речь?» (статья «Феномен Украины», газета «Вечерний Киев»).
Такими статьями пестрели украинские газеты. «Словари мифологии» нам стали настойчиво рекомендовать в университете. Мне иногда казалось, что я — в каком-то ярмарочном балагане, и меня разыгрывают. Во всяком случае, именно такое странное послевкусие оставалось после лекций по истории Украины.
В детстве, кроме случайной драки, когда пара дворовых лоботрясов кричала мне «клятий москаль, вали отсюда», ни с какими проявлениями национализма мне сталкиваться не доводилось. То, о чем я слышал, было скорее анекдотом.
«Заблудился москвич во Львове. Ищет, у кого бы дорогу к трамвайной остановке спросить. Видит: идет по улице такой колоритный дядьку с бандеровскими усами. Москвич знает, что таких, как он, здесь не любят, потому пытается закосить под украинца:
— Слышь, дядьку, а гдэ здесь эта… як ее?.. Останивка!
Бандеровец вытягивает из-за пазухи обрез:
— Зупинка-то? Прямо по вулице. Но ты, клятий москаль, вже прыйихав».
В реальной жизни ничего подобного не происходило. В окружающем меня мире друг к другу относились с любовью и уважением и украинцы, и русские, представители вообще всех народов — Украина традиционно была республикой мультинациональной.
В том, что украинский национализм существует и с каждым годом прогрессирует, я воочию убедился лишь в стенах высшего учебного заведения. Сравнительно новая дисциплина, которая называлась «История Украины», вскоре повернулась всем своим идиотизмом. Известный мне хрестоматийный список лженаук неожиданно пополнился еще одним пунктом.
А бредом здесь было все. Начиная, разумеется, с Киевской Руси. Я вдруг узнал, что не существовало такого языка, как старославянский. Был, оказывается, староукраинский. Также меня любезно просветили, что в Х веке Украина покорила значительную часть Европы и стала великой державой, с которой вынуждены были считаться соседи. Такие, например, как ничтожная Византия.
То, что князь Святослав Игоревич был украинцем, тоже очевидно не вызывало у преподавателя ни малейшего сомнения.
— Вообще-то Святослав был варягом, — не выдержав, как-то возразил я преподавателю с места.
Наш профессор, очкастый, сутулый недоросток с россыпями перхоти на лацканах полуистлевшего пиджака, и с выразительной фамилией Пацюк* (*крыса — укр.) совершенно спокойно сослался на то, что на портрете воинственного князя мы отчетливо видим запорожский оселедец. Я возразил, что это чушь, потому что первые запорожцы появились несколько столетий спустя, и их разрозненные ватаги на великое государство уж точно никак не тянули.
Но тут профессора неожиданно поддержал мой одногруппник, мордастый и горластый Толик Кожухов. Он встал с места, и на чистом украинском языке задвинул очень энергичную телегу о неких исследованиях норвежских ученых, которые, мол, доказали, что на самом деле варяги и викинги были родом из украинских степей, доказательством чему служат несколько строк эпоса «Беовульф» и некие норвежские саги.
— В сагах повествуется о некоем Винланде, — разглагольствовал Толик, легко переплюнув в познаниях самого профессора. — Долгое время наука ошибочно полагала, будто бы речь шла об открытой викингами Гренландии. Но норвежские ученые утверждают, что подлинный Винланд располагался гораздо восточнее. То есть, на территории нынешней Украины! И поэтому существует огромная вероятность того, что варяги — и есть самые, что ни на есть протоукры.
— Та, я шо-то такое слыхал, — бормотал профессор, соображая, — ведь если так, то, получается, древние украинцы…
— Укры, — вежливо поправил профессора Кожухов. — В летописях есть упоминания. Неправильно было бы читать «угры» — народ, который запредельно тенденциозная советская историография называла венграми. На самом деле правильно будет «укры».
Профессор уже забыл и про меня, и вообще про все на свете. Воспаленным взглядом он смотрел в лицо Кожухова.
— Получается, что укры держали в страхе Европу, Ближний Восток…
— Равно как и территорию современной Америки, — скорчив гримасу, дополнил Толик. — Они и там бывали…
Профессор явно переживал приступ вдохновенного энтузиазма.
— Да, — повторил он, бегло делая в блокноте какие-то пометки. — И, конечно же, Америку.
— Да вам лечиться надо, господа! — Я недоуменно пожал плечами.
В аудитории повисло тяжелое молчание.
После занятий в коридоре я столкнулся с Толиком. Он попытался слиться, однако я преградил ему дорогу.
— А ну-ка стой, протоукр хренов, — сказал я. — Ответь-ка мне на один вопрос.
— Ну? — недовольно промычал Толик, отводя глаза.
— Ты ведь русский? Не хохол?
— Ну, допустим, — мялся щекастый умник.
— Тогда зачем тебе это?
— Ну, — с какой-то внезапной решимостью вскинулся Толик, — ты же понимаешь, что я мог бы и постебаться. Историей-то я уж всяко владею лучше, чем Пацюк. Но мне здесь жить, чувак. Неужели ты еще не понял, что происходит в стране? А вот с Пацюком ты споришь очень зря. Он не забудет. И сегодняшний инцидент тебе даром не пройдет. Это я тебе точно говорю.
Ну кто мог тогда всерьез подумать, что с десяток лет спустя весь пацюковский бред окажется чуть ли не доктриной исторического воспитания новых поколений украинцев? Толик станет кандидатом наук и ассистентом этого самого профессора Пацюка — впоследствии, впрочем, академика, и они вкупе со множеством других пацюков дружно возьмутся переписывать Историю.
А тогда к лекциям по истории Украины я потерял всякий интерес, не принимал их всерьез, и манкировал при первой же возможности. На истфаке помимо прочего читали блестящий курс философии, аудитория всякий раз бывала заполнена; археологию также преподавали выше всяких похвал. Дисциплины читались по-русски, но ни у одного человека из присутствующих никаких нареканий сей факт не вызывал. И здесь, в лучшем университете Украины, среди самых блестящих умов страны серая бездарность Пацюк воспринимался досадным недоразумением. Вместе со своим косноязычным суржиком.
Украинского языка не знал даже тогдашний президент, как-то раз с высокой трибуны ляпнувший: «Я рахую, шо…» «Рахуваты» — означает «считать», «вести подсчет» — новый термин украинской математики. Но ничего общего с глаголом «думать» он не имеет, поэтому из уст руководителя государства это прозвучало весьма двусмысленно. Теперь-то, спустя годы, мне ясно, что президент действительно не думал. Он именно «рахувал» — подсчитывал, совершая в уме математические действия. Столько всего нужно было еще продать, пустить в оборот, да просто тупо украсть, в конце концов. И крали. Думать им было действительно некогда: едва успевали «рахуваты».
Так или иначе, но украинского не знали даже высшие государственные чиновники. Что уж говорить о каком-то Пацюке? Он и вообще был не бог весть каким оратором — запинался, путался в словах, постоянно скатывался в суржик. Зато для вящего колориту требовал именовать его — Андрий Тарасович. И только так.
Окончательно лекции старого идиота я посещать перестал после того, как он добрался до трактования монголо-татарского ига. Которого, по мнению Андрий Тарасовича, вовсе не существовало, а было иго «москалив», которые, подло спевшись с Батыем, решили уничтожить великое украинское государство. Но затея коварных кацапов провалилась — не дожидаясь новых вторжений, высокомудрые укры упорхнули под покровительство великого княжества Литовского.
Прямо в разгар его декламаций я поднялся, с грохотом отодвинул стул, и под гробовое молчание студиозусов покинул аудиторию.
Однокурсники после этого не раз давали мне понять, что мстительный Пацюк на экзамене обязательно завалит. Но я ни минуты не волновался — все же история была моим любимым предметом, и я знал ее хорошо. Вслед за мной пацюковские «лекции» перестали посещать и многие другие студенты. Амфитеатровая аудитория, которую неизменно выделяли под его лекции, редко когда заполнялась более, чем наполовину. Пацюк взялся было вести учет посещаемости, пускал по рядам списки, но и это не помогло.
Ни одного занятия не пропустил только один студент — Толик Кожухов.