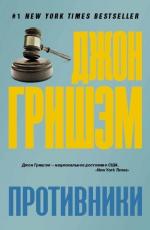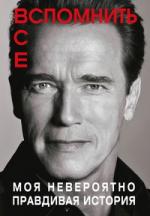- «АСТ», 2013
- Лекарство-убийца!
Оно погубило нескольких человек и многих превратило в инвалидов.
Маленькая юридическая фирма «Финли энд Фигг».
Здесь поставят на карту все, чтобы выиграть дело против компании, выбросившей на рынок смертельно опасный препарат.
Молодой юрист Дэвид Зинк — молод, амбициозен и готов вступить в бой с могущественным противником…
Джон Гришэм — создатель жанра судебного триллера, мастер современной американской прозы, автор потрясающих детективов, неизменно входящих в списки бестселлеров «Нью-Йорк таймс». Большинство его произведений были успешно экранизированы в Голливуде («Время убивать» 1996г., «Фирма» 1993г., «Дело о пеликанах» 1993г., «Рождество с неудачниками» 2004г. и другие). - Перевод с английского Е. Филипповой
Юридическая фирма «Финли энд Фигг» часто представляла
себя как «фирму-бутик». Этот искаженный вариант
названия с завидной частотой употреблялся в обычной речи
и даже появлялся в печати вследствие разнообразных махинаций,
придуманных партнерами в целях развития бизнеса.
Под этим названием подразумевалось, что фирма
«Финли энд Фигг» возвышалась над уровнем скучной среднестатистической
деятельности. Бутик мал, исключителен
и специализируется в какой-то одной области. Бутик отличается
высоким классом и роскошью, воплощая в себе
всю «французскость» этого слова. Хозяева бутика вполне
довольны его эксклюзивностью, рачительностью в работе
и успешностью.
На деле же, кроме размера, ничего общего у фирмы с
бутиком не было. Обманщики «Финли энд Фигг» занимались
делами по возмещению ущерба — рутинной работой,
которая, не требуя ни большого мастерства, ни творческого
подхода, никогда не считалась в среде юристов классной
или престижной. Доход у них был такой же эфемерный,
как и статус. Фирма оставалась маленькой, потому партнеры
не могли позволить себе расширять бизнес. Придирчивостью они отличались только потому, что никто не хотел
там работать, включая самих владельцев. Расположение
офиса наводило на мысли о монотонном существовании в
низшей лиге. Соседство с вьетнамским массажным салоном
слева и мастерской по ремонту газонокосилок справа
позволяло даже не самому внимательному наблюдателю
понять, что «Финли энд Фигг» не процветали. На противоположной
стороне улицы располагалась другая «фирмабутик» (ненавистные конкуренты), а за углом — еще множество
юристов. На самом деле район кишел юристами;
одни работали поодиночке, другие — в маленьких фирмах,
третьи — в своих собственных маленьких бутиках.
«Ф энд Ф» обосновались на Престон-авеню — многолюдной
улице со старыми одноэтажными домами, которые
теперь переоборудовали и использовали для всякого
рода коммерческой деятельности. Там были и розничные
торговцы (винные магазины, химчистки, массажные салоны),
и профессионалы в сфере обслуживания (юристы,
стоматологи, ремонт газонокосилок), и кулинары (энчилада,
пахлава и пицца навынос). Оскар Финли получил
здание, выиграв судебный процесс двадцать лет назад. Не
самый престижный адрес отчасти компенсировался удачным
расположением. В двух шагах от них пересекались
Престон, Бич и Тридцать восьмая улица, это гарантировало
одну приличную аварию раз в неделю, а иногда и
чаще. Годовые накладные расходы «Ф энд Ф» покрывались
гонорарами за ведение дел по дорожно-транспортным
происшествиям, которые фиксировались меньше чем
в ста ярдах от них. Представители других юридических
фирм, как «бутиков», так и всех прочих, часто рыскали
поблизости в поисках дешевого бунгало, из которого их голодные юристы могли бы реально услышать визг шин и
скрежет металла.
Поскольку в фирме состояли лишь два адвоката/партнера,
разумеется, было необход.имо кого-то назначить старшим,
а кого-то — младшим. Старшим партнером был шестидесятидвухлетний
Оскар Финли, оставшийся в живых
после тридцати лет практики кулачного права, которое существует
на жестоких улицах юго-западного Чикаго. Когда-
то Оскар был участковым полицейским, но его отправили
в отставку за любовь к проламыванию черепов. Он
чуть не попал в тюрьму, но потом взялся за ум и поступил
в колледж, а затем закончил юридический факультет в университете.
Когда ни в одной юридической фирме его не захотели
брать на работу, он занялся частной практикой и
начал подавать в суд на всех, кто оказывался поблизости.
Через тридцать два года ему с трудом верилось, что он потратил
столько лет жизни на суды по просроченным счетам
дебиторов, мелкие аварии, случаи вроде «поскользнулся и
упал» и разводы без обвинений. Он до сих пор состоял в
браке с первой женой — жутчайшей женщиной, с которой
каждый день мечтал развестись. Но не мог себе этого позволить.
После тридцати двух лет юридической практики
Оскар Финли в самом деле не мог позволить себе очень
многого.
Младшим партнером (а Оскар имел склонность делать
заявления вроде «я поручу это моему младшему партнеру»,
когда пытался произвести впечатление на судей и других
юристов, особенно на потенциальных клиентов) был сорокапятилетний
Уолли Фигг. Уолли воображал себя свирепым
судебным юристом, и его хвастливые объявления обещали
клиентам агрессивный подход в самых разных вариациях.
«Мы сражаемся за ваши права!», и «Страховые компании
нас боятся!», и «Мы говорим дело!». Такую рекламу можно
было найти на скамейках в парке, в городских автобусах,
программках футбольных школьных матчей и даже на телеграфных
столбах, хотя это нарушало несколько постановлений.
Зато партнеры не использовали два других важнейших
средства рекламы — телевидение и рекламные щиты. Уолли
и Оскар до сих пор спорили по этому поводу. Оскар отказывался
тратить деньги — и первое, и второе стоило жутко дорого,
— а Уолли не переставал надеяться, мечтая увидеть,
как он сам, с лоснящимися волосами и улыбкой на лице, будет
рассказывать по телевизору ужасы о страховых компаниях,
обещая огромные компенсации всем пострадавшим,
которым хватит ума набрать его бесплатный номер.
Хотя Оскар ни за что не стал бы тратиться и на рекламный
щит, Уолли все же выбрал один. В шести кварталах от
офиса, на углу Бич и Тридцать второй, высоко над дорогой,
кишащей автомобилями, на крыше четырехэтажного
жилого дома располагался самый великолепный рекламный
щит всего центрального района Чикаго. Хоть сейчас
там и красовалась реклама дешевого белья (весьма симпатичная,
как признавал Уолли), он уже видел, как на щите
разместят его фото и напишут название фирмы. Но Оскар
все равно был против.
Уолли получил образование на юридическом факультете
престижного Чикагского университета. Оскар — в
уже закрывшемся заведении, где когда-то предлагались
вечерние курсы. Оба три раза сдавали экзамен на право
заниматься адвокатской практикой. На счету Уолли было
четыре развода, Оскар мог об этом только мечтать. Уолли
жаждал вести большое дело, крупный процесс, с гонораром,
который исчисляется миллионами долларов.
У Оскара было лишь два желания — получить развод и
выйти на пенсию.
Как эти двое вообще решили стать партнерами и обосноваться
в переоборудованном доме на Престон-авеню?
Это уже совсем другая история. Как они до сих пор не задушили
друг друга? Это до сих пор оставалось их тайной.
Секретарем у них работала Рошель Гибсон — крепкая
темнокожая женщина с жизненной позицией и находчивостью,
которые воспитала в ней улица, где прошло ее детство.
Миз Гибсон трудилась на передовой: на ней был телефон,
встреча и прием потенциальных клиентов, переступающих
порог с надеждой, и раздраженных клиентов,
убегающих в ярости, эпизодический набор текстов (хотя
ее начальники уже поняли: если хочешь что-то напечатать,
проще сделать это самостоятельно), собака фирмы и, что
самое важное, ей приходилось слушать постоянные перепалки
Оскара и Уолли.
Много лет назад миз Гибсон пострадала в автомобильной
аварии, произошедшей не по ее вине. Потом она решила
разобраться с неприятностями с помощью юридической
фирмы «Финли энд Фигг», хотя на самом деле не
сама их выбрала. Через двадцать четыре часа после аварии,
оглушенная перкоцетом, вся в шинах и гипсе, миз Гибсон,
проснувшись, увидела перед собой довольное мясистое
лицо адвоката Уолли Фигга, который навис над ее койкой.
На нем был аквамариновый костюм медработника, а
на шее красовался стетоскоп, и он мастерски изображал
доктора. Уолли обманом заставил ее подписать договор
юридического представительства, пообещал ей луну с неба
и выскользнул из комнаты так же тихо, как проскользнул
в нее, а потом с рвением взялся за дело. За вычетом налогов
миз Гибсон получила 40 000 долларов, которые ее муж
пропил и проиграл за пару недель, что привело к иску о
расторжении брака, поданному Оскаром Финли. Он вел
дело и о ее банкротстве. На миз Гибсон не произвел впечатление
ни один из них, и она угрожала подать на обоих
в суд за некомпетентность. Это обратило на себя их внимание
(им приходилось сталкиваться с подобными исками),
и они изо всех сил постарались успокоить ее. По мере
того как ее беды множились, она проводила все больше
времени в офисе, и постепенно все трое привыкли друг к
другу.
В «Финли энд Фигг» секретарям жилось нелегко. Зарплата
была низкой, клиенты по большей части — неприятными,
юристы из сторонних фирм так и норовили нагрубить
по телефону, рабочий день часто затягивался, но тяжелее
всего давалось общение с двумя партнерами. Оскар
и Уолли пробовали нанимать женщин среднего возраста,
но дамы постарше не выдерживали напряжения. Они пытались
нанимать молодых, но это обернулось иском о сексуальных
домогательствах, когда Уолли не сдержался в присутствии
грудастой молодой девицы. (Они договорились
расстаться без суда в обмен на пятьдесят тысяч долларов, и
их имена попали в газету.) Рошель Гибсон оказалась в офисе
как-то утром, когда тогдашняя секретарша решила бросить
все и шумно удалилась. Под звонки телефона и крики
партнеров миз Гибсон подошла к столу в приемной и взяла
ситуацию в свои руки, а потом заварила кофе. Она вернулась
на следующий день, и через день тоже. Восемь лет спустя
она так и продолжала работать на этом месте.
Двое ее сыновей сидели в тюрьме. Их интересы представлял
Уолли, хотя, если говорить честно, никто не мог
бы их спасти. Еще в подростковом возрасте оба мальчика
не давали Уолли заскучать, ведь их беспрестанно арестовывали
по разным обвинениям, связанным с наркотиками.
Постепенно они все больше вовлекались в незаконные
операции, и Уолли неоднократно предупреждал, что их
ждет либо тюрьма, либо смерть. Он говорил то же самое и миз Гибсон, которая едва ли могла контролировать сыновей
и часто молилась, чтобы дело кончилось тюрьмой. Когда
их шайку по сбыту крэк-кокаина арестовали, мальчиков
посадили на десять лет. Уолли добился сокращения изначального
срока в двадцать лет, но мальчики не выразили
ему признательности. Миз Гибсон же благодарила его, заливаясь
слезами. Несмотря на все хлопоты, Уолли так и не
взял с нее денег за помощь семье.
За эти годы в жизни миз Гибсон было много слез, и она
часто проливала их в кабинете Уолли за закрытой дверью.
Он давал советы и старался помогать по мере возможности,
но главным образом играл роль внимательного слушателя.
Жизнь самого Уолли тоже была богата событиями, так
что они с миз Гибсон могли внезапно поменяться ролями.
Когда два его последних брака разрушились, миз Гибсон
все выслушала и постаралась ободрить его. Когда он начал
пить, она тут же это заметила и не побоялась призвать его
на путь истинный. Хотя они ругались каждый день, ссоры
никогда не затягивались и часто служили лишь для того,
чтобы обозначить сферы влияния каждого из них.
В «Финли энд Фигг» наступали и такие времена, когда
все трое ворчали или хандрили, главным образом из-за денег.
Рынок был просто перенасыщен: слишком много юристов
слонялось без дела.
И меньше всего фирме был нужен один из них.