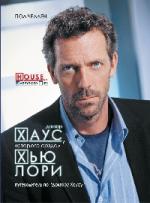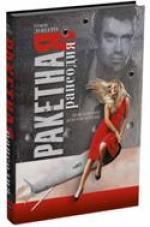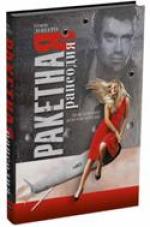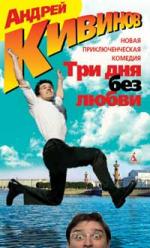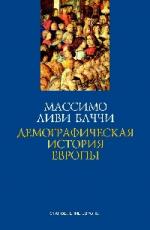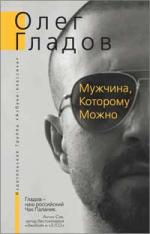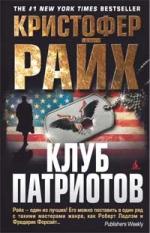Отрывок из книги
Представьте, что вам нужно сломать кому-то руку.
Левую или правую — неважно. Главное — сломать, потому что, не сломай вы ее… ну, в общем, это тоже неважно. Скажем, не сломай вы ее — и случится что-то очень нехорошее.
Вопрос в следующем: как ломать? Быстро — хрясь, ой, простите, дайте-ка, я помогу вам наложить временную шину; или растянуть дело минут эдак на восемь — по чуть-чуть, едва заметно наращивая нажим, пока боль не превратится в нечто розово-бледное, остро-тупое и в целом такое невыносимое, что хоть волком вой?
Вот-вот. Совершенно верно. Самый правильный, точнее, единственно правильный ответ: покончить с этой бодягой как можно скорее. Ломаешь руку, хлопаешь рюмашку, и ты снова добропорядочный гражданин. Другого ответа и быть не может.
Разве что.
Разве что разве что разве что…
Что, если ненавидеть человека по ту сторону руки? В смысле, по-настоящему, страшно ненавидеть?
Вот, что мне сейчас требовалось обдумать.
Я говорю «сейчас», но имею в виду «тогда»: в тот момент, что я сейчас описываю. За крошечную, — и еще какую, мать ее, крошечную, — долю секунды до того, как кисть доползет до затылка, а левая плечевая кость разломится как минимум на два, а то и больше, едва цепляющихся друг за друга куска.
Видите ли, рука, о которой идет речь, моя. Не какая-нибудь там абстрактная, философская рука. Кость, кожа, волоски, белый шрамик на локте, — память о встрече с раскаленным обогревателем в гейтсхиллской начальной школе, — все это принадлежит не кому-нибудь, а мне. И теперь близится тот миг, когда стоит задуматься: а вдруг человек, что стоит у меня за спиной и с почти сексуальной нежностью тянет мою руку все выше и выше вдоль позвоночника — вдруг он ненавидит меня?
И он возится уже вечность.
Фамилия его была Райнер. Имя — неведомо. По крайней мере, мне, а значит, и вам, скорее всего, тоже. Полагаю, кто-то где-то наверняка знает его имя: ведь кто-то же крестил его этим именем, звал этим именем к завтраку, учил писать его по буквам; а кто-то другой наверняка выкрикивал это имя в пивнушке, предлагая выпить; или нашептывал во время секса; или вписывал в соответствующую графу страхового полиса. Я знаю — все это когда-то обязательно было. Просто трудно сейчас это представить себе — вот и все.
Райнер, как я прикидывал, был лет на десять постарше меня. Что вполне нормально. И ничего плохого в том нет. На свете полно людей старше меня на десять лет, с кем у меня сложились добрые и теплые отношения, без намека на выламывание рук. Да и вообще, все, кто старше меня на десять лет, в большинстве своем люди просто замечательные. Но Райнер, ко всему прочему, был еще и на три дюйма выше, фунтов на шестьдесят тяжелее и, по меньшей мере, на восемь — не знаю, чем там меряют свирепость, — единиц свирепее меня. Он был безобразнее автостоянки: огромный, безволосый череп с множеством бугров и впадин, словно воздушный шар, под завязку набитый гаечными ключами; а приплюснутый боксерский нос — видимо вбитый когда-то в физиономию хорошим ударом левой руки, а, может, и левой ноги, — расплывался эдакой кривобокой дельтой под ухабистым берегом лба.
Боже правый, что это был за лоб! Кирпичи, ножи, бутылки и прочие убедительные аргументы в свое время, похоже, не раз отскакивали от этой массивной фронтальной плоскости, не причинив ей никакого вреда, за исключением, разве что, нескольких крошечных зарубок промеж глубоких, изрядно разнесенных друг от друга рытвин-пор. Мне кажется, это были самые глубокие поры из тех, что мне когда-либо доводилось видеть на человеческой коже, так что я даже поймал себя на воспоминании о городском поле для гольфа, которое видел в местечке Далбитти на исходе долгого, засушливого лета 76-го.
Переходя к боковому фасаду, мы обнаруживаем, что уши Райнеру некогда откусили, а затем сплюнули обратно на череп, поскольку левое определенно прилепилось вверх тормашками, или шиворот-навыворот, или как-то еще, поскольку приходилось долго и пристально вглядываться прежде, чем сообразить: «ой, да это же ухо».
И, вдобавок ко всему, — если до вас до сих пор не дошло, — Райнер был одет в черную кожаную куртку, поверх черной же «водолазки».
Но до вас, разумеется, дошло. Даже закутайся Райнер с ног до головы в струящиеся шелка и заткни он за каждое ухо по орхидее, любой прохожий без разговоров вручил бы ему всю свою наличность, даже не задумавшись, а должен ли он ему.
Так уж получилось, что я-то ему точно ничего не должен. Райнер принадлежал к тому узкому кругу людей, которым я не должен вообще ничего, и будь отношения между нами хоть чуточку потеплее, я, возможно, и посоветовал бы Райнеру и его немногочисленным собратьям обзавестись особыми заколками для галстуков, — в знак почетного членства.
Но, как я уже упомянул, отношения наши складывались не слишком теплые.
Клифф, мой однорукий инструктор по рукопашному бою (да-да, знаю, — с одной рукой учить этой самой рукопашности совсем не с руки, — но в жизн и случается еще и не такое) как-то сказал, что боль — это то, что ты делаешь с собой сам. Другие люди проделывают с тобой самые разные вещи, — бьют кулаком, колют ножом или пытаются сломать твою руку, — но производство боли целиком на твоей совести. «А потому, — вещал Клифф, когда-то проведший пару недель в Японии и поэтому считавший себя вправе сваливать подобную лабуду в разинутые рты доверчивых учеников, — в ваших силах остановить собственную боль». Три месяца спустя Клифф погиб в пьяной драке от руки пятидесятилетней вдовушки, и, похоже, вряд ли мне представится случай возразить ему.
Боль — это событие. Которое происходит с тобой, и справляться с которым ты должен в одиночку: любыми доступными тебе способами.
В заслугу мне можно поставить лишь то, что до сих пор я не проронил ни звука.
Нет-нет, о храбрости речи не идет: просто не до звуков мне было. Все это время мы с Райнером в потно-мужском молчании отскакивали от стен и мебели, лишь изредка издавая хрюк-другой: показать, что силенки еще есть. Но теперь, когда оставалось не более пяти секунд до того, как отключусь либо я, либо моя кость — именно теперь наступал тот самый идеальный момент, когда в игру пора было ввести новый элемент. И ничего лучшего, чем звук, придумать я не смог.
В общем, я глубоко вдохнул через нос, выпрямился так, чтобы оказаться поближе к физиономии Райнера, на миг задержал дыхание и выдал то, что японские мастера боевых искусств именуют «киай» (а вы бы назвали очень громким и противным воплем, и, кстати, недалеко ушли бы от истины), то есть вопль типа «какого хрена?!», да еще такой ослепляющей и ошеломляющей силы, что я сам чуть не обделался от страха.
Что же до Райнера, то произведенный эффект оказался в точности, каким я его только что разрекламировал: непроизвольно дернувшись вбок, он ослабил хватку буквально на одну двенадцатую секунды. Я же боднул головой назад и изо всех сил врезал затылком прямо ему в морду и ощутил, как его носовой хрящ приноравливается к форме моего черепа, и какая-то шелковистая сырость расползается у меня по волосам. После чего, лягнул пяткой назад, куда-то в пах — сначала беспомощно шаркнув по внутренней стороне его ляжки и уж только потом впечатавшись в довольно увесистую гроздь гениталий. И через одну двенадцатую секунды Райнер уже не ломал мне руку, а я вдруг осознал, что насквозь промок от пота.
Отпрянув от противника, я заплясал на цыпочках, словно дряхлый сенбернар, озираясь в поисках хоть какого-нибудь оружия.
Ареной для нашего пятнадцатиминутного турнира служила небольшая, не особо изящно меблированная гостиная в Белгравии. Я бы сказал, что дизайнер по интерьерам потрудился просто отвратительно, — как, впрочем, и заведено у всех дизайнеров по интерьерам, независимо от времени и обстоятельств. Правда, в тот момент его (или ее) склонность к тяжелой ручной клади идеально совпала с моими потребностями. Здоровой рукой я цапнул с каминной полки каменного Будду, обнаружив, что уши маленького засранца — просто отличная рукоять для однорукого бойца вроде меня.
Райнер стоял на коленях и блевал на китайский ковер, что весьма благотворно сказывалось на цветовой гамме последнего. Прицелившись, я собрался с силами и с размаху жахнул задницей Будды в беззащитное место прямо над левым ухом. Звук получился глухим и скучным, — именно такие звуки почему-то издает человеческая плоть в момент своего разрушения, — и Райнер завалился набок.
Я даже не потрудился проверить, жив ли он. Бессердечно? Да, наверное, но что уж тут поделаешь.
Утирая пот с лица, я прошел в холл. Попытался прислушаться, но даже если изнутри дома или с улицы и доносились какие-то звуки, я бы их все равно не услышал, поскольку сердце долбилось в груди, словно отбойный молоток. А, может, на улице и впрямь работал отбойный молоток. Просто я был слишком занят всасыванием огромных, размером с хороший чемодан, порций воздуха, чтобы еще что-то там замечать.
Я открыл входную дверь и сразу ощутил на лице моросящую прохладу. Дождь смешивался с потом, растворяя его, растворяя боль в руке, растворяя все остальное, и я закрыл глаза, отдавшись в его власть. Ничего приятнее я, пожалуй, в жизни не испытывал. «Похоже, та еще жизнь была у бедолаги», — наверняка скажете вы. Но видите ли, контекст для меня — это святое.
Я притворил дверь, сошел на тротуар и закурил. Мало-помалу, ворча и брюзжа, сердце приходило в себя. Дыхание тоже понемногу утихомиривалось. Боль в руке была чудовищной, и я знал, что теперь она не отвяжется несколько дней, — если не недель, — но главное, это была не курительная рука.
Вернувшись в дом, я обнаружил Райнера в лужице блевотины: там, где я его и оставил. Он был мертв, или тяжко-телесно-поврежден: и то, и другое тянуло минимум лет на пять. Даже на все десять, если накинуть срок за плохое поведение. А это, на мой взгляд, было уже совсем некстати.
Видите ли, в тюрьме я уже бывал. Правда, всего три недели и всего лишь в предвариловке, но, когда тебе дважды в день приходится играть в шахматы с угрюмо-свирепым болельщиком «Вест Хэм», у которого татуировка «УБЬЮ» на одной руке и «УБЬЮ» — на другой; да еще набором шахматных фигур, где не хватает шести пешек, всех ладей и двух слонов — в общем, ты невольно вдруг начинаешь ценить кое-какие мелочи. Такие, например, как свобода.
Размышляя над этими и прочими аналогичными вещами и постепенно перетекая мыслью к тем жарким странам, где я так до сих пор и не удосужился побывать, я вдруг начал соображать, что звук — легкий, поскрипывающий, шаркающий, царапающий звук, — исходит вовсе не из моего сердца. И не из легких, и не из какой-либо иной части моего ноющего тела. Этот звук явно шел откуда-то извне.
Кто-то — или что-то — предпринимал(-о) абсолютно бесполезную попытку неслышно спуститься по лестнице.
Поставив Будду на место, я сгреб со стола монументально-уродливую алебастровую зажигалку и двинулся к двери — кстати, не менее уродливой. «Как это можно сделать дверь уродливой?», — спросите вы. Ну, придется, конечно, потрудиться, но поверьте: для ведущих дизайнеров по интерьерам сварганить такое — все равно, что высморкаться.
Я попытался затаить дыхание, но не смог, так что пришлось ждать шумно. Где-то щелкнул выключатель. Ожидание. Новый щелчок. Открылась дверь, ожидание, дверь закрылась. Стоим спокойно. Думаем.
Проверим-ка в гостиной.
До меня донеслось шуршание одежды, мягкие шаги, и тут я вдруг сообразил, что рука моя уже не сжимает зажигалку, а сам я привалился к стене с чувством, весьма близким к облегчению. Поскольку даже в столь плачевном я был готов биться об заклад, что близкая драчка вряд ли пахнет духами «Флер де флер» от Нины Риччи.
Она остановилась в дверях, и глаза ее пробежались по комнате. Хотя лампы были выключены, но шторы-то нараспашку, так что уличного света хватало с лихвой.
Я дождался, пока ее взгляд упадет на тело Райнера, и только тогда зажал ей рот.
Мы перебрали весь стандартный набор любезностей, диктуемых Голливудом и высшим светом. Она попыталась закричать и укусить меня за руку; я же велел не шуметь, пообещав, что не сделаю ей больно, если она не будет орать. Она заорала, и я сделал ей больно. В общем, вполне стандартная фигня.
Вскоре она уже сидела на уродливом диване, сжимая в руке полпинты того, что я поначалу принял за бренди, но на поверку оказавшееся кальвадосом, а я стоял у двери, нацепив на лицо наиумнейшую из мин, призванную показать, что со стороны психиатров ко мне не может быть никаких претензий.
Перевернув Райнера на бок, я придал его телу что-то вроде позы выздоравливающего, дабы тот не захлебнулся собственной блевотиной. И вообще чьей-либо еще, если уж на то пошло.
Она захотела встать и проверить, все ли с ним в порядке: ну, сами знаете, всякие там подушечки, бинтики, разные примочки и прочая дребедень, — то есть все, что помогает стороннему наблюдателю почувствовать себя спокойнее. Я велел ей сидеть на месте, сказав, что «скорая» уже в пути, так что лучше пока оставить его в покое.
Ее била мелкая дрожь. Дрожь начиналась с рук, сжимавших бокал, затем поднималась к локтям; оттуда — к плечам, и чем чаще взгляд ее падал на Райнера, тем хуже становилось дело. Конечно, дрожь вряд ли можно назвать необычной реакцией, когда обнаруживаешь мертвеца и блевотину у себя на ковре посреди ночи, но мне совсем не хотелось, чтобы ей стало еще хуже. Прикуривая от алебастровой зажигалки, — вы правы, даже пламя оказалось уродливым, — я старался впитать как можно больше информации прежде, чем кальвадос подействует, и она начнет задавать вопросы.
Я мог одновременно любоваться тремя вариантами ее лица: в темных очках «Рэй Бэн», на фоне горнолыжного подъемника — на фотографии в серебряной рамке на каминной полке; маячащее рядом с каким-то окном — на огромном и ужасном портрете маслом, выполненном явным недоброжелателем; и наконец, — бесспорно, самый лучший из вариантов, — на диване в десяти футах от меня.
На вид ей было не больше девятнадцати: острые плечи и длинные каштановые волосы, ниспадающие эдакой живенькой волною. Широкие, округлые скулы намекали на Восток, но намек немедленно исчезал, стоило вам посмотреть в ее глаза: круглые, большие и светло-серые. Если, конечно, это кому-нибудь интересно. На ней был красный шелковый пеньюар и один изящный шлепанец с причудливой золотистой тесемкой, обвивавшей щиколотку. Я оглядел комнату, но шлепанцева собрата не обнаружил. Возможно, на второй у нее просто не хватило денег.
Она тихонько откашлялась.
— Кто это?
Мне кажется, я знал, что девушка окажется американкой еще до того, как она открыла рот. Слишком здоровый вид, чтобы оказаться кем-то другим. И откуда они все берут такие зубы?
— Его звали Райнер, — ответил я. И, подумав, что получилось жиденько для полноценного ответа, добавил: — Он был очень опасен.
— Опасен?
Мне показалось, что она встревожилась. Да и было отчего. Вероятно, ей — так же, как и мне, — тут же пришла в голову мысль: если Райнер был так опасен, а я его убил, то получается, что я очень опасен.
— Да, опасен, — подтвердил я, следя за тем, как она прячет взгляд. Ее дрожь вроде как поутихла, что было хорошим признаком. Хотя, может, она просто синхронизировалась с моей, и я почти перестал ее замечать.
— А… что он здесь делает? — наконец выдавила девушка. — Что ему было нужно?
— Трудно сказать. — Во всяком случае, мне трудно. — Может, злато-серебро…
— То есть… он вам не сказал? — Ее голос вдруг стал громче. — Вы ударили человека, даже не узнав, кто он? И что он здесь делает?
Несмотря на шок, котелок у нее, похоже, варил будь здоров.
— Я ударил его потому, что он пытался убить меня. Так уж вышло.
И я постарался улыбнуться, но мое отражение в зеркале над камином сообщило, что трюк не удался.
— Так уж вышло, — в голосе ее не было и следа доброжелательности. — А вы кто?
Ну вот. С ней надо держать ухо востро. Ситуация и так не из приятных, а сейчас может стать и вовсе отвратной.
Я попытался напустить на себя удивленный и, возможно, даже слегка обиженный вид.
— Вы хотите сказать, что не узнаете меня?
— Нет.
— Ха. Странно… Финчам. Джеймс Финчам.
И я протянул ей руку. Она не откликнулась, так что пришлось изображать эдакое небрежное приглаживание волос.
— Это имя, — сказала она. — Но кто вы такой?
— Знакомый вашего отца.
Какое-то мгновение она обдумывала мои слова.
— По работе?
— Вроде как.
— Вроде как. — Она кивнула. — Вы Джеймс Финчам, вроде как знакомый моего отца по работе, и вы только что убили человека у нас в доме.
Склонив голову набок, я постарался всем своим видом дать понять, что, мол, да, порой мир бывает ужасно сволочной штукой.
— И это все? — снова показала она зубы. — Вся ваша биография?
Я еще раз изобразил лукавую улыбку: с тем же эффектом.
— Погодите-ка, — сказала она резко, словно пораженная какой-то мыслью. — Вы ведь никуда не звонили? Так?
По здравому размышлению, да с учетом всех обстоятельств, ей, скорее, не девятнадцать, а все двадцать четыре.
— Вы хотите сказать…
Но она не дала мне закончить:
— Я хочу сказать, что никакая «скорая» сюда не едет! Господи.
Поставив бокал на ковер, она вскочила и направилась к телефону.
— Послушайте, — забубнил я, — прежде чем вы совершите какую-нибудь глупость…
Я двинулся в ее сторону, но девушка резко дернулась, и я остановился, не испытывая ни малейшего желания выковыривать осколки телефонной трубки из своего лица в течение ближайших недель.
— Стойте там, где стоите, мистер Джеймс Финчам, — прошипела она. — Это не глупость. Я вызываю скорую, затем — полицию. Как и принято во всем мире. Сейчас приедут люди с дубинками и увезут вас отсюда. И абсолютно ничего глупого в этом нет.
— Постойте, — сказал я. — Я был с вами не совсем искренним.
Она сузила глаза. Если вы понимаете, что я имею в виду. Сузила горизонтально, а не вертикально. Полагаю, правильнее будет сказать «укоротила», но так ведь никто не говорит.
В общем, она сузила глаза.
— Что, черт возьми, означает это ваше «не совсем искренним»? Вы сказали мне всего лишь две вещи. Получается, одна из них — ложь?
А девица-то, судя по всему, калач тертый. Вне всякого сомнения, меня ждали серьезные неприятности. Хотя, опять же, пока она успела набрать лишь первую девятку.
— Меня зовут Финчам, — быстро сказал я, — и я действительно знаю вашего отца.
— Да? И какая же его любимая марка сигарет?
— «Данхилл».
— Он никогда в жизни не курил.
Да ей все двадцать пять. Или даже тридцать. Я сделал глубокий вдох, пока она набирала вторую девятку.
— Ну, хорошо, я не знаком с ним. Но я хотел помочь.
— Ага. Пришли починить нам душ.
Третья девятка. Пора выкладывать козырную карту.
— Его хотят убить.
Послышался слабый щелчок, и я услышал, как на другом конце провода спрашивают, с какой службой соединить. Очень медленно она повернулась ко мне, держа трубку на расстоянии от уха.
— Что вы сказали?
— Вашего отца хотят убить, — повторил я. — Не знаю — кто, и не знаю — почему. Но я пытаюсь помешать им. Вот, кто я такой, и вот, что я здесь делаю.
Она смотрела на меня, взгляд был долгим и мучительным. Где-то тикали часы — опять же уродливо.
— Этот человек, — я указал на Райнера, — был в этом как-то замешан.
Я догадывался, о чем она в тот момент подумала: мол, так нечестно, ведь Райнер все равно не может возразить. В общем, я слегка смягчил интонацию и принялся с беспокойством оглядываться вокруг, словно сам был озадачен и нервничал ничуть не меньше нее.
— Я не могу утверждать, что он пришел сюда именно с целью убийства. Нам ведь так и не удалось нормально поговорить. Но возможность такую я не исключаю.
Она все так же пристально смотрела на меня. Телефонистка на линии продолжала пискляво «аллёкать», вероятно, пытаясь одновременно отследить звонок.
Девушка ждала. Непонятно — чего.
— Скорую, пожалуйста, — наконец, произнесла она, по-прежнему не отводя взгляда. После чего, чуть отвернувшись, продиктовала адрес. Кивнув головой, медленно, очень-очень медленно она положила трубку на рычаг и повернулась ко мне. Наступила одна из тех пауз, про которые можно с уверенностью сказать заранее: пауза будет долгой. Так что я вытряхнул очередную сигарету и предложил ей пачку.
Она подошла. Она оказалась ниже ростом, чем казалось мне из другого угла комнаты. Я снова улыбнулся. Она взяла сигарету из пачки, но закуривать не стала. Медленно повертев сигарету в руках, снова нацелилась в меня парой серых глаз.
Я говорю «парой», естественно, имея в виду «ее парой». Она не доставала пару ничьих других глаз из ящика стола и не прицеливалась ими в меня. Она нацелилась парой своих собственных огромных, прозрачных, серых, прозрачных, огромных глаз — и прямо в меня. Глаз, от которых взрослый человек вдруг начинает лепетать всякую чушь, будто слюнявый младенец. Да возьми же ты себя в руки, в конце-то концов!
— Вы лжец, — произнесла она.
Без злобы. Без испуга. Сухо и прозаично. «Вы — лжец».
— Ну, да, — ответил я, — вообще говоря, так оно и есть. Хотя в данный момент так уж получается, что я говорю чистую правду.
Она смотрела на меня, не отрываясь: точно так же я сам иногда смотрю на себя в зеркало, когда заканчиваю бриться. Похоже, сегодня ей не светило добиться от меня иного ответа. Тут она моргнула, и что-то между нами как будто изменилось к лучшему. Что-то расцепилось, или отключилось, или, по крайней мере, слегка поубавилось. Я немного расслабился.
— Зачем кому-то понадобилось убивать моего отца?
Ее голос явно смягчился.
— Честное слово, не знаю, — ответил я. — Ведь я только сейчас узнал, что он не курит.
Но она продолжала давить, будто не слышала моих слов:
— И вот еще что, мистер Финчам. Какое отношение ко всему этому имеете вы?
Коварно. Очень коварно. Коварно в кубе.
— Дело в том, что эту работу сначала предложили мне.
Она вдруг перестала дышать. Нет, серьезно, она действительно перестала дышать. И не похоже, чтобы в ближайшем будущем собиралась ренаимировать свои дыхательные навыки.
Я продолжал как можно спокойнее:
— Кое-кто предложил мне кучу денег за то, чтобы я убил вашего отца. — Она недоверчиво нахмурила брови. — Но я отказался.
Мне не следовало этого добавлять. Ох, не следовало.
Третий закон Ньютона о ведении разговора, если бы таковой существовал, непременно утверждал бы, что любое заявление предполагает равное по силе и диаметрально противоположное по смыслу ответное заявление. Сказав, что я отказался убивать, я одновременно подтвердил, что мог и не отказаться. А подобное предположение было на тот момент не самым уместным. Но ее снова била дрожь, так что, возможно, она ничего и не заметила.
— Почему?
— Почему что?
В ее левом глазу зеленая прожилка уходила от зрачка куда-то на северо-восток. Я все пялился на этот ее глаз, хотя по большому счету, были в тот момент дела и поважнее, поскольку положение мое было хуже некуда. Во многих смыслах.
— Почему вы отказались?
— Потому что… — начал я, но остановился. Ошибаться мне было нельзя.
Повисла пауза, во время которой она явно пыталась распробовать мой ответ на вкус, катая его языком во рту. Затем мельком взглянула на тело Райнера.
— Я же говорил вам, — сказал я. — Он первый начал.
Она пристально вглядывалась в меня лет еще, наверное, триста, после чего, все так же медленно разминая сигарету между пальцами, направилась к дивану, явно вся в глубочайших раздумьях.
— Честное слово, — продолжал я, стараясь взять в руки и себя, и ситуацию. — Я хороший. Я жертвую в фонд голодающих, сдаю макулатуру и все такое.
Поравнявшись с телом Райнера, она остановилась.
— И когда же это произошло?
— М-м… только что, — пробормотал я, прикидываясь идиотом.
На мгновение она прикрыла глаза.
— Я имею в виду: когда вам предложили?
— Ах, это! Десять дней назад.
— Где?
— В Амстердаме.
— В Голландии, верно?
Ну слава богу. Я незаметно перевел дух, почувствовав себя значительно лучше. Приятно, когда молодежь время от времени посматривает на тебя свысока. Нет, совсем ни к чему, чтобы так было всегда, но время от времени — пусть будет.
— Верно, — согласился я.
— И кто же предложил вам работу?
— Я этого человека не видел ни до, ни после того.
Она наклонилась за бокалом, пригубила и недовольно поморщилась.
— Вы и в самом деле полагаете, что я вам поверю?
— Ну…
— Постойте. Давайте-ка, попробуем еще раз. — Ее голос вновь набирал силу. Кивок в сторону Райнера. — Итак, что мы имеем? Человека, который не сможет подтвердить вашу историю? И почему же я должна вам верить? Потому что у вас такое милое лицо?
Тут я не смог удержаться. Знаю, надо было, но я просто не смог.
— А почему бы и нет? — Я изо всех сил старался выглядеть очаровашкой. — Вот я бы, например, поверил любому вашему слову.
Непростительная ошибка. Ужасно непростительная. Одна из самых нелепейших ремарок, выданных мною за всю мою долгую, набитую нелепейшими ремарками жизнь.
Она повернулась ко мне, внезапно разозлившись.
— Прекратите эту хрень!
— Я всего лишь хотел сказать… — начал было я. К счастью, она тут же обрезала меня: а то, честное слово, я и сам не знал, что хотел сказать.
— Я сказала: прекратите. Здесь человек умирает.
Я виновато кивнул, и мы оба склонили головы перед Райнером, словно отдавая ему последние почести. Но тут она будто захлопнула молитвенник и встряхнулась. Плечи ее расслабились, а рука с пустым бокалом протянулась ко мне.
— Я — Сара, — сказала она. — Налейте мне, пожалуйста, колы.