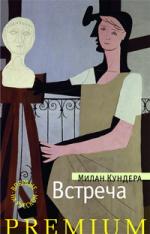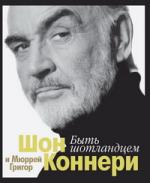- Леонид Парфёнов. Намедни. Наша эра.
2006-2010. Азбука-Аттикус, 2013
В 2005 году Дмитрий Быков со свойственной ему монументальностью отлил в граните: «Сегодня на ТВ нельзя ничего, в прессе можно кое-что, в книгах — можно всё». Спустя восемь лет, добавим: а на презентациях этих самых книг — вообще всё-всё-всё.
Намедни Леонид Парфёнов представил в книжных супермаркетах Москвы и Петербурга очередной том главного своего книжного проекта. Народ ломился на эти волнительные встречи с прекрасным так, что вспоминалось незабвенное «Касса, баранину не выбивать!», сам видел, как одну даму, рухнувшую в обморок от душной жары и тесноты, так и вовсе вынесли из кофейни «Буквоеда» — отряд не заметил потери бойца, встали ещё плотнее.
Казалось бы — ну что мы, Парфёнова не видели? Что, перед нами какой-то суперновый продукт? Отнюдь — очередной выпуск книжного «Намедни», здоровенный том формата coffee table book, посвящённый на этот раз пятилетке
Любимый парфёновский прием, как и прежде, не рифма, — а контрапункт.
Автор-составитель обаятельно улыбается на обложке и первых страницах книги — и столь же изящно проводит серию болевых приёмов: смерть Солженицына, Ельцина, Алексия II, Магнитского, Милошевича, Майкла Джексона, Бадри Патаркацашвили, Туркменбаши, казнь Саддама Хусейна, ликвидация Басаева, убийства ингушского оппозиционера Магомеда Евлоева, банкира Козлова, вора в законе Иванькова (больше известного, как «Япончик»), Политковской, Эстемировой, Маркелова и Бабуровой, трагедии «Невского экспресса» и бара «Хромая лошадь», разбившийся Ту-154 с польским президентом, злодейства банды Цапков и евсюковский кровавый квест… Не говоря уже о терактах, войне с Грузией и подмосковных пожарах. Количество трупов на единицу текста значительно превышает аналогичный показатель в томе «Намедни» про «лихие девяностые» (термин, который сам Парфенов, мягко говоря, не жалует и считает пропагандистским клише, изобретённым специальными людьми).
Не многовато ли смертей? — робко интересовались читатели на встречах с автором. Парфёнов отвечал в том духе, что он и сам бы хотел, чтобы их было поменьше, но «плотность информационного потока такова, что приходится делать том, посвященный не десятилетию, как раньше, а пятилетке». Дескать, не мы такие, жизнь такая, как говорили персонажи фильма «Бумер» (см. «Намедни», 2003).
И только Путин — живее всех живых. Из 292 статей он упоминается как минимум в восьмидесяти (а кажется — чуть ли не в каждой), идёт ли речь об экономическом кризисе, маршах несогласных, объединении православных церквей или творчестве Григория Лепса. Статьи «Путин выбрал Медведева», «Тандемократия», «Национальный лидер» — самые большие, самые иллюстрированные в книге. Всем известна древняя китайская мудрость: лучший правитель — тот, о существовании которого народ только догадывается — у нас явно не тот случай.
Будто не веря своим глазам, что всё это отпечатано на глянцевой бумаге сумасшедшим по нынешним временам тиражом, публика неизменно задавала автору вопросы вроде «Леонид, как вы относитесь к Путину?», и Леонид неизменно четко, внятно — видно, что сформулировано им это уже давно — отвечал:
«Нам показали, как четыре фрика привели к национальному лидеру „будущего президента“, а он им сказал: „Спасибо за ваш выбор“. Вроде: ба, так вот вы с кем пришли, я давно этого парня знаю. А мы не то, что не возмутились, мы даже не рассмеялись».
«Как бы строго мы ни судили себя сейчас, будущие поколения будут относиться к нам с ещё большим презрением. Время при Брежневе утекало столь же бездарно. Но тогда это было не столь нестерпимо. Два триллиона нефтяных долларов — куда они ушли? Детям на операции собираем всем миром. Средняя зарплата 600 евро — в Европе это ниже прожиточного минимума. Ни армии, ни здравоохранения, ни пенсий. Ничего нет. Мы все живем в Пикалёво».
Видно, что не только публике Парфёнова не хватает — очевидна потребность самого Леонида Геннадьевича в живой аудитории, интерактивности, обратной связи… Притом что спрашивают, как правило, об одном и том же, нередко говорят несусветное; обычное дело реплики вроде «Почему вы предали НТВ?» Выжившие из ума старцы потчуют на этих встречах Парфёнова стихами собственной выпечки, экзальтированные юницы приглашают «любимого Леонида Геннадьевича» на семинары в Университет: «— Спасибо, но боюсь, что не смогу. — Ну хоть афишу нашу возьмите, ну, пожалуйста! — Афишу, конечно, возьму. А вопрос-то в чем?». При этом никакого раздражения, не говоря уже хамства, в ответ. (Только представьте себе масштаб бедствия, окажись на месте Парфёнова — Киркоров). Но устный выпуск программы «Намедни» в магазинах не барщина: мол, вышла книжка, надо по договору с издательством куда-то тащиться, торговать лицом, отрабатывать, нет. Всякое искусство — это искусство нравиться, и Парфёнов лёгок, весел, остроумен, терпелив, перед публикой не заискивает, но к чужим глупостям вполне снисходителен («Не бывает плохих вопросов, бывают плохие ответы») и периодически дополнительно вознаграждает зрителей тщательно подготовленными экспромтами вроде виртуозного исполнения «под Лещенко» песни «Любовь, комсомол и весна».
Надеюсь, что кто-то этот вставной номер записал и на U-tube со временем выложит. А на «большом ТВ» это стало бы суперхитом в «Прожекторперисхилтон» или «Большой разнице» (см. «Намедни», 2008).
Многолетний критик отечественного телевидения, Парфёнов в нынешнем книжном «Намедни», тем не менее, идёт по самым рейтинговым телесюжетам сомнительной респектабельности: Орбакайте и Байсаров делят сына; Прохоров задержан в Куршавеле; обгоревшие в одном «Феррари» Канделаки и Керимов; Плетнёв и тайский мальчик и прочие top-news программы Андрея Малахова «Пусть говорят» — о которой здесь тоже рассказано. «Нарядный как с картинки телеведущий, с прихотливо уложенной шевелюрой, подкачанный в фитнесе и загорелый, при очочках, манерах и уверенном голосе с напором на „а“ — никогда ещё такой душка не обслуживал её величество российскую тетку. Она мечтала даже не о таком сыне, а о таком зяте — посланце нового богатого мира, который по-заграничному осчастливит всю семью, но будет тещу называть мамой».
Парфёнов неоднократно объяснял засилие откровенного трэша на нынешнем ТВ отсутствием свободы журналистов выборе тем: «В условиях „черный, белый не берите“ приходится брать желтое… Всем понятно, что спорить о детях Кристины Орбакайте на телевидении можно, а на общественно-политическую проблематику — нельзя».
Будто подтверждая этот тезис и иллюстрируя небывалую в историю России свободу книгопечатания, Парфёнов юридически безупречно и вместе с тем не без ехидного удовольствия прокомментировал сюжет «Путин и Кабаева» («Намедни», 2008): «Конечно, я комментирую слухи. Но ведь, как раньше говорили, слухи про Пушкина это совсем не то, что слухи про Достоевского. Если Google на запрос „Путин и Кабаева“ дает миллион семьсот тысяч ответов, это является мемом, тегом, общественно значимым феноменом, наконец, или нет?» Напомню, что газету «Московский корреспондент», которую Парфенов в «Намедни» цитирует, прикрыли вскоре после публикации на эту тему, а в книге такое печатается свободно, и не слыхать, чтобы планировали арестовать тираж — «ибо это не имеет электоральных последствий».
Много спрашивали о творческих планах.
«Я сейчас готовлю фильм о Сергее Михайловиче Прокудине-Горском, замечательном русском фотографе, который снимал в цвете ещё сто лет назад. Несколько тысяч его снимков, запечатлевших последние годы Российской империи, хранятся в библиотеке конгресса США. Фильм будет называться „Цвет нации“, должен выйти осенью».
Очень, очень ждём, что, как и другие парфеновские телепроекты, история Прокудина-Горского выйдет и в виде книги. Как прекрасно смотрелось бы на обложке: имя и фото автора и название: «Леонид Парфенов. Цвет нации».