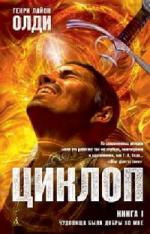- «Азбука-Аттикус», 2012
- «Петербург-нуар». Четырнадцать. «Четырнадцать оттенков черного», — как названа в предисловии к книге ее цветовая гамма. Пусть читателя не пугает такое цветовое решение. Или, наоборот, — пугает. Впрочем, имена авторов, смешавших краски на палитре «Петербурга-нуара», уже исключают основания для сетований по поводу монохромности книги, как не дают повода пройти мимо нее равнодушно. Сергей Носов, Павел Крусанов, Андрей Кивинов, Андрей Рубанов, Лена Элтанг, Антон Чиж… И перечисленные, и скрытые многоточием, эти имена на слуху, и составляют если не славу, то гордость современной литературы как минимум.
- Купить книгу на Литресе
Сергей Носов. Шестое июня
Мне рекомендовано забыть это место — не посещать
никогда.
А я вот пришел.
Многое изменилось, многое не узнаю, а могло бы измениться
еще больше и в гораздо большем — планетарном!
— масштабе, выбей тогда я дверную задвижку и ворвись
в ванную комнату!..
Надеюсь, у меня нет необходимости в десятитысячный
раз объяснять, почему я хотел застрелить Ельцина.
Хватит. Наобъяснялся.
С тех пор как меня освободили, я не бывал на Московском
проспекте ни разу.
Станция метро «Технологический институт» — здесь
я вышел, а дальше ноги сами меня понесли. Все рядом.
До Фонтанки (это река) шесть минут неспешной ходьбы.
Обуховский мост. Мы жили с Тамарой не в угловом
доме, а рядом — на Московском проспекте у него восемнадцатый номер. Надо же: ресторан «Берлога»! Раньше
не было никаких берлог. Раньше здесь был гастроном,
в нем Тамара работала продавщицей. Я зашел в «Берлогу» взглянуть на меню. В частности, подают медвежатину.
Что ж.
Если это «берлога», то комнату в доме над «Берлогой»,
где я жил у Тамары, справедливо назвать «гнездом».
В нашем гнезде над берлогой был бы сегодня музей,
сложись все по-другому. Музей Шестого июня. Впрочем,
я о музеях не думал.
Захожу во двор, а там с помощью подъемника, вознесшего
рабочего на высоту третьего этажа, осуществляется
поэтапная пилка тополя. Рабочий бензопилой ампутирует
толстые сучья — часть за частью, распил за распилом.
Я уважал это дерево. Оно было высоким. Оно росло быстрее
других, потому что ему во дворе недоставало солнца.
Под этим тополем я часто сидел в девяносто шестом
и девяносто седьмом и курил на ржавых качелях (детская
площадка сегодня завалена чурбанами). Здесь я познакомился
с Емельянычем. Он присел однажды на край
песочницы и, отвернув крышечку аптечного пузырька, набулькал
в себя настойку боярышника. Я хотел одиночества
и собрался уйти, но он спросил меня о моих политических
убеждениях — мы разговорились. Нашли общий
язык. Про Ельцина, как обычно (тогда о нем все говорили),
и о том, что его надо убить. Я сказал, что не только
мечтаю, но и готов. Он тоже сказал. Он сказал, что командовал
взводом разведчиков в одной африканской стране,
название которой он еще не имеет права предать огласке,
но скоро сможет, и тогда нам всем станет известно. Я ему
не поверил сначала. Но были подробности. Много подробностей.
Не поверить было нельзя. Я сказал, что у меня
есть «макаров» (еще года два назад я купил его на пустыре
за улицей Ефимова). У многих было оружие — мы,
владельцы оружия, его почти не скрывали. (Правда, Тамара
не знала, я прятал «макарова» под раковиной за трубой.)
Емельяныч сказал, что придется мне ехать в Москву,
основные события там происходят — там больше возможностей.
Я сказал, что окна мои глядят на Московский
проспект. А по Московскому часто проезжают правительственные
делегации. Показательно, что в прошлом году
я видел в окно президентский кортеж, Ельцин тогда посетил Петербург — дело к выборам шло. Будем ждать
и дождемся, он снова приедет. Но, сказал Емельяныч, ты
ведь не станешь стрелять из окна, у них бронированные
автомобили. Я знал. Я, конечно, сказал, что не буду. Надо
иначе, сказал Емельяныч.
Так мы с ним познакомились.
А теперь и тополя больше не будет.
Емельяныч был не прав, когда решил (он так думал
вначале), что я сошелся с моей Тамарой исключительно
из-за вида на Московский проспект. Следователь, кстати,
думал так же. Чушь! Во-первых, я сам понимал, что
бессмысленно будет стрелять из окна, и даже если выйти
из дома и дойти до угла, где обычно правительственные
кортежи сбавляют скорость перед тем, как повернуть
на Фонтанку, совершенно бессмысленно стрелять по бронированному
автомобилю. Я ж не окончательный псих,
не кретин. Хотя иногда, надо сознаться, я давал волю
своему воображению. Иногда, надо сознаться, я представлял,
как, подбежав к сбавляющей скорость машине, стреляю,
целясь в стекло, и моя пуля попадает именно в критическую
точку, и вся стеклянная броня… и вся стеклянная
броня… и вся стеклянная броня…
Но это во-первых.
А во-вторых.
Я Тамару любил. А то, что окна выходят на Московский
проспект, — это случайность.
Между прочим, я так и не выдал им Емельяныча, все
взял на себя.
Мне не рекомендовано вспоминать Тамару.
Не буду.
Познакомились мы с ней… а впрочем, какая разница
вам.
До того я жил во Всеволожске, это под Петербургом.
Когда переехал к Тамаре на Московский проспект, продал
всеволожскую квартиру, а деньги предоставил финансовой пирамиде. Очень было много финансовых пирамид.
Я любил Тамару не за красоту, которой у нее, честно
сказать, не наблюдалось, и даже не за то, что во время секса
она громко звала на помощь, выкрикивая имена прежних
любовников. Я не знаю сам, за что я любил Тамару.
Она мне отвечала тем же. У нее была отличная память.
Мы часто играли с Тамарой в скрэббл, иначе эта игра называется
«Эрудит». Надо было выкладывать буквы на
игровом поле, соединяя их в слова. Тамара играла лучше
меня. Нет, правда, я никогда не поддавался. Я ей не раз
говорил, что работать ей надо не в рыбном отделе обычного
гастронома, а в книжном магазине на Невском, где
продают словари и новейшую литературу. Это сейчас не
читают. А тогда очень много читали.
Ноги сами, сказал, привели. Рано или поздно я бы все
равно пришел сюда, сколько бы мне ни запрещали вспоминать
об этом.
Просто за те два года, что я жил с Тамарой, тополь подрос,
тополя быстро растут, даже те, которые кажутся уже
совершенно взрослыми. Крона у них растет, если я непонятно
выразился. Теперь ясно? А когда видишь, как что-то
медленно изменяется на твоих глазах — в течение года,
или полутора лет, или двух, тогда догадываешься, что
и сам изменяешься — с этим вместе. Вот он изменялся,
и я изменился, и все вокруг нас изменялось, и далеко не
в лучшую сторону, — все, кроме него, который просто рос,
как растут себе тополя — особенно те, которым не хватает
света… Короче, я сам не знал, чем тополь мне близок,
а то, что он близок мне, понял только сейчас, когда увидел,
что пилят. Надо ведь было через столько лет прийти
по этому адресу, чтобы увидеть, как пилят тополь! Вот
и всколыхнуло во мне воспоминания. Те самые, которыми
мне было запрещено озабочиваться.
Зарплата у нее была копеечная, у меня тоже (я чинил
телевизоры по найму — старые, советские, еще на лампах,
тогда такие еще не перевелись, а к рубежу, к водоразделу
шестого июня одна тысяча девятьсот девяносто седьмого
года уже не чинил — прекратились заказы). В общем,
жили мы вместе.
Однажды я ее спросил (за «Эрудитом»), смогла бы
она участвовать в покушении на Ельцина. Тамара спросила:
в Москве? Нет, когда он посетит Санкт-Петербург.
О, когда это будет еще! — сказала Тамара. Потом она спросила
меня, как я все это вижу. Я представлял это так.
Черные автомобили мчатся по Московскому проспекту.
Перед тем как повернуть на Фонтанку, они по традиции
(и по необходимости) тормозят. Перед его автомобилем
выбегает Тамара, бухается на колени, вздымает к небу руки.
Президентский автомобиль останавливается, заинтригованный
Ельцин выходит спросить, что случилось
и кто она есть. И тут я — с пистолетом. Стреляю, стреляю,
стреляю, стреляю…
Тамара мне ответила, что у меня, к счастью, нет пистолета,
и здесь она была не права: к счастью или несчастью,
но «макаров» лежал в ванной, за трубой под раковиной,
там же двенадцать патронов — в полиэтиленовом
мешке, но Тамара не знала о том ничего. А вот в
чем она была убедительна, по крайней мере мне тогда
так казалось, это что никто не остановится, кинься она
под кортеж. А если остановится президентский автомобиль,
Ель цин не выйдет. Я тоже так думал: Ельцин не
выйдет.
Я просто хотел испытать Тамару, со мной она или нет.
Потом он спрашивал, светя мне лампой в лицо: любил
ли я Тамару? Почему-то этот вопрос интересовал потом
не одного начальника группы, но и всю группу меня допрашивающих
следаков. Да, любил. Иначе бы не протянул
два года на этом шумном, вонючем Московском проспекте, даже если бы жил только одной страстью — убить
Ельцина.
На самом деле у меня было две страсти — любовь к Тамаре
и ненависть к Ельцину.
Две безотчетные страсти — любовь к Тамаре и ненависть
к Ельцину.
И если бы я не любил, разве бы она говорила мне «орлик
мой», «мой генерал», «зайка-зазнайка»?..
Ельцина хотели тогда многие убить. И многие убивали,
но только — мысленно. Мысленно-то его все убивали.
Девяносто седьмой год. В прошлом году были выборы.
Позвольте без исторических экскурсов — не хочу. Или
кто-то не знает, как подсчитывались голоса?
Во дворе на Московском, 18, я со многими общался
тогда, и все как один утверждали, что не голосовали в девяносто
шестом за Ельцина. Но это в нашем дворе. А если
взять по стране? Только я не ходил на выборы. Зачем ходить,
когда можно без этого?
Ему сделали операцию, американский доктор переделывал
сосуды на сердце.
Ох, мне рекомендовано об этом забыть.
Я забыл.
Я молчу.
Я спокоен.
Итак…
Итак, я жил с Тамарой.
Возможность его смерти на операционном столе обсуждалась
еще недавно в газетах.
И я сам помню, как в газете, не помню какой, меня и таких
же, как я, предостерегали против того, чтобы связывать
жизненную стратегию с ожиданием его кончины.
Но я не хочу отвлекаться на мотивы моего решения.
А что до Тамары…