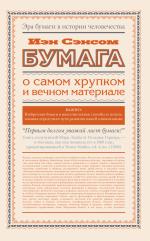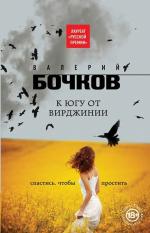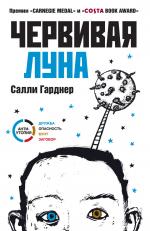- Иэн Сэнсом. Бумага. О самом хрупком и вечном материале / Пер. с англ.
Д. Карельского. — М.: АСТ: Corpus, 2015. — 320 с.Книги, письма, дневники, картонные подставки под пиво, свидетельства о рождении, настольные игры и визитные карточки, фотографии, билеты, чайные пакетики… «Мы — люди бумаги», — утверждает английский филолог и публицист Иэн Сэнсом, который однажды попробовал представить мир без этого материала. Несмотря на все грозные предсказания о тотальной оцифровке книг и архивов, исследователь доказывает, что в том или ином виде бумага всегда будет с нами.
Глава 2 В лесу
По лесу идут тропы, многие сильно заросли и внезапно
теряются, дойдя до мест, где лес нехоженый. Тропы проходят
каждая своим путем, но при этом по одному и тому же лесу.
Порой кажется, что они неотличимы одна от другой. Но это
только так кажется. Лесорубы и лесничие умеют их различать.
Они знают, что от каждой из них ждать.Мартин Хайдеггер «Лесные тропы» (Holzwege, 1950)
Точь-в-точь как в той истории со слепым бедолагой Эдипом, участь моя была давным-давно предрешена, но только теперь я разгадал загадку и вступил на верный путь. Дело
в том, что в конце 1970-х — начале 1980-х даже в самых
заурядных и ни на что особо не претендующих школах
Англии ввели для учеников нечто вроде консультаций
по выбору будущей профессии. Под конец пятого класса нас всех направили к педагогу — назовем его именем Тиресий, — которому было доверено обращение
с новомодной системой определения профессиональных задатков. Мы отвечали на кучу разных вопросов,
наши ответы фиксировались на перфокартах, а потом
перфокарты загоняли в школьный компьютер, каковой,
подумав — не знаю, насколько правомерно будет тут
сравнение с Оракулом, — выдавал приговоры, отпечатанные на ленте, как у кассового аппарата. Согласно компьютерным приговорам, нам, подрастающему
в графстве Эссекс поколению, рекомендовалось готовить себя к трудовой деятельности в роли секретарш,
таксистов и автомехаников. Мне на общем фоне повезло. Судьбой мне было суждено работать в лесничестве.И вот тридцать лет спустя, за все эти годы практически ни разу не побывав в лесу — если не считать
редких прогулок в пригородном Эппингском лесу,
а также периодических приключений в древнегреческих мифологических рощах и чащах, где странствовали рыцари короля Артура, в Стоакровом лесу и в том,
где живут чудовища из «Там, где живут чудовища», ну,
и еще в родном лесу Груффало, — я вдруг осознал, что
на самом деле по горло засыпан палой листвой, буквально утопаю в рыхлой лесной подстилке. Лесником
я не стал, но определенно сделался сыном лесов, обитателем тенистых лощин и папоротниковых прогалин.
Я фактически кормлюсь лесом.Взять хотя бы сегодняшнее утро: выйдя ненадолго
на улицу, я притащил домой две пачки писчей бумаги, два репортерских блокнота фирмы «Силвайн», несколько почтовых конвертов, пять простых карандашей
средней твердости, а еще «Белфаст телеграф», «Дейли
телеграф», «Гардиан», «Таймс», «Дейли мейл» и два журнала — один про дизайн интерьеров, другой про бокс.
А выходил-то я, собственно, купить почтовых марок.Бумаги я потребляю больше, чем всех остальных
продуктов, в том числе и продовольственных. В смысле
бумаги я всеяден. Я буквально пожираю ее — вне зависимости от того, что это за бумага и откуда она взялась.
(Бывают, впрочем, исключения. Недавно в Лондоне
я по рассеянности забрел в «Смитсон», роскошный
писчебумажный магазин на Бонд-стрит — из тех, где
продавцы выглядят респектабельнее покупателей, которые, в свою очередь, стократ респектабельнее любого из ваших знакомых, где на входе солидная охрана,
а за симпатичный кожаный бювар у вас попросят полторы тысячи фунтов, где можно сделать тисненную
золотом надпись на записной книжке и где я, честное
слово, не мог себе позволить прикупить даже коробочку
простых карандашей.)
Когда я, изводя одну за одной стопы девственно
чистой бумаги, пишу на ней что-нибудь карандашами
«Фабер-Кастелл» или распечатываю тексты с помощью
давно и окончательно устаревшего сканера-копира-принтера «Хьюлетт-Паккард», я же на самом деле кладу при корне дерева свою обоюдоострую лесорубную
секиру1. Я — Смерть, разрушитель… ну, если, не миров,
то лесов уж точно2. Мы знаем (хотя подобные общеизвестные цифры обычно трудно бывает перепроверить), что на одну пачку бумаги уходит в среднем одна двадцатая часть древесины одного растения. То есть
ради производства приблизительно двадцати пачек
или восьми тысяч листов, изведенных мною по ходу
написания книги, которую вы держите сейчас в руках,
целиком было уничтожено минимум одно взрослое дерево. Это если не учитывать напечатанных на бумаге
книг, прочитанных мной в процессе работы, и бумаги, на которой напечатали тираж моего произведения.
А если все это учесть и суммировать, то, боюсь, выйдет
уже не дерево, а небольшой перелесок. Мировые запасы
древесины нынче отнюдь не сосредоточены в вековых
лесах Канады, России и Амазонии — основные залежи ее раскиданы по книжным магазинам, библиотекам
и логистическим центрам «Амазона».Всякий, кто углубляется в историю и подробности того, как и почему человек начал перерабатывать
деревья в бумагу, рано или поздно чувствует себя царем Эдипом — погрязшим в неведении слепцом, проклятым за страшное злодеяние. Или, скорее, поэтом
Данте, который говорит о себе в первой терцине «Божественной комедии»: «Nel mezzo del cammin di nostra
vita / mi ritrovai per una selva oscura / che la diritta via
era smarrita» («Земную жизнь пройдя до половины, /
Я очутился в сумрачном лесу, / Утратив правый путь
во тьме долины»3). Selva oscura, или «сумрачный лес»,
тут весьма кстати, поскольку исследователя новейшей
истории бумажного производства мрак и сумрак, бывает, накрывают грозно и неотвратимо, как грозно и неотвратимо двинулись в финале «Макбета» на Дунсинан
воины Малкольма, прикрываясь от защитников замка
ветвями, которые нарубили в Бирнамском лесу. (Куросава превосходно снял эту сцену, яркую и зловещую,
в фильме «Трон в крови» 1957 года; желающих убедиться
в этом отсылаю на «Ютьюб».)В XVIII–XIX веках производители бумаги начали
искать, чем бы заменить в качестве сырья привычное тряпье, которого попросту переставало хватать. В 1800 году
для нужд бумажного производства в Британию было
ввезено тряпья на 200 тысяч фунтов стерлингов, цены
на него стремительно росли. Как пишет Дард Хантер,
автор непревзойденного труда «История и технология
старинного искусства выделки бумаги» (Papermaking:
The History and Technique of an Ancient Craft, 1943), требовалось «растительное волокно, от природы компактно
произрастающее, такое, чтобы его было просто собирать и обрабатывать и чтобы оно давало самую высокую
среднюю урожайность в расчете на один акр».Дерево как нельзя лучше отвечало этим условиям —
первым об этом заявил Маттиас Копс. В 1800 году он
издал книгу, чудесно озаглавленную «Историческое
повествование о субстанциях, посредством коих происходила передача мыслей, начиная от древнейших времен и до изобретения бумаги» (Historical Account of the
Substances Which have been Used to Convey Ideas from
the Earliest Date to the Invention of Paper). В книге Копс,
среди прочего, утверждал, что она частично напечатана
«на бумаге, каковая изготовлена из одной лишь древесины, произраставшей у нас в стране, без малейшей
примеси тряпья, бумажных отходов, древесной коры,
соломы либо иных субстанций, когда бы то ни было
употреблявшихся при выделке бумаги; и тому имеются
самые что ни на есть надежные доказательства».Доказательства не заставили себя долго ждать:
в 1800–1801 годах Копс стал обладателем массы патентов, в том числе «на выделку бумаги из соломы, сена,
чертополоха, отходов пенькопрядения и ткацкого дела,
а также из всевозможных разновидностей древесины
и древесной коры». Копс нашел желающих вложиться
деньгами в производство бумаги новым, изобретенным
им способом и выстроил посреди Лондона, в Вестминстере, громадную бумажную мануфактуру — как считает специалист по творчеству Уильяма Блейка Кери Дейвис, именно эта постройка устрашающим своим видом
внушила Блейку апокалипсический образ близящейся
индустриальной эры, который рисуется ему в неоконченной визионерской поэме «Четыре Зоара» (The Four
Zoas). Терпения инвесторов, впрочем, хватило ненадолго, в 1804 году Копсу пришлось мануфактуру продать, и,
таким образом, на производстве бумаги из древесного
сырья сделали себе состояние совсем другие люди.Среди этих других был немецкий ткач и механик
Фридрих Готтлоб Келлер — в 1840 году он запатентовал машину для тонкого размола древесины. Генрих
Фельтер усовершенствовал эту машину, известную с тех
пор как «дефибрер», а еще один немец, Альбрехт Пагенштехер, оборудовал ею первую в Америке бумажную
фабрику, на которой бумагу получали из измельченной
древесной массы. В те же примерно годы был разработан химический метод получения целлюлозы, при котором древесная щепа разделялась на волокна, главным
образом, не перетиранием, а варкой в растворе с добавлением щелочи (при натронном способе) или кислоты
(при сульфитном способе). Таким образом, ко второй
половине XIX столетия угроза кризиса в бумажном
производстве миновала: сырье для фабрик подешевело, их производительность возросла, спрос на бумагу
стремительно ширился во всем мире. Бумажный век
вступил в свои права. Во многом благодаря лесам.И за счет лесов. В наши дни почти половина промышленно вырубаемой древесины идет на производство бумаги. Неумеренное потребление человечеством
бумаги, как утверждают активисты-экологи, угрожает
ни много ни мало самому существованию жизни на планете. В средневековом английском законодательстве были предусмотрены особые следствие и суд «по лесным
тяжбам» — перед этим судом представали крестьяне
и лесничие, которых подозревали в нарушении лесных
законов, в том, например, что кто-то самовольно срубил
дерево, а кто-то застрелил оленя. Существуй подобие
таких выездных судов сегодня, истцами бы на них выступали экологи и активисты природоохранных движений, а ответчиками — транснациональные компании-производители бумаги.Один из самых неугомонных и красноречивых защитников лесов — писательница и борец за сохранение
природы Мэнди Хаггит. «Пора перестать видеть в белом
листе бумаги нечто чистое, здоровое и естественное, —
говорит она. — Мы должны осознать, что бумага — это
не что иное как выбеленная химикатами целлюлоза».
Хаггит и ее единомышленники из экологических ор-
ганизаций, таких как «ФорестЭтикс», «Кизиловый альянс» и Совет по охране природных ресурсов, не устают
повторять, что современное бумажное производство
наносит огромный вред человеку и окружающей среде:
является причиной эрозии почв, наводнений, уничтожения природной среды обитания и, соответственно,
массового вымирания биологических видов, порождает
нищету и социальные конфликты, неумолимо мостит
нам бумагой путь саморазрушения, в конце которого — апокалипсис. Экологи обвиняют ведущих мировых производителей бумаги — корпорации «Интернэшнл пейпер», «Джорджия-Пасифик», «Уэйерхаузер»
и «Кимберли-Кларк» — в уничтожении первобытных
лесов, на месте которых они разводят монокультурные
насаждения, нуждающиеся в химических удобрениях,
которые, в свою очередь, загрязняют реки и озера.Список обвинений со стороны защитников лесов
длинный и довольно запутанный. Но даже если бы
бумажные корпорации оправдались по всем пунктам,
если бы восстанавливали сведенные леса в их первозданном виде, если бы сделали так, что благодаря
рациональным методам ведения хозяйства древесина
превратилась в полностью возобновляемый ресурс,
промышленное производство бумаги все равно бы
ставило под угрозу будущее планеты — слишком много оно требует конечных ресурсов невозобновляемых,
слишком велики затраты воды, минерального сырья,
металлов и углеводородов. Если верить Мэнди Хаггит,
«при изготовлении одного листа формата А4 выделяется столько же парниковых газов, сколько при горении
лампы накаливания в течение целого часа, а кроме того,
расходуется большая кружка воды». (По инженерным
спецификациям, производство тонны бумаги требует
сорока тысяч литров воды, но бóльшая ее часть очищается и используется повторно.)Выходит, что свой изысканный рацион из газет,
журналов, стикеров, туалетной бумаги и кухонных бумажных полотенец мы жадно запиваем цистернами воды
и заедаем мегаваттами электричества. В Великобритании на одного человека в среднем за год расходуется
около двухсот килограммов бумаги, в Америке — почти
триста, а в Финляндии, на чью долю приходится 15 процентов мирового производства, и того больше. В Китае
годовое подушное потребление бумаги составляет всего пятьдесят килограммов, но при этом заметно растет
из года в год. Если взять человечество в целом, то в день
оно потребляет без малого миллион тонн бумаги, причем значительная ее часть после недолгого использования отправляется прямиком на свалку. «Мы совершенно
отвратительно обращаемся с бумагой», — говорит Мэнди Хаггит, и тут с ней трудно не согласиться.
1 См. Евангелие от Матфея, 3:10.
2 Фраза из Бхагаватгиты, известная благодаря тому, что она якобы
пришла в голову Роберту Оппенгеймеру, наблюдавшему в тот момент испытательный взрыв атомной бомбы.3 Перевод М. Лозинского.
Валерий Бочков. К югу от Вирджинии
- Валерий Бочков. К югу от Вирджинии. — М.: Эксмо, 2015. — 352 с.
Писатель Валерий Бочков, живущий в США, удостоен престижной «Русской премии» 2014 года в категории «Крупная проза». Когда главная героиня его психологического триллера «К югу от Вирджинии» — молодой филолог Полина Рыжик решает сбежать из жестокого Нью-Йорка, не найдя там перспективной работы и счастливой любви, она и не подозревает, что тихий городок Данциг — такой уютный только на первый взгляд. Став преподавательницей литературы, Полина вскоре узнает о загадочном исчезновении своей предшественницы Лорейн Андик…
1
Серьги из желтой железки напоминали тощих рыбок, в глазах краснели бусины, чешуйки неровными дугами были отчеканены на выпуклых боках. Полина приложила одну серьгу к уху, протиснулась к маленькому зеркалу, мутному и неудобному. Сложив губы уточкой, подвигала бровями. Продавщица, молодая, с грязноватой челкой на глазах, умирая от скуки, отколупывала лак с ногтей. Она изредка поглядывала на Полину. Больше в лавке никого не было.
Полина взглянула на часы — нужно было убить еще двадцать минут. Она опустила рыбок на стекло прилавка, те звякнули, девица лениво спросила:
— Берете?
Полина отошла, сделала неопределенный жест, всматриваясь в слепые корешки антикварных книг: Гете, Шекспир, рядом стоял путеводитель по Турции. Она вытащила Шелли начала века, бережно пролистав сухие страницы, чайные по периметру и светлеющие к середине, поставила том обратно. Провела пальцем по бугристому корешку с остатками позолоты. Было бы здорово такую книгу подарить Саймону.
— А русских авторов нет? — Полина повернулась к прилавку. — Толстой там…
Девица поглядела на нее из-под челки:
— Я про это не в курсе. Сережки брать будете?
Полина прищурилась, положила рыбок на ладонь, те в ответ поглядели лукавым глазом. Отступать было поздно — она кивнула.
— Вам завернуть? — чуть оттаяв, почти вежливо спросила девица. — У нас подарочная упаковка. Блестящая, вот смотрите. И бесплатно. — Она была уверена, что Полина одна из тех нищих задрыг, которые все перероют, перемеряют, а после так и уйдут, ничего не купив.
— Спасибо, я их сейчас… — Полина, зажав сумку под мышкой, вытащила из мочек маленькие фальшивые бриллианты, сунула их в джинсы.
— Я их прямо сейчас…
Продавщица, подцепив ногтем ценник, прилепила его себе на руку, ткнула пальцем в кассовый аппарат. Тот, радостно звякнув, выплюнул чек.
Полина вышла из лавки, пружина захлопнула дверь. Магазин был зажат между прачечной и мексиканской харчевней. Из обжорки воняло жареным луком, а из мрачного нутра прачечной несло химической свежестью. Полина поглядела на часы, закурила. Еше десять минут. Прошлась, искоса поглядывая в отражение витрины. Поправила волосы, выдула тонко дым.
Солнце вспыхнуло, выскочив из толкотни облаков, которые неслись по диагонали вверх. Другая сторона улицы утонула в синем, дорогу с пыльным бульваром посередине перечеркнули полосы света. У столба остановился красный седан с открытым верхом; Полина, быстро спрятав руку за спину, уронила окурок на асфальт.
— Опять? — Саймон сделал строгое лицо. — Ведь договорились!
Он дотянулся и приоткрыл дверь. Полина кинула сумку назад, там было крошечное сиденье, очевидно, рассчитанное на карлика или пару мелких детей.
— Вот! — она покрутила головой, сверкнув рыбками. Чмокнула Саймона в скулу.
— Блесна. На щуку? — он резко воткнул передачу и дал газ.
До Саймона у Полины был Грэг. Он тоже учился в Колумбийском, только на международных отношениях. Грэг относился к старомодному типу, в университете таких было немало, казалось, что все они — холеные, румяные, с опрятной скобкой на крепкой шее состоят в родстве, что все они ходили в одну и ту же частную школу в Новой Англии и до сих пор, по привычке, одеваются в темно-синие блейзеры с гербом на кармашке. Рубашки бледных расцветок, лимонные и голубые, иногда розовые, аккуратно заправлены в серые штаны под тонкий ремень с латунной пряжкой.
Грэг оказался скучноватым педантом, впрочем, внимательным и нежным. В постели у него отчаянно потели бедра и икры, удивительно волосатые, при полном отсутствии растительности на бледной костистой груди. Он предпочитал одну позу — сверху, двигался осторожно, будто боясь там что-то повредить. Впрочем, он был достаточно ритмичен, а главное, неутомим и напоминал Полине опытного чистильщика сапог. Она иногда ловила себя на том, что мысли ее утекали из спальни куда-то вдаль и там бродили в безмятежной скуке. Она пыталась внести разнообразие в процесс, но, не встретив одобрения, постепенно сдалась. На носу маячила защита диплома, потом выпуск, а в ее постуниверситетские планы Грэг уже не входил.
В конце марта, неожиданно жаркого в эту весну, они стояли у гуманитарного факультета и ели подтаявшее мороженое. Полина при этом умудрялась курить, подавшись вперед и стараясь не закапать юбку. Грэг с кем-то поздоровался, Полина повернулась. Грэг представил ее. Профессор Саймон Лири пожал ей руку, крепко, чуть задержав ее ладонь в своей. Она смутилась, от мороженого ее рука была липкой.
Профессору было за пятьдесят — старая гвардия, знакомая ей по родительскому дому в Нью-Джерси. Отцовские приятели, важные и неторопливые: покер, сигара, скотч в толстом стакане, иногда они оказывались остроумными, порой даже симпатичными. Но главное — запах, эта смесь горького табака, виски и пряного одеколона, этот дух вносил в мир порядок. Иногда под Рождество Полина получала от них десятидолларовые купюры. Эти мужчины знали жизнь, они твердо стояли на ногах и серьезно относились к своим удовольствиям: покер, рыбалка, скотч, сигары. Они знали цену справедливости. В них угадывалась основательность и надежность, таким вполне можно было доверить управлять миром.
Профессор Саймон обладал вкрадчивым голосом, седые виски переходили в жесткую пегую шевелюру, на подбородке гнездилась ямочка, которую (как Полина узнала потом) невозможно было чисто выбрить. В своем твидовом пиджаке с замшевыми локтями, вельветовых мешковатых штанах болотного цвета, мордатых ботинках свиной кожи он производил то самое впечатление надежности и напоминал ей старый отцовский саквояж, может, не такой стильный, но уж зато прочный и удобный для путешествий на любую дистанцию.
Полина отчего-то смутилась, на вопрос ответила сбивчиво, что диплом у нее по русской литературе, по Льву Толстому. Профессор хитро улыбнулся и, чуть помешкав, произнес:
— Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Акцент у него был жуткий, но впечатление на Полину профессор произвел. Грэг русского не знал, но тоже улыбался и довольно потирал ладони. Через неделю Грэг уехал в Европу.
Профессор Лири читал курс по истории холодной войны и еще что-то про распад коммунистического блока. Полина политикой не интересовалась, поэтому в аудиториях они не встречались. На кампусе он ей безразлично кивал или делал вид, что не замечает. Вообще, профессор соблюдал осторожность, встречались они в условном месте за пять кварталов вверх по Бродвею. На углу Сто тридцать шестой улицы, у антикварной лавки с синей дверью. Полине нравилась скрытность их связи, таинственность казалась ей романтичной и переводила Полину в разряд взрослых. У нее теперь был не просто парень, у нее появился настоящий любовник.
Хотя и здесь амурные дела обстояли не совсем гладко. Профессор предпочитал говорить, он обожал, когда его слушают. Полина слушала. Профессор мог часами рассуждать о том, что именно информация убила коммунизм, что роль Горбачева в перестройке минимальна — изменения диктовались экономикой, что Рейган просто дурак и посредственный актер, случайно угодивший в президенты.
Профессор говорил, когда готовил, обычно он стряпал что-то итальянское: равиоли с грибами, сицилийские баклажаны, моцарелла с томатами, макароны с пармской ветчиной. Готовил Саймон артистично, смело импровизируя, — на кулинарные рецепты он плевал.
— Для настоящего маэстро они лишь руководство к действию, — говорил профессор. — Рецепт есть догма, а догма убивает творчество.
Щедро добавляя оливковое масло, он сыпал соль, перец и специи на глаз, не забывая отхлебнуть кьянти из бокала. С поварской ловкостью шинковал петрушку и базилик, иногда перебивая сам себя восклицаниями типа «бениссимо» и «магнифико». Еда получалась действительно вкусной.
Профессор подбирал Полину у антикварной лавки и обычно вез к себе на Ист-Сайд. За такую квартиру запросто можно было заложить душу дьяволу: с мраморным холлом и швейцаром, квартира была на двух уровнях, в гостиной три сводчатых окна выходили на Пятую авеню, слева виднелась колоннада музея Метрополитен, справа зеленой горой вставал Центральный парк. Если лечь в ванну, то в круглое окно были видны верхушки небоскребов мидтауна. Самое удивительное, что в этой квартире никто не жил, иногда ключи выдавались проезжей родне или друзьям, посещающим Нью-Йорк.
Ребекка Лири предпочитала жить за городом, в Вестчестере. Эта квартира казалась ей тесной, город шумным, народ суетливым и неприятным. Ребекка много путешествовала. Она считалась специалистом по Дюреру и немецкому Ренессансу в целом, ее приглашали на всевозможные конференции и прочие мероприятия околохудожественного характера. В спальне стояла фотография, которую профессор каждый раз незаметно поворачивал к стенке. Там Ребекка снялась на фоне какого-то готического собора, Полина иногда разглядывала ее лицо и совершенно не могла представить эту холеную высокомерную суку рядом с милым Саймоном. Сам профессор говорил, что их семейные отношения давно эволюционировали в дружеское партнерство, при этом Саймон грустно улыбался и гладил Полину по колену. Полина верила и отчасти даже жалела искусствоведку.
Полина понимала тупиковость отношений с профессором, этим апрелем ей исполнилось двадцать четыре, она все еще считала себя достаточно молодой, и будущая жизнь с вероятными детьми и предполагаемым мужем виделась Полине расплывчато и в общих чертах. Гораздо больше ее занимало трудоустройство после получения диплома, впрочем, ясности здесь тоже не было.
Профессор был в отличной форме, разумеется, для своего возраста. Когда он садился на край кровати и стягивал носки, кожа собиралась в складки, отвисала в неожиданных местах. Особенно уродливыми казались ступни ног, желтые, словно из воска, с корявыми бледными ногтями. На бедре темнело родимое пятно размером с маслину, а от пупка по диагонали вверх тянулся шрам. История шрама так никогда и не прояснилась, Саймон уклончиво ответил, упомянув Ленинград и какого-то Герхарда. Именно тогда Полина решила, что Саймон не всегда был всего лишь профессором.
Любовником он оказался торопливым, иногда эгоистичным, Полине казалось, что Саймон обычно пытается поскорее покончить со всей этой постельной канителью и перейти к действительно приятным делам: к вину, ужину, к разговорам. Но старая школа брала свое — он каждый раз собственноручно раздевал ее, ловко расправляясь с застежками, молниями и крючками, после подолгу занимался ее грудью. Грудь Полины действительно заслуживала внимания, тем более что, судя по фотографии, профессорше похвастать особо было нечем.
От антикварной лавки Саймон всегда гнал по Бродвею, раскручивался вокруг статуи Колумба, одиноко скучающей на колонне в центре тесной площади, потом ехал вдоль парка, сворачивал у Плазы на Пятую. Тем днем маршрут изменился — профессор неожиданно нырнул на первом светофоре направо, спустился к Гудзону и понесся по набережной на юг…
Сборник современной черногорской литературы: Cретен Асанович
О черногорской литературе современному российскому читателю ничего неизвестно. Где-то там жил Милорад Павич, и у него есть много рассказов о Черногории, но он серб. Где-то там жил Иво Андрич, и он нобелевский лауреат, но хорват, и вообще сам черт ногу сломит в этой балканской чересполосице. Читатели «Прочтения» имеют возможность первыми познакомиться с материалами сборника современной черногорской литературы, выпуск которого инициирован европейским культурным центром Dukley Art Community. В течение нескольких недель мы будем печатать стихи и рассказы, сочиненные в очень красивой стране «в углу Адриатики дикой».
Встреча в Берлине
После приземления от Шенефельда до самого центра его встречали бетонные заборы и преграды, бесконечные стены расколотого города. Причиной его приезда в Берлин было участие в работе комиссии по приему фильма о которских моряках совместного черногорско-восточногерманского производства. Режиссером был Конрад Вольф, вниманию которого он должен был быть благодарен, причем не только за короткое пребывание в Пруссии, но и прежде всего за необыкновенную встречу, о которой сейчас пойдет речь. В самом начале показа, в особом очень комфортабельном зале с двумя десятками удобных кресел и приглушенным светом, режиссер вполголоса и с очевидной гордостью и теплотой представил ему своего, как он сам выразился, великого брата. Высокий стройный мужчина, крепкий, ухоженный, сердечно поздоровался с ним, не представляясь; не назвал имени брата и Конрад. Когда в зале зажегся свет и смолк шум кинопроектора, братья сидели голова к голове, улыбаясь и, несомненно, обмениваясь впечатлениями, а уже в следующий момент режиссер, слегка склонив голову в сторону, повернулся к комиссии, готовый услышать мнения о своем фильме. Создавалось впечатление, что для него, тем не менее, самым важным было мнение его брата, но, разумеется, как человек воспитанный, он проявил уважение и к вежливым похвалам других. Выходя из зала, режиссер ненавязчиво оттеснил его в сторону, соединив таким образом со своим братом, который на великолепном русском языке пригласил их выпить по рюмке и потом разделить с ним легкий ужин. В приятном кабинете ресторана «Интеротеля» они говорили о фильме, о драме, которую на эту же тему в двадцатые годы написал их отец Фридрих… Все это в сущности были, как говорят жители Цетинье, «верхние слова» для ни к чему не обязывающего банального разговора. Брат режиссера тем временем предложил, что он сам выберет, что заказать. На вырвавшиеся у гостя слова, что можно для начала пиво, раз уж они здесь, хозяин ужаснулся и ответил, что так можно было бы начать в какой-нибудь мюнхенской пивной, но сейчас мы находимся в его Берлине. Трудно было противиться надменной уверенности, которую излучал его сегодняшний хозяин и собеседник. Старший брат, режиссер, посоветовал ему, сопроводив слова и доверительным прикосновением к его плечу, полностью довериться младшему: де, тот хочет отметить сегодняшнее событие в своем стиле. Итак, хозяин ужина предложил обойтись без аперитива и начать и закончить белым вином, причем всего одним. Рейнские и мозельские вина он проигнорировал — как берлинец. Мог предложить словацкий рислинг с песчаников, тянущихся вдоль венгерской границы, или что-нибудь из стандартных грузинских вин — цинандали или гурджаани… Но он не хочет утомлять их лишней историей — раз уж они сегодня отмечают сдачу фильма о событиях, которые происходили в Которе и Боке, он позаботился о том, чтобы подали средиземноморское вино самого близкого соседства — мараштину с острова Корчула, из местечка Смоквица. Одобрив выбор необыкновенного хозяина, они приступили к ужину, обильно заливая его вином, к ужину, к которому постоянно подавались горячие тосты и цветочки покрытого росой сливочного масла и который состоял из серой иранской икры на льду и крупной холодной форели в густом йогурте. Брат-хозяин — Марк, как наконец назвал его Конрад — объяснил им, что это его собственный, несколько модифицированный рецепт приготовления рыбы из Полабье и что лучшая форель для этого водится в верховьях Нисы, в Судетах, посоленная и быстро зажаренная в большом количестве кипящего растительного масла, на сильном огне, политая потом яблочным уксусом, присыпанная мелко нарезанным чесноком и полностью покрытая йогуртом. Разумеется, гостю и в голову не пришло сказать, что существует точно такое же дуклянское блюдо — форель в простокваше, и что в Полабье, похоже, в свое время жили далекие предки черногорцев, которые, возможно, запомнили и перенесли с собой этот рецепт в Черногорию, хотя не исключено, что и к тем, и к другим он попал с Востока. Ужин прошел в прекрасной обстановке, но, несмотря на большие количества мараштины, не было никаких кое-где принятых пьяных объятий и рыданий на дружеском плече. Но когда им стало особенно хорошо, высокий человек встал. Расставшись с ним, Конрад и гость отправились выпить коньяка в Зилле-Штубе, где играли отрывки из Бертольда Брехта, Курта Вайля и номера из программы кабаре славного преднацистского времени, но с соцреалистической начинкой…
И лишь много позже он узнал, что его загадочным собеседником и гостеприимным хозяином был Маркус Вольф, всемогущий глава и мозг самой преуспевающей службы безопасности из всех когда-либо существовавших — суровой «Штази». Великий Маркус Вольф, после того как прошел через мучительные следствия, суды и заключения, написал и опубликовал собственную кулинарную книгу.
Перевод Ларисы Савельевой
Рисовала Милка Делибашич

Cретен Асанович (Sreten Asanović) родился в 1931 году в Дони Кокоты. Окончил учительскую школу, был главным и ответственным редактором журналов Susreti («Встречи»), Ovde («Здесь»), Stvaranje («Творчество»), президентом Союза писателей Черногории, председателем Союза писателей Югославии. Опубликовал множество книг. Рассказ «Встреча в Берлине» перевела на русский Лариса Савельева, благодаря которой русский читатель в свое время узнал творчество Милорада Павича.
Пройдет премьерный кинопоказ документального фильма «Галоша»
В честь Всемирного дня книги и авторского права в «Центре современного искусства С. Курёхина» 23 апреля пройдет премьерный кинопоказ документального фильма «Галоша» и состоится выступление петербургских участников Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».
Фильм «Галоша» (номинант XVI Шукшинского кинофестиваля, 2014) был снят в 2013 году во время проведения II Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Главный герой фильма — двенадцатилетний Ваня Кривоносов из небольшого села в Белгородской области — едет в Петербург, чтобы принять участие в финале конкурса юных чтецов. Как сложится для него поездка, станет ли она поворотным моментом его жизни? Кинокартина повествует об отношениях между поколениями, о проблемах взросления, о внутренней свободе, о книгах и чтении… В фильме звучат мнения Людмилы Улицкой, Андрея Битова и Александра Архангельского.
Петербург стал родиной конкурса «Живая классика» в 2011 году. Организаторам хотят продолжать традицию проведения конкурса юных чтецов в городе на Неве на высоком уровне.
Сегодня у всех желающих, кто придет в «Центр современного искусства С. Курёхина» в 16.00, будет возможность увидеть выступления лучших юных чтецов Санкт-Петербурга, отобранных в результате школьных и районных туров конкурса.
Как рассказала куратор по работе с регионами конкурса «Живая классика» Наталья Захарова, в соревнованиях принимают участие школьники 6-7 классов. Сначала они проходят отборочные этапы в своих городах и регионах, затем победителей определяют в финальном туре. В этом году финал конкурса пройдет с 18 по 28 мая в Крыму.
Первая церемония вручения премии «Живая книга» прошла в Петербурге
В год пятнадцатилетия «Буквоед» учредил первую в своей истории литературную премию. На вручении не обошлось без сюрпризов.
Несмотря на то, что все члены жюри отметили неоднородность состава номинируемых книг, в число которых вошли и реалистические романы, и документальная проза, и фантастика, к консенсусу прийти все же удалось. Валерий Попов «предпочел полочку реализма», Александр Етоев отметил, что было много искушений, а Илья Бояшов назвал книги серии «Литературная матрица» «мощной артиллерией» и объяснил, что «одиночникам» сложно сражаться с подобным сборником.
В результате генеральный директор сети «Буквоед» Денис Котов пообещал ввести разные номинации, а также проанализировать результаты премии этого года и ее результативность и в следующем году сделать премию еще лучше. Результаты «нулевого» сезона премии «Живая книга» выглядят следующим образом:
3 место — проект Вадима Левенталя «Литературная матрица»;
2 место — роман Ксении Букши «Завод „Свобода“»;
1 место — сборник рассказов Жанар Кусаиновой «Мой папа курит только „Беломор“»
Автор книги-победителя получает новые возможности реализации в сети «Буквоед»: специальную выкладку, трансляцию ролика о книге и размещение информации в ежемесячном буклете. Стоит надеяться, что имя Жанар Кусаиновой мы услышим еще не раз благодаря не только маркетингу торговой сети, но и ее творческой деятельности: ведь кроме книг Кусаинова пишет еще и сценарии.
В Москве наградят лауреата премии Александра Солженицына
Сегодня в Доме Русского зарубежья состоится церемония вручения премии Александра Солженицына. В 2015 году эта престижная награда досталась режиссеру Сергею Женовачу.
По решению жюри, состоящего из шести известных деятелей культуры, премией отмечен театральный режиссер, лауреат «Золотой Маски» Сергей Женовач — «за преданное служение русскому театру и вдохновенный перевод на язык сцены сокровищ мировой литературной классики; за воспитание зрителей в духе требовательной любви к Театру и Книге».
Сергей Женовач — автор многочисленных спектаклей, поставленных по произведениям русских и зарубежных писателей, от Шекспира до Венедикта Ерофеева. Его сценическое прочтение Гоголя, Достоевского, Тургенева, Чехова и других классиков — попытка заново открыть всем известные произведения, осмыслить их жанр и художественные особенности. Театральная трилогия по роману «Идиот» — пример пристального внимания к литературе, которое отличает работы мастера. Как и его учитель Петр Фоменко, Женовач не боится погружать зрителя в мир слова. Благодаря этому он стал первым театральным режиссером, получившим премию Александра Солженицына. До него этой наградой был отмечен лишь Владимир Бортко за экранизацию того же романа Достоевского.
Салли Гарднер. Червивая Луна
- Салли Гарднер. Червивая Луна / Пер. с англ. Ю. Мачкасова. — М.: Livebook, 2015. — 288 с.
Антиутопия Салли Гарднер «Червивая луна» получила несколько литературных премий, в том числе главную британскую награду — Медаль Карнеги. Эта история о мальчике с разноцветными глазами, который живет в мире, где подчинение — высшее из достоинств, глупость — условие выживания, а человек может в любой момент исчезнуть, оставив после себя дыру. Но если хочешь однажды проснуться свободным — неважно, что ты в меньшинстве, важно отличать правду ото лжи. Наперекор всему.
ОДИН
Интересно, что было бы, если бы.
Если бы мяч не улетел за стену.
Если бы Гектор не пошел его искать.
Если бы он не утаил страшную тайну.
Если бы.
Тогда, наверное, я рассказывал бы сам себе совсем другую историю. Потому что «если бы» — они, как звезды, никогда не кончаются.
ДВА
Мисс Конноли, наша бывшая учительница, всегда велела начинать историю с начала. Чтобы было как чистое окно, сквозь которое все хорошо видно. Хотя я так думаю, что она не это имела в виду. Никто, включая даже мисс Конноли, не посмеет сказать, что нам видно через заляпанное стекло. Лучше не выглядывать. А уж записывать это на бумагу… я не такой дурак.
Даже если бы я мог, все равно не смог бы.
Потому что я не знаю, как пишется мое имя.
Стандиш Тредвел.
Писать — затык, читать — молчок,
Стандиш Тредвел — дурачок.Мисс Конноли одна-единственная из учителей говорила, что Стандиш стал для нее особенным, потому что он не такой, как все. Когда я рассказал об этом Гектору, он улыбнулся.
И сказал, что лично он это просек в момент.
— Есть такие, которые думают по накатанному, а есть — как ты, Стандиш, — ветерок в саду воображения.
Я это повторил про себя. «А есть Стандиш, у него воображение веет, как ветерок в саду, не замечает даже скамеек, видит только, что собаки не насрали там, где собаки обычно срут».
ТРИ
Я не следил за уроком, когда пришла записка от директора. Потому что мы с Гектором были в городе за морями, в другой стране, где здания растут и растут, и прикалывают облака к небесам. Где солнце как в цветном кино. Мир под радугой. Пусть говорят, что хотят, — я его видел, по телевизору. Там поют на улице. Там поют даже под дождем, поют и танцуют вокруг фонарного столба.
Тут у нас темные времена. Никто не поет.
Но зато мечталось мне в тот день лучше, чем за все время с тех пор, как исчез Гектор с семьей. По большей части я старался о нем не думать. Вместо этого я изо всех сил воображал себя на нашей планете. На той, которую выдумали мы с Гектором. На Фенере. Все разумнее, чем без конца дергаться, что с ним случилось. Так вот, у меня получилось замечтаться лучше, чем за все это время. Как будто Гектор снова был рядом. Мы катались в таком огромном кремовом «кадиллаке». Я даже чувствовал запах кожаной обивки. Ярко-синей, синей, как небо, синей, как могут быть только кожаные сиденья. Гектор сзади. У меня одна рука опирается на хромированный край открытого окна, другая на руле. Мы едем домой, а там — «Крока-кола» на чистенькой кухне, за столом с клетчатой скатертью, а трава в саду такая, будто ее только что пропылесосили.
И вот тут-то я понял, что мистер Ганнел произносит мое имя.
— Стандиш Тредвел. Срочно явиться в кабинет директора.
Трепать-колотить! Вот это я прозевал. Трость мистера Ганнела выбила у меня слезы из глаз, резкий удар оставил на моей руке его личную подпись. Две узких красных полосы. Роста мистер Ганнел был небольшого, но мышцы у него были стальные, как у старого танка, и руки будто танковые, хорошо смазанные. Парик на его голове жил своей жизнью, изо всех сил цепляясь за блестящую потную лысину. Да и остальные черты лица тоже его не красили. Усики у него были маленькие и темные, как грязная сопля от носа до рта. Улыбался он только тогда, когда махал тростью; улыбочка эта скручивала уголки его рта, и тогда дохлой пиявкой вылезал язык. На самом деле я не уверен даже, что это можно было назвать улыбкой. Может, его просто так крючило, когда он отдавался любимому занятию — причинению боли. Ему было все равно, куда бить, лишь бы по живому, лишь бы достать.
Потому что поют только за морями.
Здесь небо давно обвалилось.ЧЕТЫРЕ
Но что меня больше всего задело, так это то, что я, похоже, совсем не присутствовал в классе. Не видел даже, как мистер Ганнел шел ко мне, а ведь между его столом и моей партой целая взлетная полоса. Ну, я сижу сзади, от меня до доски — как до другой страны. Слова прыгают, будто лошади в цирке. Во всяком случае, мне никогда не удавалось их остановить и разобраться, о чем они.
Единственное слово, которое я мог прочесть, — это то большое, красное, выбитое над картиной, изображавшей Луну. Такое слово, что сразу в рожу с размаху.
РОДИНА.
Я ведь дурачок, в разлинованную бумагу помещаться не умею и обитаю на задах класса так давно, что стал уже почти невидимым. Меня можно отличить от стенки, только когда у мистера Ганнела чешутся его танковые руки.
Тогда мир наливается красным.
ПЯТЬ
Никуда не денешься. Я разленился. Я так привык полагаться, что Гектор предупредит меня в случае надвигающейся опасности. А мечтания заставили забыть, что Гектор исчез. Что я теперь сам по себе.
Мистер Ганнел схватил и резко выкрутил мое ухо, так резко, что у меня опять слезы на глаза навернулись. Но я не заплакал. Я никогда не плачу. Какой смысл? Дед говорит, что если начать плакать, то уже не остановишься — столько есть разных причин для слез.
Думаю, он прав. К чему эта соленая водичка, эти грязные лужицы. Слезы, они заливают с головой, встают комом в горле. От них хочется кричать, от слез. Но по правде, было непросто, с выкрученным-то ухом. Я изо всех сил старался остаться на Фенере, на планете, про которую знали только мы с Гектором. Мы собирались добраться до нее вдвоем, и тогда все поняли бы, что мы не одиноки во Вселенной. Мы вступили бы в контакт с фенерианцами, а они отличают добро от зла и разнесут и Навозников, и кожаные пальто, и мистера Ганнела до самой жопы мира.
Луну мы решили облететь стороной. Зачем туда стремиться, когда Родина и так вот-вот установит свой красно-черный флаг на ее нетронутой серебристой поверхности?
Премия «Ясная Поляна» наградит зарубежного писателя
Новая номинация призвана выбрать самую значимую иностранную книгу XXI века и отметить ее перевод на русский язык.
Вошедшие в лонг-лист произведения писателей из 12 стран расширили границы премии и вывели ее на уровень международной. Экспертами в этой номинации стали переводчики, издатели иностранной литературы, журналисты и литературные критики. «Это необыкновенное событие — первый раз в истории российских премий иностранный автор получит награду. Такая традиция есть в других странах, но до этого дня в российском литературном поле такого явления не было», — отметил литературный критик, радио- и телеведущий Николай Александров.
Короткий список из тридцати трех номинированных произведений составлен не будет. Лауреата объявят в конце октября, и обязательным условием премии является присутствие победителя на церемонии награждения. В числе финалистов Элеанор Каттон, Умберто Эко, Матей Вишнек, Донна Тартт, Джонатан Франзен, Джонатан Сафран Фоер, Джонатан Литтелл и другие именитые литераторы.
«Сейчас особенно важно почувствовать, чем живут герои иностранной литературы, — резюмировал председатель жюри премии Владимир Ильич Толстой. — Важно для осознании себя и даже для понимания политического момента».
Пулитцеровская премия досталась Энтони Дорру
Бестселлер «Весь невидимый нам свет» был оценен не только читательской аудиторией, но и профессиональными литераторами.
Десять тысяч долларов — такова награда Пулитцеровской премии, которую в этом году получил американский писатель Энтони Дорр. Как следует из официального документа о присуждении премии, жюри посчитало «Весь невидимый нам свет» «образным и сложным романом, вдохновленным ужасами Второй мировой войны и написанным в коротких, элегантных главах, которые исследуют человеческую природу и противоречивую мощь современных технологий».
Как и в случае с пулитцеровским лауреатом прошлого года Донной Тартт, удостоенной награды за роман «Щегол», в этом сезоне коллегия премии в области литературы вновь наградила произведение, получившее отклик у читателей по всему миру.
Давид Фонкинос. В случае счастья
- Давид Фонкинос. В случае счастья / Пер. с франц. И. Стаф. — М.: АСТ: Corpus, 2015. — 224 с.
Давид Фонкинос, лауреат Гонкуровской премии лицеистов, входит в пятерку самых читаемых писателей Франции. Как большинство романов автора, «В случае счастья» — это тонкая, виртуозно написанная история любви. Клер и Жан-Жак женаты восемь лет. Привычка притупила эмоции, у обоих копятся претензии друг к другу. И оба — разными путями — пускаются на поиски счастья. Ироничная фантазия автора ставит их в непредсказуемые ситуации, за которыми витает вопрос, созданы ли современные Адам и Ева для вечной любви.
IV
Родители Жан-Жака погибли в автокатастрофе. Внезапный удар надолго отбросил его в неприкаянность. Вполне естественно, что он надеялся обрести новую
семью в лице родителей Клер; больше
того, Ален и Рене (их звали Ален и Рене), наверное, могли бы вновь пробудить в нем сыновние чувства. Можно понять, насколько ему поначалу хотелось
их любить. Но — вечная история — стоит нам поселить в себе хотя бы слабую надежду, как ее тут же выселяют. Встретившись с будущими родственниками,
Жан-Жак через три минуты понял, что они станут
лишь нелепым источником головной боли. Которую
придется терпеть каждый воскресный день в порядке
ритуала, столь же незыблемого, как явление женской
красоты в первых рассветных лучах. Очень скоро
Жан-Жак попытался уклониться от обедов в Марн-ла
Кокетт, но Клер умолила его съездить вот только в это
воскресенье, а потом в следующее, а потом и в каждое. Ему ничего не оставалось, как поддаться на шантаж жены, которая, в свой черед, поддавалась на шантаж родителей. В те три раза за восемь лет, когда они
не смогли приехать, им пришлось писать объяснительные записки. Теперь, когда Жан-Жак прибегал к услугам агентства алиби, он хотел было заговорить об этом
с Клер, но сразу осекся. Чересчур опасно; у человека
не может быть слишком много разных алиби на одной
неделе, иначе он окончательно запутается.По воскресеньям они выслушивали одни и те же старческие монологи. Минуты еле тащились, как процессия по жаре. Клер неизменно улыбалась и сияла благополучием. Мать неизменно старалась испортить ей настроение:
— Я вижу, у тебя новое платье.
— Да, недавно купила.
И все. Рене ничего не комментировала вслух,
подвешивая в молчании неизменно отрицательную
оценку. Во всяком случае, Клер не могла понять ее
иначе. Ее отношения с матерью всегда были плохими,
но никогда не выплескивались в ссору. Этот подспудный конфликт был буржуазно-благопристойным. Рене
была великой мастерицей недомолвок и никогда не радовалась счастью дочери. Один только раз она одобрительно заметила, что та прекрасно выглядит и вся светится; Клер тогда была беременна.Но выше всего в иерархии колкостей Рене ставила
свое истинное хобби — изводить мужа. То была одна
из опор ее незадавшейся жизни, припев для пения
под дождем. Клер пропускала это вечное ворчание
мимо ушей. Рене бесило непрошибаемое занудство
мужа. Хирург на пенсии, он во всем требовал точности и только и делал, что следил, правильно ли сложены салфетки и посолены блюда. То есть был чем-то
вроде домашнего инспектора. Во времена своей профессиональной славы, когда все преклонялись перед его талантом, он одним из первых среди хирургов застраховал свои руки. В 70-х об этом даже писали
в газетах. Его руки стоили несколько тысяч франков
в день. А значит, их любой ценой надо было беречь.
Рене обнаружила, что расплачиваться за ценные руки
супруга приходится ей — когда нужно что-то сделать
по дому. А главное, он продолжал их беречь и теперь,
без всякой пользы, потому что давно уже не оперировал. Говорил, что если вдруг война, он может пригодиться на фронте. И из-за этой потенциальной войны
никогда не мыл посуду. Экс-хирург непрерывным пафосным потоком разливался о своих сказочных операциях. Нередко всем прямо посреди обеда выпадало
счастье узнать, что у месье Дюбуа были тромбы в артериях, а у мадам Дюфоссе — скопление желтой жидкости в плевральной полости. Чтобы подавить рвотные
позывы, Жан-Жак старался думать о чем-нибудь другом; он вполне успешно осуществлял эту умственную
операцию и сидел с хитрой улыбкой человека, притворяющегося, будто слушает.Спорить с Аленом было невозможно. На десерт он
обычно пил сливовицу такой убойной силы, что ею
можно было растопить сибирские снега. Жан-Жак
ни разу не осмелился признаться, что ненавидит сливовицу, из вежливости выжигал себе желудок и смаковал погибель собственных внутренностей. Как можно
отказать человеку, который громогласно заявляет: «Ну
что, Жан-Жак, по стопочке сливовицы? Вы же любите,
я знаю!»И он соглашался; соглашался уже восемь лет. Конечно, методика незаметного плевка была им отработана в совершенстве. Лучший способ заключался в том,
чтобы вежливо сходить откашляться: аллергия на цветочную пыльцу. А вернувшись, поскорей произнести
какую-нибудь несуразную фразу — перевести разговор. Однажды Жан-Жак опробовал такую:— По-моему, голосовать за зеленых совершенно бессмысленно!
Фраза оказалась настолько действенной, что впоследствии он прибегал к ней еще не раз.
Но в то воскресенье Жан-Жак пребывал в отменном
настроении и даже готов был попытаться оценить
сливовицу. Все казалось ему упоительным. Первые
встряски счастья погрузили его в веселую истерию
рождающейся любви. В ту истерию, что напрочь отбивает способность вести себя пристойно. Он был
взвинчен, говорил без умолку, высказывался обо всем
и особенно ни о чем и нес совершеннейшую околесицу. За столом источник его счастья находиться
не мог: Жан-Жак ненавидел воскресные обеды у тестя
с тещей. Жену его жалкий восторг покоробил; тяжеловесные попытки быть скрытным сменились у него
безотчетным развязным чудачеством.Доказательством тому стало седло барашка.
Ибо в число этих воскресных обеденных ритуалов входило и седло барашка. Чем старше мы становимся, тем важнее в нашей жизни привычные опоры; часть первая
перемены в меню были решительно невозможны.
В крайнем случае белая фасоль в гарнире менялась
на красную. Все в мире относительно, бывают и такие
способы разнообразить жизнь. Обычно жаркое разрезала Рене. Но Жан-Жак, благоухая чувственным счастьем, ринулся к ножам и заявил, что сегодня барашком
займется он. Его прекрасное настроение стремительно
приближалось к той грани, за которой оно начинает
действовать другим на нервы. Луиза глядела на отца
с любопытством. Родители Клер тоже смотрели на зятя,
который два часа валял дурака, а теперь, в качестве вишенки на торте, собрался резать седло барашка. Ален
не решился возражать, тем более что зять, знавший его
вкусы как свои пять пальцев, любезно его успокоил:— Вам понравится этот кусочек с кровью, я же знаю…
И Ален, с полной тарелкой, но не в своей тарелке,
едва посмел осуществить свое неотъемлемое право налить всем красного вина. В итоге все улыбались; все,
кроме Клер. Для нее весь этот маскарад вдобавок к маскараду ее отношений с родителями был уже лишним.
Она вполне могла примириться с тем, что муж завел
любовницу; созерцать его экстаз оказалось куда тяжелее. Чем больше она смотрела, как муж с блаженной
улыбкой режет седло барашка, тем яснее представляла
себе, как он блаженствует, оседлав другую женщину.