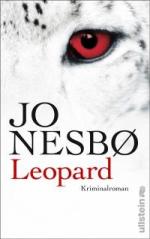- Издательство «Эксмо», 2012 г.
- Всемирную славу «ювелиру Его Императорского Величества и ювелиру Императорского Эрмитажа» гениальному Карлу Фаберже принесли уникальные ювелирные изделия — пасхальные яйца, созданные мастером по велению российских императоров Александра III и Николая II. Предназначенные в дар царицам, украшенные драгоценными камнями, благородными металлами и тончайшей эмалью, яйца Фаберже и по сей день считаются эталоном ювелирного искусства. Каждое яйцо неповторимо и несет на себе отпечаток величия и роскоши императорского дома Романовых. В XX веке во времена сильных потрясений шедевры работы Фаберже распродавались за бесценок. И долгое время представляли интерес только для опытных коллекционеров. В наши дни капризная мода сделала виток, и вновь клеймо фирмы «Фаберже» стало синонимом безусловной роскоши и богатства. Сегодня некоторые из яиц Фаберже выставляются в ведущих художественных музеях, другие спрятаны в частных коллекциях «сильных мира сего», местонахождение восьми яиц — неизвестно.
«Если предмет пропал не больше ста лет назад, его историю можно проследить от начала до конца, и он найдется. Революции, войны, смены режимов — все это чепуха. Начало двадцатого века — это вам не Средневековье, все ходы уже записывались, каждое действие оставляло бумажный след» — так рассуждает герой нового приключенческого романа Леонида Бершидского, молодой российский миллиардер Винник. Задавшись азартной целью, во что бы то ни стало найти пропавшие шедевры, Винник обращается к владельцу детективной службы по розыску произведений искусства Ивану Штарку, уже известному читателям по предыдущим книгам Леонида Бершидского. Условия контракта более чем привлекательны для Ивана и его партнера Молинари. Баснословный гонорар, неограниченные возможности, а также, что немаловажно, азарт решения сложнейшей задачи. Друзья взялись за дело, не подозревая, что пропавшие яйца Фаберже — слишком лакомый кусок, чтобы достаться даром. Когда в игру вступила третья сила, над охотниками за сокровищами нависла смертельная угроза.
В книгах Леонида Бершидского есть место и любопытным историческим фактам, и настоящим приключениям, загадкам и интригам. В его изложении история пропавшей части коллекции Фаберже держит в напряжении до самой развязки, неожиданной как для читателей, так и для героев романа.
- Купить электронную книгу на Литресе
Москва, 2013 год
С сорок пятого этажа стеклянной башни в «Москва-«Сити» открывался совершенно московский, грязновато-праздничный вид на стройку, помойку, нарядный автотрафик, рубероидные крыши и золотые купола. Хоть это было и не вполне по протоколу, Иван Штарк встал со стула и подошел к окну, которое в этой переговорной заменяло стену: когда еще доведется посмотреть на город с такой вполне птичьей высоты?
— Нравится? — спросил Ивана хозяин сорок пятого этажа. Он и сам поднялся и встал рядом; догловязый Штарк, привыкший на большинство людей смотреть немного сверху вниз, убедился, что Александр Иосифович Винник почти одного с ним роста, а в плечах заметно пошире.
— Я люблю Москву, — сказал Штарк. — Только, по-моему, она не предназначена для того, чтобы смотреть на нее с такой высоты.
— Большая деревня и все такое, да? Ты москвич?
Как пенопластом по стеклу были Штарку эти внезапные переходы русских богачей на «ты». Но злиться на них не было смысла: что ж, значит, и он будет к Виннику так обращаться.
— Теперь — да. А родом из Шадринска.
— С Урала, значит… А я из Петербурга. В Москве совсем не осталось местных. Так что это мы с тобой решаем, для чего она предназначена.
Третий участник переговоров видом из окна не интересовался — сидел угрюмо и ждал, когда Штарк с Винником наговорятся на не понятном для него русском. Том Молинари жил в Нью-Йорке, и высокими зданиями его было не удивить.
Иван приложил немало усилий, чтобы их с партнером не слишком успешная фирма по поиску утраченных произведений искусства обзавелась русской клиентурой. Он напрасно потревожил пару десятков своих знакомых по прежней, банковской жизни, — теперь им некоторое время лучше не звонить, по крайней мере с просьбами. И вот, наконец, клиент, да какой! Винник — самый успешный в городе управляющий активами; к нему несут свои деньги олигархи и большие пенсионные фонды, потому что он умеет выжимать доход из любого, даже падающего рынка. Винник, светский лев, покровитель искусств, устроитель — нет, не вечеринок, настоящих пышных балов; человек, без чьей фотографии не обходится ни один номер GQ, самый завидный холостяк столицы с тех пор, как на Михаила Прохорова перестали обращать внимание даже провинциальные малолетки.
Ради встречи с ним Штарк заставил Молинари во второй раз получить российскую визу, как тот ни отбрыкивался. Первая виза американцу не понадобилась: он собирался лететь в Москву выручать попавшую в неприятную историю красавицу Анечку Ли, но она сама добралась до Нью-Йорка. Тогда Штарк с Молинари искали старинную кремонскую скрипку, в первый раз исчезнувшую в Петербурге в 1869 году, а в
— Почему ты не можешь встретиться со своим Винником один? — спрашивал Молинари Ивана. — Он даже не сказал пока, что за работу хочет нам предложить. Наверняка это какая-нибудь очередная русская афера вроде той истории с Рембрандтом. Не доверяю я вашим этим олигархам, или как они теперь называются. Я таких обычно помогаю ловить, а не работаю на них.
Именно «история с Рембрандтом» — неожиданная развязка давнишнего похищения драгоценных картин из Бостонского музея — в свое время свела Штарка с Молинари. Она вообще оказалась поворотной точкой в жизни Ивана, до той поры тихого банковского служащего, помогавшего клиентам вкладывать деньги в искусство. Теперь Штарк ничего не имел против «очередной русской аферы»: его больше не пугали приключения. Кроме того, у него два месяца назад родилась дочь. И хотя Иван чувствовал прилив счастья всякий раз, когда брал ее на руки, он, как всякий свежеиспеченный отец, не вполне осознанно нуждался в отпуске по уходу от семьи. Так что он отвечал Молинари:
— Если ты ждешь, что я впутаю тебя в албанскую или, скажем, эфиопскую аферу, ждать тебе придется очень долго. Приглашение я выслал, так что подними свою итальянскую задницу со стула и сходи в консульство.
Последнее слово произнесла, к счастью для Штарка, Анечка Ли.
— Я бы хотела съездить в Москву, повидаться с подругами, — задумчиво и без всякого нажима, как это было ей свойственно, сказала она Тому за ужином.
Наутро он подал документы на визу, но в Виннике и его заказе продолжал, как видно, сомневаться. Теперь, в кабинете финансиста на сорок пятом этаже стеклянной башни в «Москва-Сити», сыщик вел себя так, словно ему предлагали заняться слежкой за неверным мужем или поисками пропавшего вчера из дома сорванца-подростка.
— Мистер Винник, я прилетел издалека и хотел бы узнать, какое дело вы хотите предложить нам с Иваном, — сказал Молинари вроде бы вежливо, но все равно каким-то неприятным тоном.
Винник понимал по-английски, но говорил, видимо, плохо, поэтому в комнате их было четверо; переводчик, как хамелеон, сливался с фоном, именно так, видимо, представляя себе профессиональное достоинство синхрониста. Теперь он встрепенулся, готовый тотчас же передать слова Винника американцу с секундным отставанием. Но финансист некоторое время молча смотрел Молинари прямо в глаза. Том спокойно выдержал его взгляд.
— Видите ли, мистер Молинари, — начал Винник наконец. «С американцем-то говорит на „вы“, все-таки советский человек — не вытравишь это из нас», — подумал Штарк. — Видите ли, так совпало — только я успел навести о вас некоторые справки в Америке, как у вас обнаружился русский партнер и вышел на меня. Я считаю, такие совпадения нельзя игнорировать.
— Простите, а по какому поводу вы наводили справки? — поинтересовался Молинари. — Я работаю на страховые компании, помогаю вернуть пропавшие ценности, чтобы избежать выплат. У вас есть страховой бизнес?
— Да, но он здесь ни при чем. Мне нужна ваша — выходит, Иван, и твоя — помощь в одном частном предприятии. Связанном с яйцами.
Иван быстро перевел взгляд на переводчика, чтобы поймать на его лице неизбежное секундное смятение. «Яйца» можно было перевести двояко; но лингвист колебался недолго, прежде чем выбрать слово eggs.
— С яйцами Фаберже, — уточнил Винник, и переводчик еле заметно улыбнулся: угадал. — Вам никогда не приходилось с ними иметь дела?
Молинари покачал головой.
— Я слышал, что у семьи Форбс в Нью-Йорке была крупная коллекция этих яиц, но они продали ее русскому миллиардеру… не припомню фамилию, — сказал он.
— Виктору Вексельбергу, — кивнул Винник.
— Да, кажется. А остальные эти яйца, я слышал, все в музеях — в Америке и у вас в Кремле. Это такие… штуковины вроде пирожных из золота и камней, очень старомодного вида. Все, больше я ничего о них не знаю.
— Иван, можешь что-нибудь добавить к тому, что сказал твой партнер?
Штарк в свое время много работал с московскими коллекционерами, помогая им превратить свои собрания в выгодные инвестиции, но о Фаберже не знал почти ничего: поклонники царского ювелира ему раньше не встречались. «Экзамен, что ли, он нам устраивает?» — с раздражением подумал Иван. Но ответил Виннику вежливо и как мог обстоятельно: потерять заказчика еще до того, как станет ясна суть заказа, было бы глупо.
— Фаберже был придворный ювелир, кажется, швейцарец. Царь… не помню, который из них… стал заказывать ему пасхальные подарки для жены. Каждое следующее яйцо Фаберже делал затейливее предыдущего, и эти подарки стали традицией, которая прервалась только при большевиках. После семнадцатого года несколько десятков яиц попали вроде бы в Алмазный фонд, и оттуда их продавали за границу. Большевикам нужна была валюта. Арманд Хаммер — был такой американский бизнесмен, большой друг Ленина — купил несколько штук. Он потом перепродавал их Форбсам и еще кому-то. У Форбсов случились финансовые затруднения, и они продали яйца Вексельбергу. Сразу после ареста Ходорковского. Вексельберг же — совладелец ТНК, он хотел сделать какой-то красивый жест, чтобы… ну… немного отогнать демонов. И вот он купил яйца и выставил их в Кремле. Вместе с теми, которые большевики продать не успели.
— Большинство людей и этого не знает, — похвалил Штарка Винник. — Только Фаберже был никакой не швейцарец. По происхождению француз, а так — немец немцем. Ты ведь, Иван, тоже немецких кровей?
— Да.
— А твои предки в России чем занимались?
— Я никогда не пытался вникнуть в семейную историю, — сказал Штарк. — Моих недальних предков выслали в Курганскую область в начале войны.
Дальше расспрашивать Ивана Винник не стал.
— Густав Фаберже держал в Питере, на Большой Морской, маленькую мастерскую и магазинчик в подвале, — продолжил он свой рассказ. — Торговал всякой мелкой ювелиркой, оправами для очков. Ничего особенного собой не представлял. В какой-то момент Петербург ему надоел, и он переехал с семьей в Дрезден, а в Питер скоро прислал своего сына Карла. Тот понемногу выбрался из подвала, сделался купцом второй гильдии — нехило по тем временам, — но главное — стал бесплатно работать в Эрмитаже. Там была большая ювелирная коллекция, в ней что-то всегда требовало ремонта. Ну, и заодно было что утащить к себе в норку.
— В смысле, украсть? — без всякого удивления спросил Молинари, привыкший иметь дело с ворами.
— Ворует дурак, умный — смотрит и копирует, — ответил Винник. — Фаберже был умный человек, а в эрмитажной коллекции имелись отличные образцы старинных стилей. Он сделал коллекцию по мотивам скифских золотых украшений, и сама императрица Мария Федоровна купила у него запонки с цикадами. Фаберже попал в орбиту, ему стали поступать заказы от царя и великих князей. Александр III заказал ему первое яйцо для Марии Федоровны к пасхе 1885 года. Фаберже, кстати, делал эти яйца едва ли не себе в убыток. Понимал, когда имеет смысл задирать цену, а когда — работать на репутацию. Умнейший был человек. Уважаю.
— Давно ты увлекаешься Фаберже? — спросил Штарк. Познания Винника были явно обширнее средних.
— Пару месяцев. Поначалу-то я больше Форбсами интересовался. Я же в прошлом году попал в известный список. Сперва смеялся, а потом как-то прилипло ко мне. Кто такой Винник? Фигурант списка «Форбса». А дальше уж по цепочке пошло.
Штарк попытался вспомнить, на каком месте Винник в «Золотой сотне». Где-то в середине списка. Среди брылястых нефтяных и металлургических магнатов он должен заметно выделяться: выглядит моложе своих лет, разве что вьющиеся черные волосы отступили слишком далеко с высокого лба, но на скуластом лице — ни морщинки, крупный шнобель смотрится бодро и энергично, влажные карие глаза и иронично кривящиеся тонкие губы вполне могли бы принадлежать музыканту или шахматисту. Симпатичный миллиардер из тех, кому ничего не досталось при ельцинской раздаче, — да и так обошлись.
— Тебе вправду нравятся эти яйца? Ну, как произведения искусства? — спросил Штарк. Интересно, в самом ли деле Винник чужд московского пафоса или скоро он перестанет терпеть такое панибратское обращение?
— А какая у тебя проблема с яйцами?
— Ну, я припоминаю что-то из Набокова: мол, проходя мимо витрины Фаберже, мы смеялись над его купеческим вкусом. Много золота, камней, все блестит, как для сороки сделано.
— Дурак твой Набоков, — обиделся Винник. — Фаберже никогда ничего не выставлял в витрине. Надо было зайти к нему в магазин, чтобы тебе что-нибудь показали. И правильно, зачем дразнить народ? Он завистлив, народ-то… И, кстати, в конце концов все отобрал.
— То есть тебе нравится?
— Я, Ваня, не художник, и понтов в этой области у меня нет. Я, скорее, уважаю Карла нашего Густавовича как коллегу по бизнесу. И перфекциониста… В общем, я тоже решил прикупить яичек. И выяснил, что Фаберже сделал их пятьдесят две штуки, и восемь из них утрачены, то есть неизвестно где находятся. Вот, смотрите. — Он подвинул к Штарку и Молинари два листка бумаги. На своем Иван прочел:
«1886 — «Курочка с сапфировым панданом»
1888 — «Херувим и колесница»
1889 — «Несессер»
1896 — «Портреты Александра III»
1897 — «Розово-лиловое с тремя миниатюрами»
1902 — «Нефритовое»
1903 — «Датский юбилей»
1909 — «Памятное Александра III».
У Молинари был такой же список, только на английском. Пробежав его глазами, сыщик покачал головой.
— Если их не нашли за последние сто лет, шансов, что они вдруг всплывут, почти нет, — сказал он. — В моей профессии такие чудеса случаются крайне редко, а по заказу — практически никогда.
— Я уверен в обратном, — спокойно ответил Винник. — И сейчас вы увидите, почему.
Он поднялся и поманил партнеров за собой. В кабинет финансиста из переговорной вела боковая дверь. И как только Винник распахнул ее, Штарк увидел на внушительном, покрытом черной кожей столе маленькую скульптурную группу: веселый серебряный ангелочек, впряженный в двухколесную повозку, груженную золотым яйцом. Яичко сверкало многочисленными каменьями.
— В списке, который я вам дал, это вторая строчка, — сказал Винник. — «Херувим и колесница», 1888 год.