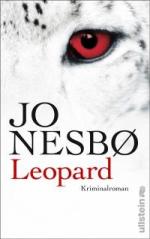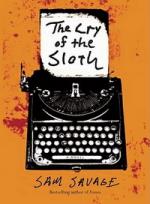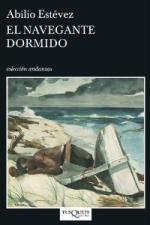- Издательство «Иностранка», 2012 г.
- «Тараканы» — второе дело в яркой и скандальной карьере обаятельного сыщика-одиночки Харри Холе, но своей запутанностью и изощренностью оно ничуть не уступает его более поздним достижениям.
Посол Норвегии найден убитым в бангкокском борделе. В Осло спешат замять скандал и командируют в Таиланд инспектора полиции Харри Холе: ему предстоит провести расследование как можно более конфиденциально. Оказавшись в злачных местах Бангкока, среди опиумных домов и стрип-баров, Харри постепенно обнаруживает, что в деле с убийством далеко не все так очевидно, как казалось вначале. Тараканы шуршат за плинтусами. Кто-то притаился во тьме, и этот кто-то не выносит дневного света. - Перевод с норвежского Т. Чесноковой
Загорается зеленый свет, и рев машин, мотоциклов
и туктуков — трехколесных мопедов-такси —
нарастает, так что Дим слышит, как дребезжат
стекла универмага «Робертсон». Ее машина тоже
трогается с места, и витрина с длинным красным
шелковым платьем остается далеко позади, растворяясь
в вечерних сумерках.
Она взяла такси. Ехала не в каком-то там битком
набитом автобусе, не в проржавевшем туктуке,
а на настоящем такси, с кондиционером, и за рулем
сидел немногословный шофер. Она с наслаждением
опустила голову на подголовник. Никаких
проблем. Мимо пронесся мопед, девчушка на заднем
сиденье вцепилась в парня в красной футболке
и шлеме с забралом: ее пустой взгляд скользнул
по такси. Держись крепче, подумала Дим.
На улице Рамы IV шофер оказался в хвосте
у грузовика, тот дымил прямо на них, да так, что
из-за черного густого выхлопа не удавалось разглядеть
номер. Благодаря кондиционеру запах
быстро выветрился. Правда, не до конца. Она
слегка помахала рукой перед носом, демонстрируя
свое отвращение, и шофер, посмотрев в зеркальце,
рванул вперед. Никаких проблем.
Так было не всегда. Она выросла в семье,
где было шесть девочек. Слишком много, считал отец. Ей едва исполнилось семь лет, когда они
стояли на проезжей дороге, кашляя от желтой
пыли, и махали вслед повозке, подпрыгивающей
вдоль коричневого канала и увозящей их старшую
сестру. Ей дали с собой чистое белье, билет
на поезд до Бангкока и адрес в Патпонге, записанный
на обороте визитной карточки, и она, уезжая,
плакала в три ручья, а Дим махала ей вслед
так отчаянно, что чуть рука не отвалилась. Мать
погладила младшую по головке, сказав, что все
непросто, но, с другой стороны, не так уж и плохо.
Во всяком случае, их сестре не придется стать
квай и ходить по дворам, пока не выйдут замуж,
по примеру матери. К тому же мисс Вонг обещала
позаботиться о девочке. Отец кивнул, и, сплюнув
бетель сквозь почерневшие зубы, добавил, что
фаранги в барах хорошо платят за новеньких.
Дим не поняла, кто такие квай, но спрашивать
не стала. Конечно же она знала, что это слово обозначает
быка. Как и многие другие в этих местах,
они не имели средств, чтобы завести себе быка,
так что брали животное лишь на время, чтобы
вспахать поле для риса. Позднее она узнает, что
девушка, которая ходит с быком по дворам, тоже
называется квай и что ее услуги тоже продаются.
Таков обычай: может, ей повезет и она встретит
крестьянина, который захочет оставить ее у себя,
пока она еще не старая.
Однажды, когда Дим исполнилось пятнадцать,
отец окликнул ее, приближаясь к дочке по рисовому
полю: в руках он держал шапку, и солнце светило
ему в спину. Она ответила не сразу и, разогнувшись,
посмотрела на зеленые холмы вокруг
их крохотного дворика, а потом, закрыв глаза, прислушалась к пению птицы-трубача в кронах
деревьев и вдохнула аромат эвкалипта и гевеи. Она
знала, что пришел ее черед.
В первый год они жили в одной комнате вчетвером:
четыре девочки делили друг с другом все —
постель, еду и одежду. Важнее всего было последнее,
поскольку без красивого наряда невозможно
заполучить хороших клиентов. Она научилась
танцевать, улыбаться, умела теперь различать,
кто хочет просто выпить с ней, а кто — переспать.
Отец договорился с мисс Вонг, что деньги будут
посылаться домой, поэтому первые годы она прозябала
в нужде, но мисс Вонг была ею довольна
и постепенно стала оставлять ей больше.
У мисс Вонг имелись причины быть довольной,
ведь Дим вкалывала как проклятая и ее клиенты
охотно покупали выпивку. И мисс Вонг была бы
рада и дальше оставить ее у себя. Однажды какойто
японец даже вознамерился жениться на Дим,
но отступил, когда она попросила купить ей
билет на самолет. Еще один, американец, брал ее
с собой в Пхукет, потом оплатил обратную поездку
и купил ей кольцо с бриллиантом. Кольцо она заложила
в ломбард на следующий день после отъезда
американца.
Некоторые платили мало и посылали ее ко всем
чертям, если она пыталась возражать; другие ябедничали
мисс Вонг, когда Дим не соглашалась выделывать
все, что они ей велели. Они не понимали,
что мисс Вонг уже получила свое из тех денег,
что они заплатили в баре за услуги Дим, и теперь
девушка сама себе хозяйка. Хозяйка. Она вспомнила
о красном платье в витрине магазина. Мать
говорила правду: все непросто, но не так уж и плохо.
И она старалась сохранять невинную улыбку
и веселый смех. Клиентам нравилось. Наверное,
потому она и получила работу по объявлению
Ван Ли в газете «Тай Рат», в разделе G. R.O., или
«Guest Relation Officer». Ван Ли — низкорослый,
почти черный китаец, владелец мотеля на Сукхумвит-
роуд, клиентами его были в основном иностранцы
с весьма специфическими пожеланиями,
но не настолько уж особыми, чтобы она не смогла
их ублажить. Откровенно говоря, ей это нравилось
даже больше, чем бесконечные танцульки в баре.
К тому же Ван Ли хорошо платил. Единственное
неудобство, пожалуй, в том, что приходилось долго
добираться в его мотель из квартиры в Банглапху.
Проклятые пробки! В очередной раз, когда они
встали, она сказала шоферу, что выйдет здесь,
пусть даже придется пересечь шесть полос, чтобы
добраться до мотеля на другой стороне улицы.
Покинув такси, она ощутила, как воздух окутал ее,
словно горячее влажное полотенце. Она двинулась
вперед, зажав рот рукой, зная, что это не поможет,
в Бангкоке всегда такой воздух, но по крайней мере
так меньше воняет.
Она пробиралась между машинами: отпрянула
в сторону от пикапа с полным кузовом парней,
которые свистели ей вслед, еле увернулась
от «тойоты». Наконец она на тротуаре.
Ван Ли поднял глаза, когда она вошла в пустой холл.
— Сегодня вечером спокойно? — спросила она.
Он раздраженно кивнул. В последний год такое
случалось частенько.
— Ты уже поужинала?
— Да, — солгала она. Ей не хотелось есть водянистую
лапшу, которую он варил в задней комнатенке.
— Придется подождать, — сказал он. — Фаранг
сперва хочет поспать; он позвонит, когда проснется.
Она застонала.
— Ты ведь знаешь, Ли, мне надо вернуться
в бар до полуночи.
Он бросил взгляд на часы.
— Дадим ему один час.
Пожав плечами, она села. Если бы она зароптала
год назад, он просто вышвырнул бы ее вон,
но теперь он нуждался в деньгах. Конечно, она
могла бы и уйти, но тогда эта долгая поездка оказалась
бы совершенно бесполезной. А кроме того,
она была обязана Ли, он ведь не худший сутенер
из тех, на кого ей приходилось работать.
Выкурив три сигареты, она пригубила горького
китайского чая и подошла к зеркалу, наводя марафет.
— Пойду разбужу его, — сказала она.
— Гм. Коньки с собой?
Она потрясла сумкой.
Ее каблуки вязли в гравии, покрывавшем
открытую площадку между низенькими номерами
мотеля. Номер 120 находился в глубине патио, никакой
машины у двери она не увидела, но в окне горел
свет. Наверное, фаранг уже проснулся. Легкий бриз
приподнял ее короткую юбку, но прохлады не принес.
Она тосковала по муссону, по дождям. А ведь
после нескольких недель наводнения, после покрытых
илом улиц и заплесневелого белья она будет
снова тосковать по знойным безветренным месяцам.
Легонько постучав в дверь, она примерила
застенчивую улыбку, а на языке уже вертелся
вопрос: «Как вас зовут?» Никто не отвечал. Она
снова постучала, взглянув на часы. Наверняка
можно будет поторговаться о том красном платье,
скостить цену на сотню батов, хоть даже
и в «Робертсоне». Повертев дверную ручку, она
с изумлением обнаружила, что дверь не заперта.
Клиент лежал на кровати ничком и спал — это
бросилось в глаза сразу. Потом она заметила голубое
поблескивание прозрачной рукоятки ножа,
торчащего из спины в ярко-желтом пиджаке.
Трудно сказать, какая мысль первой пронеслась
в голове Дим, но одна из них наверняка была о том,
что долгая поездка из Банглапху оказалась-таки
напрасной. А потом Дим закричала. Но крик утонул
в громком гудении трейлера на Сукхумвитроуд,
которому не давал повернуть зазевавшийся
туктук.
* * *
— «Национальный театр», — объявил по громкоговорителю
гнусавый, сонный голос, прежде
чем двери открылись, и Дагфинн Торхус шагнул
из трамвая в промозглое, холодное зимнее предрассветное
утро. Мороз щипал свежевыбритые
щеки, и в тусклом неоновом свете белел выдыхаемый
пар.
Шла первая неделя января, и он знал, что
потом станет легче: льды скуют фьорд и воздух
сделается менее влажным. Он начал подниматься по Драмменсвейен, к Министерству иностранных
дел. Мимо проехало несколько одиноких такси,
в целом же улицы были почти пустынны. Часы
на фасаде концерна «Йенсидиге», светящиеся
красным на фоне черного зимнего неба, показывали
шесть.
На входе он достал пропуск. «Начальник
отдела», — было написано над фотографией молодого
Дагфинна Торхуса, на десять лет моложе
нынешнего, смотрящего в объектив фотоаппарата
целеустремленным взглядом из-за очков в стальной
оправе и выставив вперед подбородок. Он
провел пропуском по считывающему устройству,
набрал код и толкнул тяжелую стеклянную дверь
на площади Виктория-террас.
Далеко не все двери открывались столь же легко
в те времена, как он двадцатипятилетним юношей
пришел сюда работать, а было это почти тридцать
лет назад. В «дипшколе» — так назывались
мидовские курсы для стажеров — он выделялся
своим эстердальским диалектом и «деревенскими
замашками», как говорил один его однокурсник
из Бэрума. Другие стажеры были политологами,
экономистами, юристами, их родители имели высшее
образование и были политиками или частью
той мидовской верхушки, куда стремились их дети.
А он — простой крестьянский парень, выпускник
провинциального сельскохозяйственного института.
Не то чтобы это было так важно лично для
него, но он понимал: для дальнейшей карьеры ему
нужны настоящие друзья. Дагфинн Торхус осваивал
социальные коды и вкалывал больше других,
чтобы уравновесить собственный статус. Но, несмотря
на различия, всех их объединяло одно: смутное представление о том, кем они станут. Ясным было
только направление: наверх.
Вздохнув, Торхус кивнул охраннику, когда тот протянул ему в стеклянное окошко газеты и конверт.
— Кто на месте?
— Вы, как всегда, первый, Торхус. Конверт —
из курьерской службы, его доставили ночью.
Торхус поднимался на лифте, следя за тем, как
гаснут и загораются цифры этажей. Ему представлялось,
что каждый этаж здания символизирует
этап его карьеры, и каждое утро все эти этапы
вновь проходили перед его взором.
Первый этаж — первые два года стажерства,
долгие, ни к чему не обязывающие дискуссии
о политике и истории, уроки французского, который
стоил ему невероятных мучений.
Второй этаж — консульский департамент.
Первые два года Торхус провел в Канберре, потом
еще три — в Мехико-Сити. Чудесные города, грех
жаловаться. Разумеется, он бы предпочел Лондон
и Нью-Йорк, но то были слишком уж престижные
места, туда стремились попасть все. Так что
он решил не воспринимать такой поворот карьеры
как поражение.
Третий этаж — снова служба в Норвегии, уже
без солидных надбавок за работу за рубежом
и за квартиру, позволявших жить в относительной
роскоши. Он встретил Берит, она забеременела,
а когда подошло время для новой загранкомандировки,
они ждали уже второго. Берит
родилась в тех же краях, что и он, и каждый
день говорила по телефону со своей матерью. Он решил немного подождать, работал не жалея сил,
писал километровые отчеты о торговых отношениях
с развивающимися странами, сочинял речи
для министра иностранных дел, заслуживая
похвалу на верхних этажах. Нигде в госаппарате
не существовало такой жесткой конкуренции, как
в МИДе, и ни в одном другом месте иерархия не
была настолько наглядной. На работу Дагфинн
Торхус шел как солдат в атаку: пригнув голову,
не показывая спину и открывая огонь, едва ктото
окажется на мушке. Впрочем, пару раз его
дружески похлопали по плечу, и тогда он понял,
что «замечен», и попытался объяснить Берит, что
сейчас самое время отправиться в командировку
в Париж или Лондон, но тут она впервые за всю их
тихую семейную жизнь заартачилась. И он сдался.
Дальше — четвертый этаж, новые отчеты
и наконец должность секретаря, небольшая прибавка
к окладу и место в департаменте кадров
на втором этаже.
Получить работу в мидовском департаменте
кадров — знаковое событие, оно обычно означало,
что путь наверх открыт. Но что-то не сложилось.
Департамент кадров совместно с консульским
департаментом рекомендовали соискателей
на различные посты в загранаппарате, то есть
непосредственно влияли на карьерный рост
остальных коллег. Возможно, он подписал не тот
приказ, не дал кому-то хода, а этот человек потом
стал его начальником, и теперь в его руках те невидимые
нити, которые правят жизнью Дагфинна
Торхуса и других мидовских сотрудников.
Как бы то ни было, движение наверх как-то
незаметно прекратилось, и в одно прекрасное утро он вдруг увидел в зеркале ванной типичного
начальника департамента, бюрократа средней
руки, которому никогда уже не подняться на пятый
этаж за оставшийся какой-то десяток лет до пенсии.
Если, конечно, не совершить подвига, который
все заметят. Но подобные подвиги плохи тем, что
за них если не повысят в должности, то наверняка
выгонят с работы.
Так что оставалось лишь вести себя как прежде,
пытаясь хоть в чем-то опередить других.
Каждое утро он первым являлся на работу и преспокойно
успевал просмотреть газеты и факсы
и уже имел готовые выводы, когда остальные
коллеги еще только протирали глаза на летучках.
Целеустремленность успела войти в его плоть
и кровь.
Он открыл дверь кабинета и замешкался
на мгновение, прежде чем включить свет. У этого
тоже была своя история — история о налобном
фонарике. Причем, увы, просочившаяся наружу
и гулявшая, он знал, по всему МИДу. Много лет
назад норвежский посол в США вернулся на некоторое
время в Осло и как-то ранним утром позвонил
Торхусу, спросив, что тот думает о ночном выступлении
президента Картера. Торхус только-только
вошел в свой кабинет и еще не успел ознакомиться
со свежими газетами и факсами, а потому не сумел
дать немедленного ответа. Как и следовало ожидать,
день был загублен. Дальше — больше. На следующее
утро посол позвонил снова, как раз в тот
момент, когда Торхус развернул газету, и спросил,
каким образом ночные события могут повлиять
на положение на Ближнем Востоке. Назавтра
послу снова потребовались какие-то ответы.
И Торхус тоже пролепетал что-то невразумительное
за недостатком информации.
Он начал приходить на работу еще раньше, чем
прежде, но у посла, похоже, было седьмое чувство,
поскольку каждое утро его звонок раздавался
именно в тот момент, когда Торхус только садился
за стол.
Так продолжалось, пока начальник департамента,
случайно узнав, что посол живет в маленьком
отеле «Акер» прямо напротив МИДа, не догадался,
в чем дело. Всем было известно, что посол
любит вставать ни свет ни заря. Он не мог не заметить,
что свет в кабинете Торхуса загорается
раньше, чем в других, и решил разыграть пунктуального
чиновника. Тогда Торхус купил себе налобный
фонарик и на следующее утро успел просмотреть
все газеты и факсы, не зажигая люстры.
И сидел так с налобником почти три недели, пока
посол не сдался.
Но теперь Дагфинну Торхусу было наплевать
на шутника посла. Он открыл конверт, в нем оказалась
расшифровка шифрограммы под грифом
«совершенно секретно». Прочитав сообщение, он
пролил кофе на докладные записки, лежавшие
на столе. Короткий текст оставлял простор для
фантазии, но суть заключалась в следующем:
посол Норвегии в Таиланде, Атле Мольнес, найден
с ножом в спине в одном из борделей Бангкока.
Торхус перечитал сообщение еще раз, прежде
чем отложить его в сторону.
Атле Мольнес, бывший политик и член Христианской
народной партии, бывший председатель
комитета по финансам, стал теперь бывшим
и во всех остальных отношениях. Это казалось столь невероятным, что Торхус невольно бросил
взгляд в сторону отеля «Акер» — не притаился ли
там кто за гардинами? Но отправителем сообщения
являлось норвежское посольство в Бангкоке.
Торхус чертыхнулся. Ну почему это случилось
именно теперь и именно в Бангкоке? Не следует ли
сперва известить Аскильсена? Нет, тот сам скоро
обо всем узнает. Торхус посмотрел на часы и поднял
телефонную трубку, чтобы позвонить министру
иностранных дел.
Бьярне Мёллер осторожно постучал в дверь и
вошел. Голоса в переговорной утихли, все повернулись
в его сторону.
— Бьярне Мёллер, руководитель убойного отдела,
— представила его глава Управления полиции
и жестом пригласила садиться.
— Мёллер, а это статс-секретарь Бьёрн Аскильсен
из канцелярии премьер-министра и Дагфинн
Торхус, начальник департамента МИДа.
Мёллер кивнул, выдвинул стул и попытался
засунуть свои длиннющие ноги под большой
овальный дубовый стол. Кажется, он уже видел
моложавое, веселое лицо Аскильсена по телевизору.
Неужели он и впрямь из канцелярии премьер-
министра? Значит, неприятности случились
немаленькие.
— Прекрасно, что вы смогли так быстро
прийти, — произнес, картавя, статс-секретарь,
нетерпеливо барабаня пальцами по столу. — Ханне,
расскажи ему вкратце, о чем мы здесь говорили.
Начальник Управления полиции позвонила Мёллеру
двадцать минут назад и без всяких объяснений
велела явиться в МИД в течение четверти часа.
— Атле Мольнес найден мертвым в Бангкоке.
Предположительно он был убит, — начала она.
Мёллер увидел, как начальник департамента
МИДа при этих словах закатил глаза за очками
в стальной оправе. Выслушав историю до конца,
Мёллер понял его реакцию. Надо быть полицейским,
чтобы сказать про человека, найденного
с ножом, точащим из спины слева от лопатки
и вошедшим сквозь левое легкое в сердце, что тот
«предположительно убит».
— Его нашла в гостиничном номере женщина…
— В борделе, — поправил ее чиновник в стальных
очках. — И нашла его проститутка…
— Я беседовала с коллегой из Бангкока, — продолжала
начальница. — Он человек разумный
и обещал пока не предавать это дело огласке.
Мёллер спросил было, зачем так тянуть с этой
самой оглаской, ведь оперативное освещение
в прессе часто помогало полиции получить нужные
сведения, пока люди кое-что помнят и следы
еще свежие. Но что-то подсказывало ему, что
подобный вопрос сочтут слишком наивным. Вместо
этого Мёллер поинтересовался, как долго они
рассчитывают все это скрывать.
— Надеемся, что долго, до тех пор, пока не сложится
приемлемая версия, — ответил Аскильсен.
— Та, что мы имеем на сегодня, не годится.
Та, что имеем? Мёллер ухмыльнулся. Так, значит,
подлинную версию уже рассмотрели и отбросили.
Как новоиспеченный начальник отдела,
Мёллер до сих пор был избавлен от общения
с политиками, однако он знал: чем выше у человека
должность, тем опаснее для него не знать
реальной картины жизни.
— Как я понимаю, имеющаяся версия довольно
неприятна, но что значит «не годится»?
Начальница предостерегающе взглянула на
Мёллера. Статс-секретарь слабо улыбнулся.