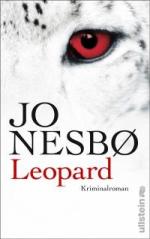Отрывок из романа
Гипоксия
Она проснулась. Поморгала в кромешной темноте.
Широко разинула рот и задышала носом. Снова
моргнула. Почувствовала, как по щеке течет
слеза, растворяя соль от прежних слез. А вот
сглотнуть слюну не удалось, во рту было сухо.
Щеки словно что-то распирало изнутри. Казалось,
что от этого чужеродного тела во рту голова
ее вот-вот взорвется. Но что же это, что же это
такое, в конце концов? Первое, что она подумала,
когда очнулось, — ей вновь хочется забыться.
Провалиться в теплую и темную пропасть. Укол,
который он ей сделал, по-прежнему действовал,
но она знала, что боль скоро вернется, чувствовала
ее приближение по медленным, глухим
ударам: это биение пульса, это кровь толчками
проходит сквозь мозг. А где тот человек? Стоит
позади нее? Она задержала дыхание и прислушалась.
Ничего не услышала, но почувствовала
чье-то присутствие в комнате. Словно присутствие
леопарда. Кто-то рассказывал, будто леопард
крадется настолько беззвучно, что может
подобраться к тебе совершенно неслышно, что он
даже умеет регулировать свое дыхание, чтобы
дышать в такт с тобой. Задерживать дыхание
тогда, когда ты задерживаешь дыхание. Ей показалось, она чувствует тепло его тела. Чего он
ждет? Она вновь задышала. И ей показалось, что
в то же мгновение кто-то задышал ей в затылок.
Она развернулась, ударила, но удар пришелся
в пустоту. Съежилась, стараясь казаться меньше,
спрятаться. Бесполезно.
Сколько времени она пробыла в отключке?
Препарат действовал молниеносно. Все длилось
какую-то долю секунды. Но этого хватило, чтобы
дать ей почувствовать. Это было как обещание.
Обещание того, что будет дальше.
Инородное тело, лежавшее перед ней на столе,
было размером с бильярдный шар. Из блестящего
металла, испещренное маленькими дырочками,
геометрическими фигурами и какими-то знаками.
Из одной дырочки свисал красный шнур
с петелькой на конце, невольно наводивший на
мысль о Рождестве и о елке, которую предстояло
наряжать в доме у родителей 23 декабря, через
семь дней. Украшать блестящими шарами, фигурками
гномов, корзиночками, свечками и норвежским
флажком. А через восемь дней — петь «Как
прекрасна земля» и увидеть, как загорятся глаза
племянников, открывающих ее подарки. Теперь
бы она все сделала совсем по-другому. Все стало
бы иначе. Со всеми днями, которые она прожила
бы гораздо осмысленнее, гораздо правильнее,
наполняя их радостью, дыханием и любовью.
С городами, мимо которых она только проезжала,
куда она лишь собиралась. С мужчинами, которых
она встречала, и мужчиной, которого она еще не
встретила. С плодом, от которого она избавилась,
когда ей было семнадцать, с детьми, которые у нее
еще не родились. С днями, которые она выбросила
на ветер, потому что думала, что впереди у нее
вечность.
Но тут она перестала думать о чем бы то ни
было, кроме ножа, возникшего прямо перед ее
лицом. И мягкого голоса, который сказал ей, что
она должна взять этот шар в рот. И она это сделала,
конечно, — как же иначе. Сердце ее бешено
колотилось, но она раскрыла рот так широко,
как только смогла, и протолкнула шар внутрь,
и шнурок теперь свисал у нее изо рта. От металлического
шарика во рту появился горький
и соленый привкус, как от слез. А потом голову
ее запрокинули назад, и кожу обожгла сталь,
когда к горлу приставили нож. Потолок и комнату
освещал фонарик, прислоненный к стене в одном
из углов. Серый, голый бетон. Помимо фонарика
в комнате был еще белый пластиковый стол, два
стула, две пустые бутылки из-под пива и два
человека. Он и она. Она почувствовала запах кожаной
перчатки, когда его указательный палец
схватил красную петельку шнурка, свисавшего
изо рта. А в следующий миг ей показалось, что
голова ее взорвалась.
Шар увеличился в объеме и разрывал теперь ей
глотку изнутри. Попытки открыть рот как можно
шире не помогли — давление меньше не сделалось.
Он осмотрел ее открытый рот с сосредоточенным
и заинтересованным видом, такой бывает у зубного
врача, когда тот проверяет, правильно ли поставлены
брекеты. Он слегка улыбался — значит,
остался доволен.
Языком она ощутила, что из шара торчат какие-то
шипы, и это именно они давят на нёбо, нежную
слизистую внизу рта, десны, нёбный язычок. Она
попыталась что-то сказать. Он терпеливо слушал
невнятные звуки, вырывавшиеся у нее изо рта.
Кивнул, когда она сдалась и перестала говорить,
и вынул шприц. Капелька на кончике иглы сверкала
в свете карманного фонарика. Он прошептал
ей прямо в ухо: «Не трогай шнур».
А потом уколол ее в шею сбоку. И она отключилась
за какие-то секунды.
Моргая в темноте, она прислушивалась к своему
испуганному дыханию.
Надо что-то делать.
Она оперлась ладонями о сиденье стула, влажное
и холодное от ее собственного пота, и приподнялась.
Ее никто не остановил.
Мелкими шажками она прошла несколько метров,
пока не наткнулась на стену. Проковыляла
вдоль нее, дальше была какая-то гладкая, холодная
поверхность. Металлическая дверь. Она подергала
засов. Дверь не поддалась. Заперто. Конечно, дверь
заперта, а на что, собственно, было рассчитывать?
Это ей почудился смех или же он раздался в ее
собственной голове? Где тот человек? Почему он
затеял с ней эту игру?
Надо что-то предпринять. Надо подумать. Но
для того чтобы думать, необходимо избавиться
от этого металлического шара, не то от боли она
сойдет с ума. Она засунула большой и указательный
пальцы в уголки рта. Почувствовала шипы.
Попыталась засунуть пальцы под один из них.
Бесполезно. Подступил кашель и следом паника:
дышать было невозможно. Тут она сообразила,
что из-за этих шипов горло распухло изнутри,
и скоро она задохнется. Она принялась колотить
в железную дверь, попыталась крикнуть, но металлический
шар глушил звук. Она сдалась. Прислонилась к стене. Прислушалась. Ей почудилось или
же она действительно слышит чьи-то осторожные
шаги? Неужели он ходит по комнате, играя с ней
в жмурки? Или это ее собственная кровь пульсирует
в ушах? Стараясь не обращать внимания на
боль, она сжала рот. Ей только-только удалось загнать
шипы назад в шарик, но они снова заставили
ее широко распахнуть рот. Казалось, что шарик
пульсирует, что он превратился в сердце из железа,
стал частью ее самой.
Надо что-то предпринять. Надо подумать.
Пружины. Под этими шипами — пружины.
Шипы вылезли, когда он дернул за шнур.
«Не трогай шнур», — сказал он.
А почему? Что тогда будет?
Она сползла по стене и села. От бетонного пола
шел сырой холод. Снова захотелось крикнуть, но
она не посмела. Тишина. Молчание.
О, слова, что она сказала бы всем, кого любит, —
вместо слов, которыми просто заполняла молчание,
общаясь с теми, кто ей безразличен!
Нет никакого выхода, нет. Только она сама и эта
безумная боль, и голова вот-вот взорвется.
«Не трогай шнур».
А может быть, надо потянуть за него, и шипы
уберутся назад в шарик, и боль уйдет?
Мысли двигались по кругу. Сколько она уже
здесь? Два часа? Восемь часов? Двадцать минут?
Если бы все было так просто — потянуть за
шнур, — почему же она этого до сих пор не сделала?
Только потому, что тот человек, совершенно явно
сумасшедший, ей запретил? Может, это элемент
игры, чтобы обманом заставить ее терпеть эту
совершенно ненужную боль? Или же смысл игры
заключался в том, чтобы она, несмотря на предупреждение,
как раз и дернула бы за шнур, чтобы…
чтобы произошло что-то ужасное. А что может
произойти? Что это за шарик?
Да, это была игра, чудовищная игра. Потому
что деваться некуда. Боль становилась все
невыносимее, горло распухло, она вот-вот задохнется.
Она снова попыталась закричать, но крика не
получилось, только какой-то всхлип, и она моргала
и моргала, но слез не было.
Пальцы нащупали шнур, свисавший изо рта.
Осторожно потянули.
Она, разумеется, сожалела обо всем, чего не
успела сделать. Но если бы ее по какому-то недоразумению
вдруг переместили в какое-то совсем
другое место, не важно куда, она согласилась бы на
что угодно. Она просто хотела жить. Какой угодно
жизнью. Вот и все.
Она дернула за шнур.
Из шипов выскочили иглы. По семь сантиметров
каждая. Четыре прошили ее щеки, две вонзились
в гайморовы полости, две прошли в нос, две
пронзили подбородок. Одна проткнула насквозь
пищевод, а еще одна — правое глазное яблоко. Две
иголки прошли через заднее нёбо и достигли мозга.
Но непосредственной причиной смерти стало не это.
Из-за металлического шарика она не могла выплюнуть
кровь, хлынувшую из ран прямо в рот. Вместо
этого кровь устремилась в гортань и дальше,
в легкие. Из-за этого кислород перестал поступать
в кровь, что, в свою очередь, вызвало остановку
сердца и то, что судебный медик в своем отчете
назвал церебральной гипоксией, то есть нехваткой
кислорода в мозгу. Иными словами, Боргни Стем-Мюре
утонула.
Проясняющая темнота
18 декабря
Дни стали короче. На улице еще светло, но здесь,
в моей монтажной, вечная темнота. В ярком
свете настольной лампы люди глядят с фотографий
на стене раздражающе радостно, будто
ни о чем не догадываются. Они полны ожиданий,
точно даже не сомневаются, что впереди у них
долгая жизнь, раскинувшаяся во все стороны
спокойная гладь времени. Я их вырезал из газеты,
убрав выжимающие слезу рассказы о семье в шоке
и выкинув леденящие кровь описания найденного
трупа. Оставил только непременную фотографию,
отданную настырному журналисту
родственником или другом, — снимок, сделанный
в счастливый миг, когда она улыбалась, словно
была бессмертной.
Полиции известно немного. Пока. Но скоро
работенки у нее прибавится.
Что это такое, где оно сидит, — то, что
превращает человека в убийцу? Это что-то
врожденное, заложенное в некоем гене, наследственная
предрасположенность, которая у кого-
то есть, а у кого-то нет? Или же оно возникает
в силу необходимости, развиваясь по мере
углубления контактов с миром, — некая стратегия
выживания, спасающая жизнь болезнь,
рациональное безумие? Потому что если телесная
болезнь — это обстрел, лихорадочный
огонь, то безумие — это вынужденное отступление
в укрытие.
Лично я считаю, что способность убивать
изначально присуща каждому здоровому человеку. Наше существование — это битва за блага,
и тот, кто не может убить ближнего своего, не
имеет права на существование. Убить, что ни
говори, означает всего лишь приблизить неизбежное.
Смерть ни для кого не делает исключений,
что хорошо, поскольку жизнь есть боль
и страдание.
В этом смысле всякое убийство — акт милосердия.
Просто этого не понимаешь, пока
тебя греет солнце, вода, журча, приближается
к губам, и ты чувствуешь идиотскую жажду
жить с каждым ударом сердца и готов заплатить
за одно мгновение всем тем, чего добился
в течение жизни: достоинством, положением,
принципами. Именно тогда надо решительно
вмешаться, не обращая внимания на этот сбивающий
с толку, слепящий свет. Помочь оказаться
в холодной, преображающей темноте. И почувствовать
холодную суть. Истину. Ибо именно
ее я искал. Именно ее я нашел. То, что делает
человека убийцей.
А как же моя собственная жизнь, неужели
я тоже думаю, что она — бесконечная морская
гладь?
Вовсе нет. Вскоре и я окажусь на свалке
смерти, вместе с исполнителями других ролей
в этой пьеске. Но как бы ни разложился мой труп,
хоть даже до самого скелета, у него на губах все
равно будет играть улыбка. Именно ради этого
я сейчас живу, это единственное оправдание
моего существования, моя возможность очиститься,
освободиться от позора.
Но это только начало. А сейчас я выключаю
лампу и выхожу на дневной свет. Хотя день
и короток.