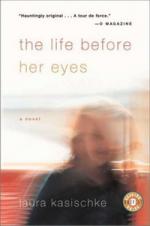Отрывок из романа
О книге Алессандро Галленци «Бестселлер»
Джиму суждено было стать великим писателем,
создать бестселлер. Первый роман (в сущности,
длинный рассказ) он написал лет пятнадцать назад,
ободряемый своим наставником по классу
писательского мастерства, бывшим университетским
преподавателем, который спустя несколько
месяцев покончил с собой, сунув голову в полиэтиленовый
пакет и завязав его вокруг шеи.
Буквально накануне этого печального события
преподаватель рекомендовал ученика
одному лондонскому литературному агенту,
известному своей железной хваткой, а тот
сразу же решил взять автора в оборот и всячески
продвигать его следующее произведение:
условились, что это будет триллер под названием
«Свидание со смертью». К сожалению,
оказалось, что писать, когда над душой висит
срок сдачи текста, совсем не то же самое, что
время от времени, под настроение, как-нибудь
в середине дня, в свое удовольствие поиграть
словами часок-другой. Сама мысль о том, как
много поставлено на карту, и о неимоверно высоких
ожиданиях агента поневоле заземляла
полет Джимовой фантазии. В итоге «Свидание
со смертью» получилось каким-то неуклюжим и агент велел одному из своих подручных разъять
и искромсать эту вещь, перемешать куски
и составить их заново — иными словами, полностью
ее переписать. «Знаешь, Джим, — вещал
агент, окутываясь облаком сигарного дыма, —
стиль очень даже ничего, но нам-то, ты же понимаешь,
нужна бойкая вещица: поменьше
описаний, побольше смертей плюс несколько
постельных сцен. Ты сколько экземпляров хочешь
продать? Сто или сто тысяч?»
Как ни странно, несмотря на всю свою мудрость
и влиятельность, агент так и не сумел
пристроить искалеченную рукопись; то же самое
произошло и со вторым романом Джима.
На сей раз это был детектив с расследованием
убийства, действие происходило в Париже, называлось
все это «Женщина с тремя лицами».
Агент после пяти месяцев мучительного для
Джима молчания позвонил ему, чтобы сообщить
хорошую новость: одно из американских
издательств (судя по всему, не из крупных) заинтересовалось
текстом. Ну да, аванс предлагали
не самый большой, он едва-едва дотягивал до
четырехзначной цифры, но ведь каждому приходится
с чего-то начинать, верно?
Джим ясно помнил тот день, когда он получил
черно-белый каталог «Пинк гиппопотамус
пресс» с собственной улыбающейся физиономией
на странице двадцать четыре, где размещался анонс, сообщавший, что его книга
выйдет ближайшей осенью. Он таскал с собой
этот каталог повсюду: в кафе, в библиотеку,
в уборную — и разглядывал двадцать четвертую
страницу по десять-пятнадцать минут. Увы,
через две недели было объявлено о банкротстве
издательства «Пинк гиппопотамус пресс». Это
положило конец «Женщине с тремя лицами»,
и агент перестал отвечать на его звонки.
Но Джим не отчаялся. Он тут же решил сочинить
еще две книги: фантастическую, с роботом-
телепатом в качестве главного героя,
и исторический роман о Смутном времени под
названием «Киевский воин». Полный надежд
и энтузиазма, он посылал агентам, издателям
и знаменитым писателям рукопись за рукописью,
будучи уверен, что ему вот-вот выпадет
шанс. Но агенты все как один отвечали, что их
не интересует работа с какими бы то ни было
новыми авторами; издатели сетовали, что их
план и без того трещит по швам и что предложенный
текст «не вписывается» в их стратегию,
после чего предлагали связаться с каким-нибудь
литагентом; знаменитые же авторы вообще
не утруждали себя ответом.
Здесь в литературной карьере Джима зияет
провал, пауза, совпавшая с чередой еженедельных
встреч с одним бельгийским врачом в одной
частной психиатрической клинике. По окончании этого непростого периода главным
порывом Джима по-прежнему оставалось желание
писать — возможно, назло, из чувства мести
или гнева, а может быть, в ходе бесед с врачом
он словно бы принял что-то вроде писательского
слабительного, побуждающего извергать всё новые
и новые строки. Тексты, написанные им в это
время: два сборника верлибров, чрезвычайно короткая
полуавтобиографическая повесть, цикл
юмористических рассказов и экспериментальная
пьеса, «несут на себе явный отпечаток эмоционального
и душевного хаоса, владеющего автором».
По крайней мере, такое суждение вынес
бельгийский доктор, продолжавший наблюдать
Джима раз в три месяца. Все эти книги, плоды
тяжелого периода Джимова творчества, так никогда
и не пополнили собой гигантские, грозящие
обрушиться кипы издательского самотека:
они оставались погребенными в ящике шкафа,
под носками и трусами автора.
Однако ряд новых романов Джима озарил
его шаткую писательскую карьеру проблеском
надежды. Он почувствовал, что вступает в пору
зрелости, в пору расцвета, что его последние
произведения особенно убедительны. В ответ
на неустанно рассылаемые рукописи приходили
отказы — каждый раз чуть более обнадеживающие.
Джим извлекал из этих писем
крохи ободрения и прилагал извлеченное к новым заявкам и предложениям, которые посылал
издателям. В один прекрасный день его напечатают,
он был в этом уверен.
Для своего десятого романа, натуралистического
опуса а-ля Золя, он применил более
энергичный метод подачи рукописи: теперь
за отправкой текста следовали звонки редакторам
и менеджерам. Скоро Джим стал известной
фигурой во всех издательствах. Хотя у редакторов
и менеджеров всегда было совещание
или перерыв на обед (даже в четыре часа дня),
иногда ему все-таки удавалось разыскать секретаршу
или помощника, с которыми он мог
бы обсудить историю продвижения рукописи,
а также текущую ситуацию. Постепенно Джим
внедрился в коллективное сознание книгоиздателей
как некая зримая, трехмерная, но лишь
слегка неприятная сущность: что-то вроде докучной
мухи, которую никто не берет на себя
труд отогнать или прихлопнуть.
Следующий роман Джима остался незавершенным,
и его визиты к бельгийскому врачу,
который категорически запретил ему «любые
виды творческой, художественной, сочинительской
деятельности», вновь участились. Ему
посоветовали совершить длительное заграничное
путешествие, что он тут же и предпринял —
впрочем, не забыв прихватить с собой блокнот
и ручку. Результатом стала книга путевых заметок «Большое турне» почти в триста страниц
длиной; агенты и издатели отвергали ее с куда
большей яростью, чем какие бы то ни было предыдущие
его творения.
Джим никак не мог понять этих отказов, поэтому
решил поглубже нырнуть в изучение загадочного
механизма творческого процесса. На
три месяца он практически переселился в Британскую
библиотеку, посвятив себя чтению
и исследованиям, свив себе гнездо за столом
№ 372 в читальном зале отдела редких книг и
музыки, где рядом с ним обретались лишь несколько
завзятых книгочеев и где царила гипнотическая
атмосфера полного покоя. Однажды,
в предвечерний час, Джим уснул над учебником
квантовой механики и охраннику пришлось
как следует его встряхнуть, чтобы разбудить.
А в другой раз его застигли за подчеркиванием
абзаца карандашом. Он уродовал таким способом
собственный текст, но за это автора едва не
выгнали, и он чудом избежал пожизненного запрета
на посещение оскорбленной библиотеки.
После этого периода углубленных исследований
он начал целыми днями пропадать в книжных
магазинах, просматривая сотни изданий,
предлагаемых покупателю, и пытаясь ответить
на основополагающий вопрос: «Чем опубликованная
книга отличается от неопубликованной?»
В чем дело? В качестве и оригинальности текста? В заголовке? В известности автора? В том,
что строчки отпечатаны и страницы переплетены?
В том, что вещь покупают и читают другие?
Джим пришел к выводу, что нет никакой
разницы между книгами, которые издаются,
и бесчисленными произведениями, которые
остаются неопубликованными. «Единственная
значимая переменная здесь — фактор случайности,
— уверял себя Джим. — Рукопись оказывается
перед нужным редактором в нужное время.
Конечно, не помешает обзавестись хорошими
связями среди издательской мафии, но на самом-
то деле требуется лишь немного везения,
только и всего». Но, несмотря на столь фаталистическое
восприятие издательского мира, он
по-прежнему поглощал газетные страницы, где
печатались рецензии, и частенько забредал в библиотеку,
чтобы прочесть какую-нибудь «Библию
писателя» или «Как вырастить роман», а кроме
того, скрупулезно изучал списки бестселлеров,
пытаясь извлечь из них какие-то выводы.
В тот день, когда «Ивнинг стэндард» сообщила,
что бельгийского врача выдворили из
страны по обвинению в том, что он дарит пятилетним
мальчикам игрушечных медвежат
и хлопчатобумажные носочки, в этот самый
день с Джимом что-то случилось. Казалось, все
долгие годы накопления писательского опыта,
долгие месяцы исследований и глубокомысленных вопрошаний, из чего же слагается
книга, имеющая успех, — все это слилось воедино
в блистательном творческом порыве. Он
заперся в своей комнате и принялся отстукивать
слова, вдохновленный новым, неведомым
ему прежде чувством радости. Джим провел так
несколько недель, практически без перерыва,
почти не выходя из комнаты.
И вот — три сорок пять ночи; непритязательная,
типичная для западного Лондона квартирка,
затерянная среди бесконечных рядов ей
подобных, укрывающих своих спящих обитателей;
могильная тишина его писательской темницы
— и на экране перед ним наконец возникают
последние слова его шедевра.
Джим подскочил в кровати, услышав, как кто-то
захлопнул входную дверь. Несколько секунд он
недоуменно озирался по сторонам, а потом все-таки
решил снова утопить голову в подушке.
Скорее всего, это Джанет, его хозяйка, отправилась
на занятия по тибетской йоге. А может,
это ее дружок Том, он работает на почте и вернулся
с ночной смены. Сколько времени-то? Не
открывая глаз, он поскреб кончик носа, и его
рука, как щупальце, протянулась к плотным
хлопчатобумажным занавескам, затемнявшим
комнату. Виден свет: на улице светло. Он открыл
один глаз и напряг все силы, пытаясь взглянуть на свои наручные часы, но ему показалось, что
у них отвалилась одна из стрелок. Потом он сообразил:
ровно двенадцать — и растянул челюсти
в беззвучном зевке.
В воздухе висел неприятный запах, словно от
протухшей яичницы. Щупальце еще раз слегка
потянуло занавеску, и в комнату проникла белая
пыльная полоска. Тусклый луч света осторожно
обследовал его фигуру, скорчившуюся
на измятой постели, дешевую мебель из сосны,
торчащую по углам, и кипы книг повсюду — на
полу, на полках, даже под кроватью.
И тут Джим все вспомнил. Черты его лица
скривились в полуулыбке (скажите «сы-ы-ыр»),
а кулаки под одеялом сжались так сильно, что
кровать издала зловещий скрип.
— Да!.. Да!..
Поставив слово «Конец», Джим всегда чувствовал
острую радость, но этой ночью, когда он
набрал эти буквы на клавиатуре, у него возникло
ясное ощущение, что именно этот роман
вынесет его из безвестности, положив начало
успешной писательской карьере.
Зевая, он вылез из постели и приложил ухо
к двери спальни. Судя по звукам, дома никого
не было, так что он вышел в привычных тренировочных
штанах и пижамной куртке. Кухонный
буфет у него был так же пуст, как и желудок,
а когда он открыл дверцу, в нос ему ударил все тот же тухлый яичный запах. Джим задумался, не
заглянуть ли ему в другие шкафы, но он знал, что
Джанет ведет подробный учет продуктов вплоть
до последнего консервированного боба, и потому
не решился допустить такую вольность. Ничего
не поделаешь, придется спуститься в угловой
магазинчик. А заодно, раз уж он выйдет, не
помешает зайти на почту и заказать марки, а может,
нанести визит в библиотеку и в книжный.
Перед зеркалом, орудуя бритвой, знававшей
лучшие времена, он усмехнулся сам себе и пробормотал:
— Бестселлер, да-да… первая строка рейтингов…
Затем он еще побродил по квартире в одних
трусах, после чего, приплясывая и насвистывая
марш из «Аиды», прошествовал в свою комнату.
Он уже много месяцев не ощущал такого счастья,
такой бодрости. Джим раздернул занавески,
чтобы внутрь просочилось побольше света,
и вскоре вышел из комнаты, облаченный в потертые
джинсы, зеленую куртку из поддельной
альпаки и ярко-красные кроссовки.
Денек выдался вполне приличный, по крайней
мере для Лондона: тепло, но пасмурно.
Джим терпеть не мог английскую погоду, ему
давно осточертела вечная пелена облаков над
городом. Он предпочел бы жить где-нибудь
на юге Франции или на Коста-дель-Соль, постукивать по клавишам ноутбука под сенью
пляжного зонтика на берегу моря, посасывая
экзотический коктейль, — но Лондон очень
уж подходит для амбициозного начинающего
писателя, здесь легче завязать полезные связи,
к тому же тут, помимо всего прочего, центр
книгоиздательской вселенной. Так что Джим не
планировал переселяться за границу, пока не
завоюет писательскую известность, а это, как
он надеялся, произойдет очень скоро.
Пока же придется еще какое-то время терпеть
нынешнее положение вещей: снимать мерзкую
комнатку в квартире у Джанет и Тома. Шефердс-Буш
называют перспективным районом; может,
и так, но Джим знал, что заслуживает большего.
Его естественная среда обитания располагалась
всего в нескольких сотнях ярдов отсюда,
за широченной автострадой, отделявшей богатых
от бедных, — на изысканных виллах Холланд-
парка и Ноттинг-хилла. Там живет столько
знаменитых писателей! Если повезет, он скоро
катапультируется в один из этих роскошных
домов с высоченными потолками, окажется
среди всех этих громких имен, среди камерных
квартетов и кристально-прозрачных звонких бокалов
с «Кордон Руж». Джанет и Том говорили,
что собираются скоро пожениться, в июле или
в августе, и потому намереваются его выселить.
Они твердили это уже три года, но на сей раз, похоже, все было по-настоящему: Джим видел, как
они пишут приглашения. С божьей помощью он
сможет уже к концу лета покинуть и этих двух
ирландских голубков, и Шефердс-Буш.
Джим положил рукопись в рюкзак, отцепил
велосипед от чугунной изгороди и отправился
на почту. По дороге он размышлял, какую стратегию
ему на этот раз избрать, обращаясь к издателям
и агентам.
Чарльз Рэнделл, главный редактор «Тетрагон
пресс», провел выходные ужасно. Руководитель
небольшого, но престижного независимого издательства
каким-то образом умудрялся оставаться
на плаву, пребывая в состоянии, близком
к банкротству, на протяжении уже тридцати
лет, обитая в хрупкой раковине качественной
литературы, каковая раковина с трудом противостояла
сокрушительному напору гигантских
корпораций. На уик-энд он решил взять домой
кое-какую работу: две-три пришедшие рукописи,
чтобы их почитать, текст книги, чтобы отредактировать,
и несколько гранок, чтобы выправить.
Но как только он оказался дома, уже
само зрелище бесконечных груд книг, статей,
каталогов, писем, счетов и прочего барахла начисто
лишило его желания жить дальше.
Худощавый редактор обрушился на старый
пропыленный диван, тоже заваленный трудноопознаваемым бумажным мусором, взгляд
его блуждал в пустоте, проходя через толстые
линзы очков, усеянные белыми точечками
пыли. Чарльз мысленно проследил всю длинную
дугу своего существования и задержался
на отдаленной туманной точке, откуда явился
образ юного студента с длинными волосами
и нечесаной бородой, поэта, до краев полного
мечтаний и идеалов, когда-то печатавшего политические
листовки и поэтические памфлеты
на старом механическом мимеографе. Затем борода
исчезла, волосы стали короче и поредели
у висков и на нос ему вскочили очки в черной
оправе. И вот он уже сидит за столом в крошечной
комнатенке в подвале ветхого здания где-то
на юго-востоке Лондона, в окружении кип бумаг
и стопок книг, с древним телефоном, от звонка
которого содрогается мебель. Вокруг него начинают
копиться газетные вырезки: первые
рецензии, первые интервью. А потом на сцене
появляется роковая женщина с длинными рыжими
волосами, настоящий вулкан чувственности
и страсти. Внезапно его стол переместился
в изящную приемную в духе фешенебельного
района Мэйфейр, бумаги и книги исчезли и их
заменили подрагивающие ссутуленные фигуры,
которые обменивались сплетнями, попивая
шампанское или еще какое-нибудь вино
в сумрачном дымном свете. Некоторые из этих силуэтов вдруг окружал сияющий ореол святости,
являя лица прославленных поэтов и романистов,
нобелевских лауреатов, журналистов
и критиков — из забытого ныне поколения. Рыжеволосую
умчал парижский экспресс, и ее заменила
седоватая сорока-с-чем-то-летняя в темной
квартире на южном берегу Темзы, среди
бесчисленных картонных коробок, книг и прочего
мусора, который сам собой скапливался
вокруг него. А затем его долговязая фигура начала
сновать от дверей квартиры к железнодорожной
станции, в последнюю минуту успевая
на поезд; вот он прибегает в контору, глотает
растворимый кофе, а потом — бесконечные
корректуры, рукописи, кофе, сроки сдачи,
звонки, кофе, совещания, квитанции, обложки,
кофе, — и всё та же долговязая фигура надевает
пальто и снова бежит на станцию, и так
десять лет подряд, и его шевелюра отступила,
обнажив сияющую лысину, оставшиеся волосы
поседели, линзы очков стали толще, а одежда —
неряшливее и заношеннее.
Очнувшись в этот пятничный вечер, Чарльз
обнаружил, что торчит как затворник в своей
лондонской полуподвальной квартирке среди
печатного слова, давящего на него со всех сторон.
Он схватил бутылку каберне и… пустился
в безобразный загул, а в понедельник утром
очнулся с трехдневной щетиной, рубашкой, выпущенной над расстегнутой ширинкой, и с
галстуком на спине. Он опаздывал на час и едва
успел побриться и заставить себя влезть под холодный душ, после чего кинулся на станцию,
отмахивая отчаянно-длинные шаги портфелем,
набитым книгами и бумагами.
Войдя в контору, Рэнделл тут же волей-неволей столкнулся с явившейся, как привидение,
Пиппой, новым помощником редактора. Это
«великолепное прибавление к команде» было
санкционировано свыше тогда же, когда над
ним вообще создали это «свыше», то есть не
сколько месяцев назад.
— Ник Тинсли ждет вас уже полчаса, — сообщило
привидение.
— Фр-р-рхм, — пробурчал Чарльз.
— Что?
— Ко-фе!
Пиппа сморщила носик, повернулась и побрела на офисную кухоньку, почему-то оставив
после себя чесночный запах.
«Что за чертовщину эти девицы едят по
утрам?» — думал Чарльз, качая головой и шагая
по коридору в свой кабинет.
Ник Тинсли по прозвищу Акула поджидал
его там, развалившись на складном кресле, с головой
уйдя в спортивный раздел «Файнэншл
таймс». Перед ним, на столе Чарльза, стояла дымящаяся
кружка черного чая.
— Так-с! — Консультант издательства вскочил
и протянул руку. — С добрым у-у-утром. Как
наши дела?
— Тр-р-рп, — ответствовал Чарльз, поворачивая
ладонь и оставляя для пожатия три пальца
в каком-то масонском приветственном жесте.
Ник подержал эти три пальца, затем выпустил
их и, исполняя полупируэт, втянул свой
обширный живот, чтобы Чарльз протиснулся
между посетителем и стеной.
— Все в порядке? — спросил Ник, складывая
газету и засовывая ее обратно в портфель, пока
Чарльз пробирался мимо еще одного складного
сиденья и с трудом усаживался в обитое черной
кожей кресло, зажатое между стеной и его столом.
— Все в нашем садике прелестно, — пробормотал
Чарльз, выпустил из рук портфель, и тот
плюхнулся на пол. — Пре-лест-но, — повторил
он, притворяясь, будто разбирает кипы бумаг,
беспорядочно наваленные на столе, и не одарив
Акулу ни единым взглядом.
Ник выдавил напряженную улыбку. Он
уже привык к этим детским выходкам. Иногда
руководители компании кротки как ягнята,
а иногда топочут копытами, кричат и вопят. Все
это вполне естественно. Конечно, не очень-то
приятно, когда тебе приходится объявлять пятидесяти,
да хотя бы даже и пяти сотрудникам,
что в течение ближайшей недели они лишатся
работы. И не очень-то приятно, когда ты вынужден увольнять директора-учредителя или
управляющего директора из-за того, что он не
вписывается в установленные требования. Но
это — часть его, Ника, работы. К тому же для
него не существовало слишком неудобных задач. Он любил повторять: «Дерьмо всегда само
всплывает». Выражение практически стало его
девизом; это была, вероятно, самая сложная
философская максима, какую он когда-либо изрекал за свою долгую карьеру корпоративного
«мясника».
— Ну как, Чарльз, ты выполнил домашнее задание?
— Улыбка Ника превратилась в гримасу.
Их глаза наконец встретились; несколько секунд
мужчины смотрели друг на друга. Чарльз
с Ником были почти ровесниками, хотя первый
выглядел, как минимум, на пятнадцать
лет старше второго. Тем не менее консультант
имел дурную привычку разговаривать с Чарльзом
в нескрываемо покровительственном тоне,
дабы подчеркнуть новую служебную иерархию,
которая теперь внедрялась в «Тетрагон пресс».