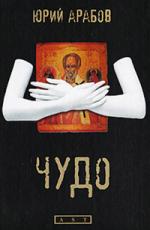Отрывок из романа
А Рудик в это время резал глупый аппендикс, примитивный, гнойный и никому не нужный, доказывающий лишь то, что и Бог иногда мог ошибаться, придумывая в человеке абсолютно бесполезные, как детали к старой швейной машинке, предметы. В семидесятые годы один ученый парадоксалист предлагал удалять аппендиксы сразу, то есть у новорожденных, не подвергая впоследствии этой унизительной процедуре уже взрослого, состоятельного во всех смыслах мужа, отслужившего в армии, достигшего должности и. о. доцента и ходившего в рестораны по пятницам с любовницей, говоря жене, что до утра работает с документами. Но предложение не прошло, вероятно, из-за суеверного и ничем не обоснованного подозрения, что Бог сможет оказаться хитрее и задумал нечто про человека, чего он сам не может себе вообразить. Рудик в этом вопросе был на стороне похеренного ученого, а не Бога, считая, что чем меньше в человеке всякого рода непонятных деталей, тем лучше, а уж если Бог хочет просто ничем не обоснованного страдания, переходящего в перитонит, то уж извините, здесь мы поспорим и с вами не согласимся.
Он знал эту полостную операцию назубок и потому делал ее, почти засыпая, с трудом борясь с одурманивающей мозги тиной, тряся головой, полузакрыв глаза, как играет опытный пианист, даже не взглянув на постылую и захватанную пальцами клавиатуру.
Сестра-ветеринар, чтобы хирург окончательно не заснул, давала лизать ему мороженое «Забава», которое делалось Барнаульским хладокомбинатом, — двуцветный розово-белый пломбир на палочке, то открывая повязку на лице мастера, то прикрывая ее…
— Не могу, — пробормотал Рудик. — Сама ешь.
Он знал эту «Забаву» с детства и потому не ценил ее качества, например отсутствие сухого молока в рецептуре и всякого рода сомнительных консервантов. Сестра, не сказав своего традиционного «ага», долизала то, что не успел долизать Рудик.
И в это время в операционную влетела Лидка. Влетела со всем, что было при ней, с пирожками вверху туловища и густым тестом внизу, с размазанной косметикой на лице и с глазами, которые источали горьковатый каштановый мед отчаяния.
— Меня убивают! — крикнула она Рудику. — Моя добродетель растоптана грязным сапогом аристократа.
— Погодите, — терпеливо ответил ей хирург Рудольф Валентинович Белецкий. — Не видите, что я режу? Тут дело идет о жизни и смерти, а вы ворвались с какой-то травленной молью добродетелью и еще плюнули мне в лицо своей кислотой.
— Зашивай его, — приказала Лидка. — Чего здесь валандаться?
— Зашивайте, — покорно отдал распоряжение сестре хирург, содрал с себя надоевшую повязку и пропустил Лидку из операционной вперед. — Пойдемте со мной в ординаторскую…
Он вдруг замешкался, затоптался на месте, словно внезапно ослеп, и опять возвратился к больному. Посмотрел с подозрением на его раскрытый живот.
— Чего сопли жуешь? Забыл чего? — ласково проворковала ему Лидка.
— Да так… У меня дурь каждый раз… Будто я скальпель в животе оставляю… Когда учился в институте, мне один товарищ рассказывал… Как скальпель зашили в животе.
— Мне тоже сейчас кое-что рассказали, — пробормотала парикмахерша, не уточнив, что именно. — Услышишь — закачаешься.
И она с силой, ухватившись за рукав халата, загнала Белецкого в ординаторскую, как загоняют безмолвную скотину на убой.
Там Рудик рухнул на продавленный диван, словно метеорит обрушился на безжизненную планету, а Лидка плюхнулась на колени лечащего врача. Он почувствовал на себе ее теплый зад, похожий на две некрепко сшитые друг с другом подушки. У другого бы эти подушки вызвали восторг обладания, другой бы сразу зачитал стихи вслух, заговорил бы о мироздании, о психоэнергии, сансаре, пране и вьяне, другой бы весь мир духовный в себе перевернул — и именно из-за этих жгучих, как грелка, подушек. Но только не Рудик. Скука и раздражение, которые мучили его весь день, вдруг сделались нестерпимыми.
— Мне страшно. Спаси меня! — Лидка обняла его короткую широкую шею и прикоснулась к уху липкими губами, будто измазанными в клее «Момент» — в том смысле, что еще мгновение и их уже не отлепить.
— Отчего тебе страшно? — спросил он, увернувшись и все-таки спихнув ее с колен на диван.
— От человека.
— Ну знаешь ли, милая, от человека всегда страшно, — философически заметил хирург. — Человек может сказать тебе гадость, может ударить напильником по голове, посвятить тебя в свой внутренний мир, попросить взаймы денег… Страх от человека — в порядке вещей.
— Значит, тебе тоже страшно?
— Конечно.
— От кого конкретно?
— От всех людей.
Рудик нетерпеливо поднялся с дивана и посмотрел на улицу. Буря за окном не состоялась. Солнце зевало. Ветер пошел на местную карусель и там задремал в деревянной люльке.
Тогда хирург включил телевизор «Юность» на тумбочке. Как еще работал этот маленький советский реликт, как не взорвался, не возгорел, не вышел дымом, словно старик Хоттабыч, и не показал всей больнице кузькину мать — неведомо. Сквозь морскую рябь черно-белых помех стали видны двое молодцов, которые дубасили кого-то железной палкой, передавая ее из рук в руки.
— В насилии есть своя философия, — пробормотал хирург, озадаченно уставившись на экран. — Фридрих Ницше, если бы дожил до наших дней, был бы безмерно счастлив.
— Какая ниша? Чего ты плетешь?! — постаралась Лидка вернуть его с небес на землю.
— Это я так. Заговариваюсь, — пошел он на попятную.
— Ты не понимаешь. Меня хотят убить.
Лицо парикмахерши пошло пятнами, губы затряслись и разъехались в разные стороны, словно две гусеницы.
— Кто? — терпеливо спросил Белецкий.
— Инквизитор, — и она с плачем протянула ему визитную карточку.
— Итальянец, что ли?
— Итальянец, — подтвердила Лидка, уже рыдая в полный голос. — Из Кулунды.
Рудик близоруко вгляделся в кусочек картона, который оказался у него в руках.
— Во-первых, не инквизитор, а экзекутор… — пробормотал он, пытаясь успокоить пылкую и глупую парикмахершу. — Фамилия, правда, странная. Согласен. И она кого-то мне сильно напоминает.
— Он вообще странный, — подтвердила парикмахерша, размазывая платком тушь по щекам.
— Чем же?
— Очень уж сладкий. Ну просто приторный. Такого даже и не съешь. Выплюнешь… Гейбл, — вдруг страшно произнесла она. — Это был Кларк Гейбл!
— Чего? — не понял Белецкий.
— Кларк Гейбл, — простонала несчастная Лидка. — Иностранный артист. Дорогие сигары, набриолиненные усы… и цинизм. Цинизм во всем. Он такой цинизм с тобой совершит, что даже маму родную не позовешь!
Рудик озабоченно прикоснулся пальцами к ее лбу.
— Кажется, началась интоксикация, — сказал он сам себе. — Если к вечеру не прекратится, то надо отправлять в областную больницу. На вот, съешь, — и он высыпал ей на ладонь пару розовых таблеток.
— Кларк Гейбл!.. — не успокаивалась Лидка. — «Унесенные ветром» кино… Знаешь?
— Терпеть не могу, — признался Белецкий. — Хуже сепсиса и перитонита.
— А мне понравилось, — отрезала Дериглазова. — Я даже была влюблена в этого отпетого мерзавца.
— И у тебя от него были дети, — терпеливо добавил хирург. — В астральном смысле.
Лидка всосала в себя таблетки и как-то успокоилась.
— Нет, детей не было, — совершенно серьезно призналась она.
— Значит, он предохранялся. — Рудольф снова взял в руки злополучную визитку. — Кое-что ясно, — промолвил он, подумав. — Фамилия, конечно, вымышленная. Взята с потолка. А вот профессия…
— И профессия, — поспешила подтвердить Лидка.
— Не знаю. Не уверен. Что нам известно об экзекуторах и инквизиторах? — задал он сам себе философский вопрос. — Инквизитор — это, так сказать, идейный глава… Пахан по-нашему. А экзекутор — всего лишь пешка, исполнитель. Глупый мясник. Точнее, топор в чьих-то невидимых руках. Не более того.
— Но мне от этого не легче, Рудя! — и Лидка опять крепко обняла его.
Он почувствовал, что в глубине ее проснулась нежность. Проснулась, как пушистая кошка: выгнулась дугой, села на задние лапы и умыла передней лапкой свою заспанную мордочку.
Белецкий же был как на иголках, опасаясь, что в ординаторскую войдет кто-нибудь посторонний, не ветеринар в юбке, а строгий и злой, как Высший Судия. Тут-то он и расколет их молотком, словно двойной орех.
— Что он тебе сказал, твой экзекутор?
— Что-то про язык. Как он будет гнить, — проворковала Лидка сонным голосом, потому что вся отдалась своей внутренней кошке.
— Я недавно отравился вареным языком в нашем кафе, — припомнил Рудольф Валентинович некстати. — Но выпил тысячелистника. И ничего. Полегчало. Тебе известно такое растение — лох серебристый?
— Ну?
— Вот это ты, — сказал ей хирург. — Тебя просто развели. Разыграли, как последнюю дуру. Как лоха серебристого.
— Думаешь?
— Не думаю, а уверен.
— Выпиши меня отсюда, — она взяла его за пухлое колено. — Мне очень страшно.
— Через день, два… Как положено.
— А если он придет ко мне домой?..
Рудольф, натужно зевнув, выключил телевизор:
— Ты не в себе.
— Зато ты… Ты всегда в себе, — сказала она с обидой.
— Не грузи. Иначе я сейчас засну от скуки.
Она вдруг задумалась. Лицо помрачнело и сделалось менее вульгарным, чем раньше, как если б окна в доме, в котором шел веселый праздник, вдруг погасли, оттого что пьяный монтер вырубил все электричество.
— …Какого пола был мой ребенок?
— Мальчик, — ответил он нехотя.
— А скажи, Рудик, всем женщинам, с которыми ты спал, ты делаешь потом аборты?
Он открыл холодильник и вытащил оттуда банку с пивом:
— Хочешь?
Лидка отрицательно покачала головой.
— Не всем, а только тем, кто залетит по неосторожности… Считайте циклы, — прикрикнул он грозно. — Сколько раз говорить? Считайте циклы, считайте циклы… — нервно дернул кольцо, и банка прорвалась, вылив желтую жижу на пол ординаторской.
— А знаешь, как называется рачок в нашем озере, — пробормотал он, пытаясь справиться с раздражением, — который издает этот скверный запах?.. Артемия салина, — он отряхнул со своих рук капельки пива. — Это ведь чистая поэзия, не правда ли? Какой-нибудь античный Вергилий. Торквато Тассо… Артемия салина… Рачок с большой концентрацией белка Артемия салина… — промычал он сам себе под нос. — Артемия салина… Прекрасная Артемия салина…
Купить книгу на Озоне