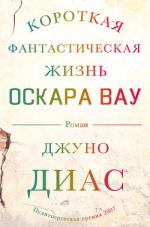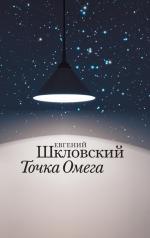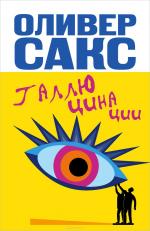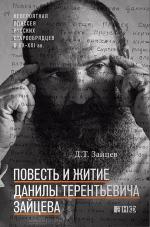- Ирина Сироткина. Шестое чувство авангарда: танец, движение, кинестезия в жизни поэтов и художников. — СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2014. — 208 с.
Вышла монография историка культуры Ирины Сироткиной о переосмыслении «высшей чувствительности» в начале ХХ века. Художники авангарда стали одними из первых, кто оценил потенциал физического действия как источника смысла и экспрессии. Владимир Маяковский свидетельствовал: стихи пишутся в движении, всем телом; Василий Кандинский изучал движение как один из базовых элементов искусства, а Михаил Матюшин использовал кинестезию для «расширения» восприятия. Оспаривая тот факт, что знание-умение иерархически подчинено знанию теоретическому, художники авангарда положили начало «двигательному повороту» в гуманитарном знании.
Предисловие
Так, век за веком — скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства,
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.Николай Гумилев
Авангард — проект не только художественный, но и антропологический, проект по пересозданию человека, обновлению его чувствительности. Искусство авангарда задавало новые образцы восприятия, расширяло человеческие возможности. Художники авангарда — Василий Кандинский, Михаил Матюшин, Казимир Малевич и многие другие — видели задачу искусства в том, чтобы сформировать новое, «высшее» чувство.
Если считать, как заведено еще Аристотелем, что у человека всего пять чувств — зрение, слух, вкус, обоняние и осязание, то новое чувство будет шестым1. Оно — считали художники — откроет человеку доступ к трансцедентному, к иной, высшей реальности, жизни духа. Поиск «высшей чувствительности» стал общим проектом символизма и авангарда. Он объединял, и сейчас еще объединяет, очень разных участников, от мистиков до людей искусства и нейроученых. Поэт-экспрессионист Ипполит Соколов еще в 1920 году писал, что чувств должно быть десять—пятнадцать2, а современные исследователи утверждают, что их еще больше — порядка двадцати3. Во всех случаях речь идет о преодолении человеческих ограничений и поиске новых возможностей, будь то способность видеть сквозь предметы, предсказывать будущее или же воспринимать мир через «вибрации» в конечностях, как паук через паутину. Однако на этих страницах мы не будем рассматривать экстрасенсорное восприятие, ограничившись проверенной сенсорикой.
В истории существовало несколько кандидатов на «шестое» чувство: в XVII веке «сексуальный аппетит», затем «интуиция», «экстрасенсорные способности» и, наконец, «мышечное чувство«4. Именно это последнее в ХХ веке стало претендовать на роль того самого «высшего» чувства — наиболее достоверного, дающего нам непосредственный доступ к миру5. Физиологи в разное время предлагали для него такие термины, как «мускульное чувство», «проприоцепция» и «кинестезия». Речь идет об ощущениях, возникающих, когда человек движется, прикладывает физические усилия или сохраняет позу — что также требует статического усилия, координации и равновесия. «Мышечное чувство» столь же реально, как и предыдущие пять, так как для него установлен орган, который эту чувствительность осуществляет, — специальные рецепторы в мышцах, связках и сухожилиях. Мышечное чувство «изнутри», непосредственно или, как говорят философы, с аподиктической достоверностью демонстрирует человеку: он активен, движется, действует, живет6.
Некоторое время назад стали появляться работы, посвященные «телесности» литературы, «прагматике» письменного высказывания, «поведенческом» характере или «перформативности» литературного творчества7. Многие связаны с проблематикой художественного авангарда как перформативного искусства par excellence. Оно, как пишет мой однофамилец Никита Сироткин, «1) противостоит традиции; 2) <…> релятивирует границу между внутренним и внешним, делая внешнее внутренним и наоборот«8. Тем не менее выводы, полученные авторами, касаются литературы в целом. Благодаря этим работам создан наконец контекст, в котором возможно говорить, что и «у писателей есть тело». Знаком этого стала, в частности, недавняя статья А. И. Рейтблата «Пушкин-гимнаст«9. В ней фамилия «Пушкин», встречающаяся в списках петербургского гимнастического общества, впервые идентифицирована как принадлежащая поэту. Скорее всего, исследователям и раньше попадался на глаза этот список, но никто из них не допускал мысли о том, что «наш великий поэт» мог быть еще и гимнастом. Такова сила стереотипа — привычки мыслить душу и тело раздельно. И хотя теоретически мы знаем, что они едины, картезианскую оптику, сквозь которую мы вот уже пять столетий смотрим на мир, поменять невероятно трудно.
Между тем самим творцам «мышечное мышление» хорошо знакомо. «Мне работается только на воздухе, — признавался Андрей Белый, — и глаз и мышцы участвуют в работе, я вытаптываю и выкрикиваю свои ритмы в полях: с размахами рук; всей динамикой ищущего в сокращениях мускулов«10. Стихи пишутся «всем телом, всем сердцем, всем сознанием» — именно так, как Александр Блок предлагал слушать музыку Революции11.
Танец, движение, кинестезия стали частью авангардного проекта жизнетворчества — создания нового быта, привнесения искусства в жизнь. Вдохновленные Айседорой Дункан — «современной вакханкой», первой ласточкой того «артистического человечества», о котором мечтали Вагнер и Ницше, — интеллектуалы обращались в пляску как в религию. «Обращение» — по-гречески метанойя — означает обретение нового смысла, вплоть до перемены смысла жизни. Так изменялось сознание интеллектуалов, которые через занятия танцем и другими двигательными практиками открывали собственную телесность. Многие, включая Владимира Маяковского, были пластичны и атлетичны, танцевали, занимались спортом, выступали с эстрады, снимались в кино. Андрей Белый с легкостью ходил по перилам балкона многоэтажного дома — об этом вспоминал хорошо его знавший Михаил Чехов. Всеволод Мейерхольд сам прекрасно двигался и одним из первых в театре поставил кинестезию в основание актерского тренинга — своей «биомеханики».
Тему «кинестезия и искусство» можно рассматривать в разных планах. Можно, например, собирать «кинестетические» метафоры — такие как «легкое дыхание» или «босые ноги» (последняя — для выражения непосредственного контакта с землей и миром). Можно изучать произведение искусства с точки зрения заключенных в нем тактильных, кинестетических качеств: даже литературный текст, как напоминает Г.-Г. Гадамер, это текстура, ткань, переплетение нитей12. Кинестезию можно использовать также для создания новых, еще не изведанных ощущений, соединяя ее с другими видами чувств в некие «синестезии» или создавая на основе ее особый вид искусства. Ф. Т. Маринетти выступил с манифестом тактилизма — искусства прикосновения; вместе с художницой Бенедеттой Каппа они создавали тактильные таблицы для «путешествующей руки». А Василий Каменский сочинял свои «железобетонные поэмы», в том числе для пластического исполнения. Наконец, для художника важны собственные кинестетические ощущения от того, что он движется, танцует, занимается спортом, делит объятья. Более всего в книге говорится именно об этом последнем — кинестетической чувствительности как источника особого, неявного вида знания, «знания как», в отличие от «знания что», знания-умения или, как говорили русские формалисты, приема.
Все написанное в книге основано на глубоком убеждении в том, что кроме понятийного мышления существует также мышление в движениях, «мышечное мышление«213. Базой его служит тактильно-кинестетическая чувствительность, сопровождающая любую физическую активность человека. Она имеется уже у человеческого эмбриона — постольку, поскольку тот движется. Кинестезия первична по отношению ко всем другим чувствам, а человеческий язык, напротив, посткинетичен. «Мышечное мышление» — не просто эволюционное приспособление, еще один направленный на выживание адаптивный механизм. Движение, писал классик физиологии Николай Бернштейн, «реагирует как живое существо«14. Бернштейн считал движение «морфологическим объектом», который обладает чувствительностью, реагирует, развивается, инволюционирует — то есть включает, хотя и особым образом, координату времени. Его последователи стали говорить о «живом» движении, которому присущи своя чувствительность, свой логос, разум15. Эта книга — о телесно-кинетическом логосе авангарда, «шестом» — а, может быть, и высшем его чувстве.
1. В этой книге мы выносим за скобки очень большие вопросы: что такое «чувство» вообще и где границы между разными чувствами; см. об этом, например: The Senses: Classical and Contemporary Philosophical Perspectives / ed. F. Macpherson. Oxford, 2013; Smith R. Touch, Movement and the Humanities. Mary Whitman Calkins Lecture at the 122nd APA Annual Convention, Washington, 7–10 August 2014.
2. Соколов И. Бедекер по экспрессионизму // Русский экспрессионизм. Теория. Практика. Критика / сост. В. Н. Терёхина. М., 2005. С. 61–64 (62).
3. См.: Macpherson F. Individuating the Senses // The Senses: Classical and Contemporary Philosophical Perspectives. Oxford, 2013. P. 3–46.
4. Smith R. «The Sixth Sense»: Towards a History of Muscular Sensation // Gesnerus. 2011. Vol. 68. N 1. P. 218–271. Можно еще вспомнить шутку советских времен: «У всех людей — пять чувств, а у советского человека — на одно больше. Шестое — чувство глубокого удовлетворения».
5. Эта гипотеза для своего обоснования нуждается в отдельной книге.
6. См.: Смит Р. Кинестезия и метафоры реальности // Новое литературное обозрение. 2014. № 125. С. 13–29. Некоторые авторы разделяют «чувство активности» и кинестезию; см.: Bayne T. The Sense of Agency // The Senses: Classical and Contemporary Philosophical Perspectives. P. 355–374.
7. Бобринская Е. Жест в поэтике раннего русского авангарда // Хармсиздат представляет. Авангардное поведение. Сб. материалов науч. конф. Хармс-фестиваля 4 в Санкт-Петербурге. СПб., 1998. С. 49–62 (60); Иоффе Д. Прагматика и жизнетворчество (Еще раз о концепции авангарда у М. И. Шапира) // Philologica. 2012. Vol. 9. № 21–22. С. 405–421.
8. Сироткин Н. Немецкоязычный авангард // Семиотика и Авангард: Антология / ред.-сост. Ю. С. Степанов и др. М., 2006. С. 820–825 (820).
9. Рейтблат А. И. Пушкин-гимнаст // Новое литературное обозрение. 2013. № 123. С. 201–217.
10. Белый А. Начало века. М., 1990. С. 137.
11. Блок А. Интеллигенция и революция [1918] // Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 9–20.
12. Гадамер Г.-Г. Философия и литература // Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 142–146.
13. Наболее полно эта точка зрения аргументирована в: Sheets-Johnstone M. The Primacy of Movement. 2nd ed. Amsterdam, 2011. P. 439–447.
14. Бернштейн Н. А. Биодинамическая нормаль удара // Исследования Центрального института труда. 1924. Т. 1. Вып. 2. С. 101.
15. Zinchenko V. P., Gordon V. M. Methodological Problems in the Psychological Analysis of Activity // The Concept of Activity in Soviet Psychology / ed. J. V. Wertsch. New York, 1981. Р. 72–133.
Джуно Диас. Короткая фантастическая жизнь Оскара Вау
- Джуно Диас. Короткая фантастическая жизнь Оскара Вау / Пер. с англ. Е. Полецкой. — М.: Фантом Пресс, 2014. — 384 с.
Роман американского писателя доминиканского происхождения вышел в 2007 году и уже в следующем получил Пулитцеровскую премию. В одной книге Джуно Диаса уместилось столько всего, сколько не найдешь во всем творчестве иного хорошего писателя. Индивидуальная травля школьника Оскара Вау, доброго, но прискорбно тучного романтика и фаната комиксов и фантастики, здесь находит отражение в истории семейства Вау. Во многом автобиографичную книгу Диас написал на «спанглише» – смеси английского, испанского и уличного сленга латиноамериканцев, обосновавшихся в Америке.
ОСКАР — МОЛОДЕЦ Учебу в выпускном классе он начал тучным, оплывшим, с вечной тяжестью в желудке и, что самое ужасное, одиноким, то есть без девушки. В тот год двое его дружков-фанов, Эл и Мигз, благодаря дичайшему везению обзавелись подружками. Девушки были так себе, страшненькие на самом деле, но тем не менее девушки. Свою Эл подцепил в парке Менло. Она сама подошла к нему, похвалялся Эл, и когда она сказала, предварительно отсосав у него, естественно, что у нее есть подруга, которая ужасно хочет с кем-нибудь познакомиться, Эл оторвал Мигза от игры и поволок в кино, ну а дальше все случилось само собой. Через неделю Мигз уже официально был при девушке, и лишь тогда Оскар узнал о том, что происходит. Узнал, когда они втроем сидели у него в комнате, предвкушая очередную забойную авантюру Чемпионов против Смертоносных Дестроеров. (Оскару пришлось притормозить с его любимым «Раздраем», потому что никто кроме него не рвался играть средь постапокалиптических развалин поверженной вирусом Америки.) В первый момент, услыхав о двойном секс-прорыве, Оскар ничего не сказал, только жал и жал на кнопки приставки. Вам, ребята, привалило, пробормотал он очень не сразу. Его убивало то, что они не вспомнили о нем, не подключили его к съему девушек. Он злился на Эла: почему позвал Мигза, а не Оскара? И злился на Мигза, которому девушка таки обломилась. Эл при девушке — это Оскар еще мог понять. Эл (полное имя Эйлок) был одним из тех стройных индейских красавчиков, в ком никто и никогда не опознал бы фаната ролевых игр. Но Мигз с девушкой — такое невозможно себе вообразить; Оскар был потрясен, и его мучила зависть. Мигза Оскар всегда считал еще большим фриком, чем он сам. Прыщи в изобилии, идиотский смех и дрянные почерневшие зубы, потому что в детстве ему давали лекарство для взрослых. А твоя девушка, она симпатичная? — спросил он Мигза. Чувак, ответил Мигз, видел бы ты ее, красавица. Большие охренительные титьки, поддакнул Эл. В тот день та малость, что оставалась у Оскара от веры в жизнь, была сметена направленным ударом РСМ-45. Под конец, не в силах более терпеть эти муки, он жалобно спросил, нет ли у их девушек еще одной подружки.
Эл и Мигз переглянулись поверх экранов. Похоже, нет, чувак.
И тут Оскар кое-что понял про своих друзей, о чем прежде не догадывался (или, по крайней мере, притворялся, что не догадывается). Но теперь на него снизошло озарение, пробравшее его сквозь толщу жира до самых костей. Он уразумел: повернутые на комиксах, балдеющие от ролевых игр, сторонящиеся спорта друзья стыдятся его, Оскара.
Почва поплыла у него из-под ног. Игру он закончил раньше времени, Экстерминаторы обнаружили укрытие Дестроеров почти с ходу — мухлеж, проворчал Эл. Выпроводив друзей, Оскар заперся у себя в комнате, лег на кровать и пролежал несколько часов в полном отупении. Потом встал, разделся в ванной, которую ему больше не приходилось делить с сестрой, поскольку она поступила в Рутгерс, и дотошно оглядел себя в зеркале. Жир повсюду! Километры растяжек! Ужасные выпуклости по всему телу! Он походил на персонажа из комикса Дэниэла Клоуза1. Или на того черненького парнишку из «Паломара» Бето Эрнандеса2.
Господи, прошептал он, я — морлок3.
Наутро за завтраком он спросил мать: я некрасивый? Она вздохнула. Ну, сынок, ты точно не в меня пошел. Доминиканские родители! Их нельзя не любить!
Неделю он разглядывал себя в зеркале в самых разных ракурсах, вникал, не отводя глаз, и в итоге решил стать как знаменитый боксер Роберто Дуран, и никаких отговорок. В воскресенье он отправился к Чучо, и парикмахер сбрил его пуэрто-риканские кудряшки. (Погоди-ка, встрял напарник Чучо, ты вправду доминиканец?) Следом Оскар лишился усиков, потом очков, купив контактные линзы на деньги, заработанные на складе пиломатериалов, а то, что осталось от его доминиканистости, попытался отшлифовать, решив обрести побольше сходства со своими сквернословящими развязными кузенами, — Оскар начал подозревать, что в их латиноамериканской гиперсамцовости и кроется ответ. Волшебного преображения, разумеется, не случилось, слишком многое было запущено. С Элом и Мигзом он снова увиделся на третий день своего добровольного поста.— Чувак, — удивился Мигз, — что это с тобой?
— Перемены, — с напускной загадочностью отвечал Оскар.
— Что, ты теперь на музыку переключился?
Оскар с важностью покачал головой:
— Я на пороге новой парадигмы моей жизни.
Вы только послушайте его. Еще школы не кончил, а уже разговаривает как гребаный студент колледжа.
В то лето мать отправила его с сестрой в Санто-Доминго, и Оскар не артачился, как раньше. В Штатах его мало что удерживало. В Бани он прибыл со стопкой тетрадей и намерением исписать их все от корки до корки. Теперь, когда играть ему не с кем, он попробует стать настоящим писателем. Поездка обозначила своего рода перелом в его жизни. Если мать не одобряла его писанины и гнала из дома «проветриться», то абуэла, бабушка Крошка Инка, Оскару не мешала. Позволяла ему сидеть дома столько, сколько пожелает, и не требовала, чтобы он почаще «бывал на людях». (Она всегда очень боялась за него и сестру. Несчастий в нашей семье и без того хватает, повторяла она.) Не включала музыку и приносила ему поесть каждый день в одно и то же время. Сестра вечно пропадала где-то со своими буйными местными друзьями, всякий раз выскакивая к машине в бикини, когда за ней заезжали, чтобы отвезти в ту или иную часть острова обычно с ночевкой. Но Оскар сидел дома как пришитый. Когда кто-нибудь из родни являлся его навестить, абуэла выпроваживала гостя повелительным взмахом руки. Разве не видите, мучачо, мальчик работает! А что он делает? — интересовались опешившие родственники. Гения из себя делает, вот что, горделиво сообщала Ла Инка. А теперь байансе, уходите. (Много позже Оскар сообразил, что эти самые родственники могли бы найти ему сговорчивую девушку, снизойди он до общения с ними. Но это была бы совсем другая жизнь, и что толку о ней жалеть.) По вечерам, когда он уже не мог написать ни слова, Оскар садился на крыльце вместе с бабушкой, наблюдая за жизнью улицы и слушая перебранки соседей. Однажды вечером, ближе к концу его пребывания в Бани, абуэла разоткровенничалась: твоя мать могла бы стать врачом, как твой дедушка.
— Почему не стала?
Ла Инка покачала головой. Она смотрела на фотографию его матери, сделанную в первый день в частной школе; этот по-доминикански торжественный снимок бабушка особенно любила.
— Почему, почему… Ун мальдито омбре. Чертов мужчина.
За лето Оскар написал две книги о битве юноши с мутантами в эпоху конца света (ни одна не сохранилась) и сделал немыслимое количество заметок, включая всякие названия, которые пригодились бы для его научно-фантастических и просто фантастических сочинений. (О семейном проклятье он слышал тысячи раз, но, как ни странно, писать об этом ему и в голову не приходило. Ну, то есть, что за фигня, любая латиноамериканская семья проклята, нашли чем удивить.) Когда им с сестрой пришло время возвращаться в Патерсон, Оскар почти горевал. Почти. Абуэла положила ладонь ему на темя, благословляя. Куидате мучо, ми ихо, береги себя, сынок. И знай, на свете есть душа, что будет любить тебя всегда.
В аэропорту Кеннеди дядя Рудольфо не сразу узнал его. Отлично, сказал тио, с неодобрением поглядывая на физиономию племянника, теперь ты похож на гаитянца.
После Санто-Доминго Оскар встречался с Мигзом и Элом, ходил с ними в кино, обсуждал братьев Эрнандес, Фрэнка Миллера и Алана Мура, но их дружба в полном объеме так и не восстановилась. Он слушал их сообщения на автоответчике и сдерживал себя, чтобы не побежать к ним в гости. Виделся с ними раз, от силы два в неделю. Оскар сосредоточился на своих романах. Потянулись нудные недели в одиночестве — только игры, книги и сочиненные строчки. Ну да, вместо сына у меня отшельник, горько жаловалась мать. По ночам, когда не мог заснуть, Оскар пялился в дурацкий ящик; особенно его заворожили два фильма, «Зардоз» (который он смотрел со своим дядей, прежде чем на повторе его не прогнали спать) и «Вирус» (японское кино про конец света с обалденной киской из «Ромео и Джульетты»). Финал «Вируса» пронял его до слез: японский герой достигает Южного полюса пехом по андийским хребтам, стартовав в Вашингтоне, и все ради женщины своей мечты. Я работаю над моим пятым романом, отвечал он приятелям, когда они спрашивали, куда он пропал. Это затягивает.
Видите? Что я вам говорил? Мистер Студент.
Раньше, когда его так называемые друзья обижали его или, пользуясь его доверчивостью, вытирали о него ноги, он безропотно терпел из страха перед одиночеством, улыбаясь и презирая себя. Но не теперь. Если за все годы, проведенные в школе, ему и было чем гордиться, так именно переменой в отношениях с Элом и Мигзом. Он даже рассказал об этом сестре, когда она приехала навестить семью, и услыхал похвальное «ну ты даешь, Ос!». Он наконец-то проявил определенную твердость, а значит, и самоуважение, и, хотя ему было больно, он понимал, что это охренительно хорошая боль.
1 Дэниэл Клоуз в своих популярных комиксах «Призрачный мир» и «Луч смерти» с тонкой иронией рассказывает графические истории не о супергероях, а об обычных людях.
2 Графический роман «Паломар» Гилберта Эрнандеса начал выходить в 2003 году, действие его развивается в выдуманном латиноамериканском городе Паломар. С 2003 года комикс «Паломар» уже традиционно оказывается во всех списках лучших графических романов всех времен.
3 Впервые морлоки появились на страницах «Машины времени» Герберта Уэллса, а впоследствии стали одними из основных обитателей научно-фантастических миров. С виду они напоминают людей, но боятся солнечного света, обитают под землей, а наружу вылезают исключительно в поисках пропитания — человечины.
Нельзя сказать короче
- Линор Горалик. Это называется так (короткая проза). — М.: Dodo Magic Bookroom, 2014. — 384 с.
Описывая содержание одной из своих повестей, Линор Горалик, финалистка премии «НОС» 2014 года, как-то сказала, что это «фольклор, собранный в аду». Для прозы, включенной в сборник «Это называется так», — а в него входят циклы «Короче:» и «Говорит:», повести «Валерий» и «Вместо того» и пьеса «Свидетель из Фрязино» — это определение подходит как нельзя кстати.
Циклы жизненных оксюморонов «Короче:» и «Говорит:» становятся воплощением феномена короткой прозы. В очень небольшой промежуток времени — в текстовом эквиваленте: от нескольких строк до нескольких страниц — укладывается сильное впечатление. От такого концентрата и смеешься громче, и плачешь горше. Отличие этих циклов друг от друга — в способе подачи информации.
«Говорит:» построен на имитации спонтанной речи. Для него ведущим приемом становится сказовая манера повествования. Каждая зарисовка начинается с диалогового тире и отточия, символизирующих существование этих текстов в более широком контексте. Линор просто придумывает отрывки из диалогов, которые так никогда и не прозвучали, изредка опираясь на чьи-то слова, произнесенные в реальности. Впечатление от цикла такое же, как от фильма Бориса Хлебникова «Пока ночь не разлучит»: наша жизнь — это фарс, наша жизнь — это фарш.
В «Короче:» главным средством выразительности является предельная детальность изображения. Этот цикл составляет девяносто один маленький рассказ, у каждого из которых есть название и повествователь; и зачастую именно его манера вызывает ощущение постороннего, отстраненного наблюдения, но при этом проникновения во все разговоры и чувства героя.
Уже потом, в раю, им довелось побеседовать о том, имело ли это смысл, и по всему получалось, что — нет, не имело.
Подобные высказывания вызывают у каждого исключительно личные воспоминания и приближаются к стихам, имеющим такой же механизм воздействия: текст опирается не на содержание, а на переживание этого содержания. Если рассматривать рассказы с формальных позиций, например сюжета, то суть всего сборника сведется к описанию какого-то бессердечного бреда. На самом же деле литературу более человеческую, чем у Линор Горалик, надо еще поискать. Это становится понятно, когда вдруг тоскливо засосет под ложечкой: вроде и люди дурные, и ведут себя безобразно, а все равно жалко их всех до невозможности. Оттого эту прозу так сложно читать, что она строится на бесконечном парадоксе малой формы и большого содержания, сюжетов триллера и переживаний драмы, грустного и веселого — из огня да в полымя — в соседних текстах. От подобного авторского блицкрига дух захватывает.
–…в общем, пятнадцать лет. То есть она ходила еще в high school. А у них как раз начали преподавать старшим классам Safe Sex and Sexual Health, когда она на седьмом месяце была. И всем — и девочкам, и мальчикам, — надо было носить с собой куклу круглые сутки, чтобы понять, что такое ответственность за ребенка. Вот она и носила — в одной руке живот свой, в другой куклу.
Мир, выжатый до театра абсурда, — это и есть декорации к книге Горалик. Но если у театра абсурда своя особенная, по специальным законам построенная вселенная, в которую читателю-зрителю нужно погрузиться, то у Горалик реальность та же, что за окном. Дистанция сокращена до минимума, поэтому сознанию приходится вынести удар даже большей силы, чем при знакомстве с творчеством абсурдистов. Это бесконечная жизнь на грани нервного срыва.
–…когда он меня любил, я не ревновала, а когда не любил — ревновала. Начинала звонить ему, доставать себя и его, пока один раз за мной скорая не приехала.
Короткая проза Линор Горалик удобна в употреблении: перечитывание не отнимет много времени. По ее книгам можно отследить степень собственного взросления и развития: непонятное через несколько лет неожиданно разъяснится, а в прежде абсолютно конкретных зарисовках обнаружатся новые коннотации. Это очень плотные и насыщенные тексты, даже тесные: от них сложно убежать, но если не сделать этого вовремя, возможна передозировка. Частое сердцебиение, головная боль, слезоточивость — таковы симптомы, сопровождающие чтение текстов Горалик.
Повесть «Валерий» объемом чуть более полусотни страниц, например, лучше читать в течение месяца, не меньше; никто ведь не хочет сойти с ума преждевременно. Не стоит предпринимать и марш-бросок по всему сборнику: «Вместо того (военная повесть)» и «Свидетель из Фрязино (пьеса, задуманная как либретто оперы)» провоцируют не самые патриотические мысли о сущности войны и ежегодных государственных праздников. Каждый элемент этого сборника самоценен, поэтому перемешивание всего и сразу противопоказано.
Иногда перед демонстрацией некоторых объектов современного искусства делают предупреждение: «Беременным женщинам, особо впечатлительным лицам, а также людям с неустойчивой психикой вход запрещен». На обложке этой книги стоило бы поместить подобную надпись — во избежание несчастных случаев.
Алексей Макушинский. Пароход в Аргентину
- Алексей Макушинский. Пароход в Аргентину. — М.: Эксмо, 2014.
Ставший финалистом премии «Большая книга» Алексей Макушинский, кажется, не признает короткие предложения и абзацные отступы. Однако стиль автора едва ли помешает прочтению «Парохода в Аргентину». Действие романа разворачивается в конце XX века в Европе: главный герой отправляется во Францию, чтобы встретиться со всемирно известным архитектором Александром Воско – другом легендарных Миса ван дер Роэ и Жана Балладюра. Воско олицетворяет собой ушедшую в прошлое Россию, величавую и гордую, оказавшуюся в эмиграции. После падения монархии на одной шестой части Земли возникло «царство дракона». Но все ли уехавшие были правы и правы ли оставшиеся в нем?
ГЛАВА 6
I was the world in which I walked, and what I saw
Or heard or felt came not but from myself;
And there I found myself more truly and more
strange.Wallace Stevens1
Грибы в Олимпийском парке в основном были древесные, особенно в дальней его части, через которую мы шли к холму и стадиону от боковой улицы, где я поставил машину; из всех латинских и нелатинских названий, произнесенных Пьером Воско, я запомнил только иудино ухо, в латинском своем варианте (Auricularia auricula-judae) получающее странное удвоение, как бы дополнительный завой, вторую, тоже ушную, раковину; так названными оказались ухообразные, в самом деле, висло— и лопоухие, прозрачно-склизкие, просвеченные солнцем, семейственные существа, к которым Пьер Воско, удовлетворенно крякнув, устремился по сыроватой возле канала траве. Еще больше, конечно, было сморщившихся созданий из той породы, объяснил мне Pierre Vosco, которую по-русски зовут без долгих рассуждений опятами, по-французски armillaires, хотя на самом деле все они относятся к очень разным родам и семействам; на высоких, в два или три человеческих роста, пнях, которые довольно часто встречаются почему-то возле мюнхенских рек и каналов, на осязаемо-волокнистой, живым мхом покрытой, живым плющом увитой коре торчали они желтыми, бурыми, розоватыми гроздьями; внутренняя плоть их была сухой, твердой, известково-белой, напомнившей мне ту замазку на окнах, между стеклом и рамой, которую в детстве мы отдирали пальцами, на даче где-нибудь, когда она рассыхалась, и затем долго крошили в руках, оставляя белые отметины на полу, на диване. Что же до Олимпиады 1972 года, подумал и сказал я Петру Александровичу, то это была, пожалуй, единственная Олимпиада, не считая московской, которую я вообще заметил, запомнил. Для предыдущих я слишком был мал, а последующие уже не интересовали меня. В 1972 году мне было двенадцать лет, я ходил, смешно вспомнить, в какую-то спортивную, как тогда это называлось, секцию, в которую, скорее, заставляли меня ходить в бесплодной и абсурдной надежде, что из увальня и лежебоки я чудесным образом превращусь в лихого и легкого прыгуна, бегуна, сжав зубы и собрав волю в кулак побивающего рекорды изумленных товарищей, из Обломова в Штольца, из Пьера Безухова в князя Андрея… чудеса, конечно, случаются, но они случаются сами, по собственному своему произволу, тогда и там, где они хотят, не там и не тогда, когда мы хотим этого. Чудом, хотя и крошечным, — рассказывал я Пьеру Воско, — был скорее значок этой мюнхенской Олимпиады, кем-то мне привезенный из мифической заграницы. Само слово Мюнхен там, за железным занавесом, отзывалось чем-то чудесным, воздушно-недостижимым. Значок этот остался в памяти голубеньким, вверх вытянутым прямоугольником со спиралевидной, улиточною эмблемой. Я подарил его другому мальчику, на три или даже четыре года старше меня, то есть, в моих тогдашних глазах, почти взрослому и воплощавшему все то, чем я не был, побивавшему рекорды и собиравшему волю в кулак, видевшему мое восхищение им и чуть-чуть, пожалуй, меня опекавшему, ко мне снисходившему. Он прицепил значок к майке и гордо бегал с ним по гаревой дорожке, гордо прыгал с шестом. У него волосы падали на лоб косой прядью, трясшейся от бега и прыга, намокавшей от пота. Вот не могу только вспомнить теперь его имени. А на другой день, в раздевалке, он стал душить меня шарфом, при всех. Из этих всех никто не вмешался. Я замотал шарф вокруг шеи и собирался надеть пальто, когда он вдруг схватил этот шарф за оба конца, повалил меня на пол и молча, своими сильными, с отчетливо выступавшими костяшками пальцев руками принялся затягивать у меня на шее петлю, так что, уже задыхаясь и почти теряя сознание, я очень ясно видел, навсегда запомнил его склоненное надо мною, с прыгавшей прядью и безумными, злыми, смеющимися глазами лицо, и вскоре после этого я перестал ходить в спортивную секцию, чуда не случилось, Обломов остался Обломовым, но самым поразительным кажется мне теперь то, что в свои тогдашние двенадцать лет я как будто и не слышал о теракте во время этой Олимпиады, не могу, во всяком случае, вспомнить, чтобы слышал о нем тогда, — рассказывал я Пьеру Воско, то ли потому, что советская пресса вообще говорила о нем вполголоса, впрямую одобрить его не решаясь, но и осуждать не желая — все-таки палестинцы были закадычные друзья всех советских людей, рабочих, колхозников и трудовой интеллигенции в придачу, а израильтяне по определению плохие, вообще евреи и даже, по большому счету, жиды, — то ли потому, что меня это просто не интересовало, а интересовал только бег, прыг и скок, что, впрочем, маловероятно, поскольку, кажется мне теперь, в двенадцать лет я был куда более политизирован, чем в двадцать или, например, в сорок пять, и тогда же, например, или незадолго до того случившийся уход американских войск из Вьетнама спровоцировал меня, все в той же патетической раздевалке, на антисоветские высказывания, исполненные горячей до слез любви к империализму и американской военщине, на что мой будущий душитель, тряхнув косой прядью, пробурчал, обращаясь ко всем прочим полуодетым участникам сцены, что он в мои годы заботился только о том, где взять девять копеек на мороженое, а вовсе не о судьбах Вьетнама, Лаоса или Камбоджи. Все это теперь кажется сном, но все это вправду было со мною. Пьер Воско сообщил мне в ответ, что он никогда, наверное, не видел своего отца плачущим, но все же, или так ему теперь кажется, заметил в его глазах подозрительную влагу, когда стало ясно, что первоначальное известие об освобождении заложников было ошибочным и что они все погибли при бездумной и бездарной попытке их освобождения, предпринятой растерявшимися баварскими полицейскими. Отец его любил Мюнхен, несколько раз бывал здесь в шестидесятые, семидесятые годы, нарочно ездил сюда перед самой олимпиадой, чтобы посмотреть на стадион и выразить свое восхищение его создателям, Фрею Отто, придумавшему гениальную крышу, и Гюнтеру Бенишу, придумавшему все остальное. Отец хорошо знал их обоих, он сам, Пьер Воско, встречался с Бенишем несколько раз, даже участвовал с ним и его коллегами в одном совместном проекте. Стадион был весь виден нам с той, на развалинах и обломках, погибших надеждах и утраченных иллюзиях возведенной горы, с которой, если смотреть в другую сторону, так ясно в тот день видны были снежные горы, так ясно виден был, на фоне гор, город. Сверху, хотя мы совсем близко от него находились, стадион за озером и лужайкой казался не очень даже большим, с его распластанными шатрами, скорее маленьким, скорее игрушечным, во всех смыслах слова, не для олимпийских, вообще спортивных, но для детских и подлинных игр предназначенным, тех ранних и лучших игр, способность к которым мы навсегда теряем, вступая на путь состязания, тщеславия и борьбы… дальше, за ним, видны были здания Олимпийской деревни, место трагедии. Шамаханские шатры, сказал Пьер Воско. Это не его слова, это он нашел в отцовских записях… или, может быть, на обороте одной из фотографий, сделанных А.Н.В., он точно уже не помнит. А.Н.В. фотографировал очень много, в конце жизни особенно; вполне всерьез занимался фотографией; среди его снимков есть, скажем просто, шедевры… Шатры и горы, говорил Пьер Воско, поворачиваясь обратно к горам. Не совсем тот же рисунок, но все же сходства нельзя не заметить, не правда ли? Это моему отцу было близко, то есть это была вообще его самая заветная мысль. Архитектура воспроизводит природные формы и вписывается в ландшафт. Он пропагировал, нет, пропагандировал это еще до войны, когда никто в Европе не хотел его слушать. В Америке был, конечно, Фрэнк Ллойд Райт с его органической архитектурой, да и в Европе что-то похожее намечалось в двадцатые, потом замерло, возобновилось где-то, сказал бы я, в середине пятидесятых годов. Тогда и наступил его звездный час, шестидесятые, семидесятые, лучшие годы в жизни моего отца, как я теперь понимаю. Вас это удивляет? Нет, сказал я, почему это должно удивлять меня? Потому что ему было пятьдесят девять в шестидесятом и шестьдесят девять в семидесятом году… Он строил до самого конца, между прочим, и последние работы, может быть, самые лучшие, самые гармоничные… Шестидесятые годы ему как-то были сродни. Он был опять молодой и счастливый, как ни странно, в свои шестьдесят и семьдесят, а время ведь тоже было молодое, живое. Он строил тогда по всему миру, в Японии, в Америке (Северной). Нет, конечно, ни в каких студенческих волнениях он не участвовал, отвечал П.А.В. снисходительно, улыбаясь в усы, но студентам скорее сочувствовал. Он ведь сам был немножко хиппи. Всегда был немножко хиппи, а в это время даже стал одеваться как хиппи, не совсем как хиппи, конечно, но все-таки бросил носить галстуки и стричься тоже стал очень редко. Я хорошо помню, как он вернулся из Аргентины, рассказывал Pierre Vosco, когда мы спускались с ним к стадиону. Я почемуто решил его встретить в Марселе. Мне было пятнадцать лет, когда он уехал, а когда он вернулся, уже двадцать пять. Это был март… или апрель?.. шестидесятого года, то есть они уплыли из Аргентины в начале осени, а приплыли в начало весны. Я сразу узнал его, но не уверен теперь, по собственным ли воспоминаниям или все же по фотографиям. В конце пятидесятых годов во всех архитектурных журналах были снимки его моста в Рио-Давиа, его музея, его вокзала, его домов, его парков, его самого на фоне этого музея, моста. Вивиане было три года, она капризничала и не хотела сходить по трапу. Мария показалась мне, когда я впервые ее увидел, ослепительной восточной красавицей… Самое смешное было потом, когда таможенники принялись за их багаж, наполовину состоявший из камней, ракушек и обглоданных морем веток. А.Н.В. всю жизнь собирал такие вещи. Лиц таможенников, говорил, смеясь в свои усы, Pierre Vosco, не забуду уже никогда. Один из них был совершенно комический персонаж, напоминавший тех толстяков, которых Чарли Чаплин (Шарло) использовал в эпизодических ролях, чтобы они оттеняли его собственные трюки и выходки. Чиновник этот полчаса, наверное, тряс животом и щеками, давясь от хохота, перебирая переложенные соломой ракушки, собранные А.Н.В. на берегу Атлантического океана. Потом еще полчаса, и, по-моему, нарочно так долго, ставил со всего размаху штампы на каких-то бумагах, прищелкивая языком и подмигивая коллегам, чтобы они, значит, тоже полюбовались на чудака с французским паспортом и аргентинской женой, привезшего из Нового Света чемодан, набитый камнями и палками.
1 Я сам был тем миром, где бродил, и то, что я видел, слышал, ощущал, исходило от меня самого; там я обрел себя иного, подлинного и незнакомого. Уоллес Стивенс.
Евгений Шкловский. Точка Омега
- Евгений Шкловский. Точка Омега.— М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 400 с.
В издательстве «НЛО» вышел новый сборник прозы писателя и литературного критика Евгения Шкловского. В центре внимания автора человек, ищущий себя в бытии, во времени, в самом себе, человек на грани чего-то иного даже в простых житейских ситуациях… Реалистичность и фантасмагория, драматизм и ирония создают в «Точке Омега» причудливую атмосферу полусна-полуяви, где ясность и четкость картинки лишь подчеркивают непредсказуемость жизни.
Поющая душа
1 Я вижу, как она плачет.
Плачет, вытирает глаза то платочком, то тыльной стороной ладони, низко наклоняет голову, стесняясь своего
плача. Интересно все-таки устроен человек. Кто бы мог
подумать, что завяжется такая ниточка, протянется через годы и страны, через… Даже трудно сказать, через
что… Впрочем, если угодно, то и через смерть, и через
пустоту…Мне видится тьма, изредка разрываемая звездными
сполохами, туманная млечность, и внезапно — круг ослепительного света, как на сцене, когда тебя выхватывает
из темноты мощный луч юпитера и ты один на один
с замершим залом, пока еще почти не различимым. Уже
прозвучали первые аккорды, уже родилась мелодия, ты
с волнением готовишься взять первую ноту, разорвать эту
набухшую тишину… Связки напряглись, откуда-то из глубины на двигается, нарастает первый, самый важный, самый
главный звук, которому назначено отдернуть завесу, опрокинуть плотину немоты, осенить, покорить пытающуюся
жить самостоятельно музыку. Слиться с ней, чтобы вместе
сотворить чудо гармонии.Музыка — не от мира, а человеческий голос — прорыв
туда, в запредельное, полет в стратосферу, в неизведанные пространства, которые вдруг оказываются близкими
и одушевленными.Да, голос в согласии с музыкой способен творить чудеса.
Я видел это, еще когда пел в нашей маленькой синагоге
в Черновцах. Лица прихожан буквально преображались —
столько в них появлялось нового, трогательного, возвышенного, печаль перемежалась с надеждой, радость
с грустью, глаза загорались любовью… Люди становились
нежными и кроткими, как ягнята, а то вдруг в их лицах
возникали алые отблески пламени — не того ли самого,
каким вспыхнул перед Моисеем терновый куст, сполохи
огненного столпа, что вел ночью народ Израилев через
пустыню из египетского плена?Добро бы еще она слышала мое пение в реальном исполнении — без шорохов, потрескиваний и прочих изъянов
старой записи. Только в живом голосе первозданная чистота и глубина, только в нем можно расслышать душевную самость, которая доверчиво и страстно открывается миру.Увы, время нанесло на звук свою окалину. Но эта женщина слышит. Душа слышит душу даже через время и не-бытие, не это ли и есть прообраз вечной жизни, ее отсвет
для тех, кто еще влачит земное существование?Впрочем, не так. Не влачит — живет! В этом слове кроется великая и сладчайшая тайна. Жизнь, какая ни есть,
так ненадолго дарованная человеку, — прекрасна. Я это
понял, впервые услышав музыку и ощутив прилив звука
к горлу, звука, который должен был стать и стал песней.
Только жизнь, только явь и свет! Даже когда музыка печальна и исторгает слезы, а песнь вторит ей тоскующими,
безысходными словами, этот свет все равно пробивается,
окрыляет душу, уносит ее в те волшебные сферы, где над
всем торжествуют великое «есмь» и великое «да».Не знаю, что уж произошло у этой женщины, но в том
крохотном зальце в гигантском незнакомом городе, где
мне не привелось побывать, среди немногих собравшихся послушать записи моих выступлений она выглядела
растерянной. Судя по всему, она оказалась здесь впервые.
Видимо, ей нужно было куда-то выйти из своего одиночества, оторваться от семейных или каких-то других неурядиц, просто побыть среди людей.Возможно, она уже кое-что слышала про эти музыкальные лекции, да и не столь важно. Ну что ей до моей так
и несложившейся жизни, до всех моих удач и поражений,
которых было гораздо больше и которые, покатившись
снежной лавиной, в конце концов слились в одну-единственную, все обрушившую катастрофу? Что ей до нее?Впрочем, это я так, пустое брюзжание. На самом
деле тут-то, возможно, и кроется загадка человеческой
души — в способности раскрываться и откликаться навстречу далекому, принимать его в себя поверх всяких
барьеров. Конечно, музыка — великая вещь, в основном
это ее заслуга. Ну и, не буду скромничать, мой голос тоже
чего-то стоил, им восхищались многие, с нетерпением
ждавшие моих выступлений, готовые за любые деньги
покупать билеты на концерты, даже не раз смотревшие
жалкие (сам это понимаю) фильмы с моим участием.Воистину неисповедимы пути. Робко ступает она на порог Еврейского общинного дома. Что делает здесь эта крещеная православная русская? Она поднимается по широкой
лестнице на третий этаж в читальный зал библиотеки, она
спрашивает у худощавой приветливой библиотекарши
материалы не о ком-нибудь, а обо мне.Ей мало слушать записи. Ей хочется побольше узнать:
каким я был, как жил, чему отдавал предпочтение? Про все,
что сопровождает нас в земных странствиях. Голос трудно
отделить от человека. Не значит ли это, что и в самом певце,
в глубинах его существа кроется первоисточник? Вроде как
и сама личность должна быть какой-то необыкновенной.Еще одна иллюзия.
Но ведь откуда-то же берется в этом голосе, в его
тембре, в его поразительных модуляциях, в его объемности, силе и свободе нечто, к физиологии не имеющее
отношения?А может, она хочет ближе узнать мою религию, почувствовать мою веру, где, помимо природной одаренности, как
она предполагает, таятся ключи к моей певческой уникальности. Она хочет узнать ближе нашего Б-га, хотя разве Он
только наш?А был ли я таким уж верующим? Не знаю. Моей верой
была музыка, в самые лучшие, самые вдохновенные минуты, когда душа вся растворялась в пении (тоже своего
рода транс), когда буквально сгораешь в охватившем тебя
пламени и вправду ощущаешь себя в единении с чем-то
великим и непостижимым.Незабываемое, неповторимое переживание, которое
хочется длить и длить сколько хватит сил! И откуда-то эти
силы берутся, словно их черпаешь из какого-то поистине
чудесного кладезя.Наверно, это состояние может передаваться, заражать
других. Женщины вообще эмоциональней, чувствительней,
восприимчивей к такого рода вещам. Она же способна слушать мое пение бесконечно — возясь на кухне, пришивая
оторвавшуюся пуговицу, занимаясь привычными обыденными делами. Или, наоборот, замерев и закрыв глаза,
словно что-то видит там, в облаках своих чувств и мыслей.
Лица ее в эти минуты будто касается луч солнца.Кто-то скажет: типичный фанатизм, кто-то усомнится
в правильности такого слушания — ведь музыка требует
определенного настроя, внутреннего сосредоточения.И тем не менее.
2 Голосом природа действительно одарила меня редкостным. Знатоки сравнивали с самыми великими певцами,
но, увы, при этом я был лишен прочих далеко не лишних
качеств. Маленький рост и вообще невзрачность отняли
у меня возможность петь в опере — несколько спектаклей,
и всё, а ведь я обожал оперу, восхищался знаменитыми
певцами, мечтал петь на сцене…Не сложилось.
Продюсеры и режиссеры, отдавая должное моим уникальным вокальным данным, так и не смогли преодолеть
диктата зрелищности. Не подходил я им. Утешением стали
сольные концерты и, конечно, радио, при, увы, тогдашнем
акустическом несовершенстве.И все-таки я познал вкус славы, хотя, честно говоря, не
очень к этому стремился. Конечно, любой артист жаждет
признания, настоящего, безраздельного. А чего больше
всего мог хотеть низкорослый некрасивый еврей из провинциального захолустья? Еврей, запуганный историей
своего богоизбранного народа, народа-изгоя, постоянно
опасающийся очередного унижения или даже зверства.
Тошнотный, тлетворный дух кровавых кишиневских погромов еще носился в воздухе — об этом помнили и те, кто
слушал мое пение в черновицкой синагоге, где все начиналось, помнили и забывали, молились и черпали забвение.
Голос уводил их в другой, чудный мир. Страх и отчаянье
отступали.А мне, мне тоже хотелось, может, даже и не признания…
просто — любви. Да, именно любви, большой, безраздельной, самопожертвенной. Такой, какую может дать, наверно,
только женщина. Или любовь Б-га, но не суровая ветхо-
заветная, а кроткая и всепрощающая. Такая, для которой
несть ни эллина, ни иудея.Влекло и другое — мысль, что мой голос, этот бесценный и, увы, преходящий, как все смертное, дар, принадлежит не только мне, что он нужен другим, жаждущим
преображения, причащения чему-то высшему.В какое-то мгновение помстилось, а, впрочем, возможно, именно так и было: вся Германия, родина великой
музыки и великих музыкантов, утонченная ценительница
искусств, у моих ног. Взыскательный Берлин, где я появился незваный-непрошеный, сдался, уступил. Музыка
сама по себе страсть, а с голосом она больше, чем страсть,
она — молитва.Да, был миг, когда так и показалось: мой голос, мое пение зажгли пламя в душах слушателей, в нем должны были
расплавиться все различия между людьми — здоровыми,
больными, немцами, евреями, поляками, русскими… Одна
общая человеческая душа — возвышенная, прекрасная,
какая только и могла быть угодна Б-гу. Только такая и способна исполнить свое предназначение.Увы, как же я заблуждался!
Ходил слух, что мое пение слушал даже главный изверг,
сумевший погрузить сытую, благополучную Европу в мрак
и хаос. Он еще только подбирался к власти, только раскидывал свою паутину, еще только варил в своем дьявольском
котле ядовитый дурман.Между тем уже нельзя было петь ни на сцене, ни на
радио — нужно было срочно бежать из сатанеющей Германии, где начинались гонения и расправы. Успех, слава?
Пустяки, тлен… Зверю крови и почвы требовались жертвы.
Гекатомбы жертв.Увы, здесь уже верховенствовала другая музыка. Гимны,
марши и под сурдинку бесовской хохоток с подвизгом,
подвыванием и кряком. Ночь и шабаш…Хорошо, нашлись люди, которые поняли это и помогли вовремя уехать. Франция, Швейцария… Однако даже
в свободной Швейцарии не удалось избежать лагеря —
пусть и не концентрационного, не лагеря смерти, где людей
превращали в жалких рабов, мучили и педантично стирали
в прах. Но и лагерь для беженцев, для перемещенных лиц
не был пансионом. Все, кто оказался здесь, томились и бедовали, чувствуя себя шлаком, который не выбрасывают
только из милости.За меня хлопотали: как же, все-таки известный певец!
Но тех, кто заправлял делами, не слишком это волновало.
А когда я, изнуренный всеми передрягами, серьезно занемог,
увы, никто не поспешил с помощью…Так все и кончилось, остались только голос и песни…
С шипением и хрипотцой старых звукозаписей, которым
эта женщина так вдохновенно внимает. Иного слова, пожалуй, и не подберешь. Именно вдохновенно. Ей не помеха
потрескиванья, шуршание, шорох… Она внимает самому
важному — именно тому, что способна услышать только
одаренная, поющая душа.
Дина Рубина. Русская канарейка. Блудный сын
- Дина Рубина. Русская канарейка. Блудный сын. — М.: Эксмо, 2014.
В середине ноября на книжных полках магазинов появится заключительная книга трилогии «Русская канарейка» Дины Рубиной — «Блудный сын». Герои романа — Леон Этингер, уникальный контратенор и бывший оперативник израильских спецслужб, и Айя, глухая бродяжка, — вместе отправляются в лихорадочное странствие через всю Европу. В центре повествования трилогии — поколения двух очень разных семейств: открытых одесситов и замкнутых алма-атинцев. Два этих разных мира связывает один виртуозный маэстро — кенарь Желтухин и его потомки.
Луковая роза
1 Невероятному, опасному, в чем-то даже героическому путешествию Желтухина Пятого из Парижа в Лондон в дорожной медной клетке предшествовали несколько бурных дней любви, перебранок, допросов, любви, выпытываний, воплей, рыданий, любви, отчаяния и даже одной драки (после неистовой любви) по адресу рю Обрио, четыре.
Драка не драка, но сине-золотой чашкой севрского фарфора (два ангелочка смотрятся в зеркальный овал) она в него запустила, и попала, и ссадила скулу.
— Елы-палы… — изумленно разглядывая в зеркале ванной свое лицо, бормотал Леон. — Ты же… Ты мне физиономию расквасила! У меня в среду ланч с продюсером канала Mezzo…
А она и сама испугалась, налетела, обхватила его голову, припала щекой к его ободранной щеке.
— Я уеду, — выдохнула в отчаянии. — Ничего не получается!
У нее, у Айи, не получалось главное: вскрыть его, как консервную банку, и извлечь ответы на все категорические вопросы, которые задавала, как умела, — уперев неумолимый взгляд в сердцевину его губ.
В день своего ослепительного явления на пороге его парижской квартиры, едва он разомкнул наконец обруч истосковавшихся рук, она развернулась и ляпнула наотмашь:
— Леон! Ты бандит?
И брови дрожали, взлетали, кружили перед его изумленно поднятыми бровями. Он засмеялся, ответил с прекрасной легкостью:
— Конечно, бандит.
Снова потянулся обнять, но не тут-то было. Эта крошка приехала воевать.
— Бандит, бандит, — твердила горестно, — я все обдумала и поняла, знаю я эти замашки…
— Ты сдурела? — потряхивая ее за плечи, спрашивал он. — Какие еще замашки?
— Ты странный, опасный, на острове чуть меня не убил. У тебя нет ни мобильника, ни электронки, ты не терпишь своих фотографий, кроме афишной, где ты — как радостный обмылок. У тебя походка, будто ты убил триста человек… — И встрепенувшись, с запоздалым воплем: — Ты затолкал меня в шкаф!!!
Да. В кладовку на балконе он ее действительно затолкал, — когда Исадора явилась наконец за указаниями, чем кормить Желтухина. От растерянности спрятал, не сразу сообразив, как объяснить консьержке мизансцену с полураздетой гостьей в прихожей, верхом на дорожной сумке… Да и в кладовке этой чертовой она отсидела ровно три минуты, пока он судорожно объяснялся с Исадорой: «Спасибо, что не забыли, моя радость, — (пальцы путаются в петлях рубашки, подозрительно выпущенной из брюк), — однако получается, что уже… э-э… никто никуда не едет».
И все же вывалил он на следующее утро Исадоре всю правду! Ну, положим, не всю; положим, в холл он спустился (в тапках на босу ногу) затем, чтобы отменить ее еженедельную уборку. И когда лишь рот открыл (как в песне блатной: «Ко мне нагрянула кузина из Одессы»), сама «кузина», в его рубахе на голое тело, едва прикрывавшей… да ни черта не прикрывавшей! — вылетела из квартиры, сверзилась по лестнице, как школьник на переменке, и стояла-перетаптывалась на нижней ступени, требовательно уставясь на обоих. Леон вздохнул, расплылся в улыбке блаженного кретина, развел руками и сказал:
— Исадора… это моя любовь.
И та уважительно и сердечно отозвалась:
— Поздравляю, месье Леон! — словно перед ней стояли не два обезумевших кролика, а почтенный свадебный кортеж.
На второй день они хотя бы оделись, отворили ставни, заправили измученную тахту, сожрали подчистую все, что оставалось в холодильнике, даже полузасохшие маслины, и вопреки всему, что диктовали ему чутье, здравый смысл и профессия, Леон позволил Айе (после грандиозного скандала, когда уже заправленная тахта вновь взвывала всеми своими пружинами, принимая и принимая неустанный сиамский груз) выйти с ним в продуктовую лавку.
Они шли, шатаясь от слабости и обморочного счастья, в солнечной дымке ранней весны, в путанице узорных теней от ветвей платанов, и даже этот мягкий свет казался слишком ярким после суток любовного заточения в темной комнате с отключенным телефоном. Если бы сейчас некий беспощадный враг вознамерился растащить их в разные стороны, сил на сопротивление у них было бы не больше, чем у двух гусениц.
Темно-красный фасад кабаре «Точка с запятой», оптика, магазин головных уборов с болванками голов в витрине (одна — с нахлобученной ушанкой, приплывшей сюда из какого-нибудь Воронежа), парикмахерская, аптека, мини-маркет, сплошь обклеенный плакатами о распродажах, брассерия с головастыми газовыми обогревателями над рядами пластиковых столиков, выставленных на тротуар, — все казалось Леону странным, забавным, даже диковатым — короче, абсолютно иным, чем пару дней назад.
Тяжелый пакет с продуктами он нес в одной руке, другой цепко, как ребенка в толпе, держал Айю за руку, и перехватывал, и гладил ладонью ее ладонь, перебирая пальцы и уже тоскуя по другим, тайным прикосновениям ее рук, не чая добраться до дома, куда плестись предстояло еще черт знает сколько — минут восемь!
Сейчас он бессильно отметал вопросы, резоны и опасения, что наваливались со всех сторон, каждую минуту предъявляя какой-нибудь новый аргумент (с какой это стати его оставили в покое? Не пасут ли его на всякий случай — как тогда, в аэропорту Краби, — справедливо полагая, что он может вывести их на Айю?).
Ну не мог он без всяких объяснений запереть прилетевшую птицу в четырех стенах, поместить в капсулу, наспех слепленную (как ласточки слюной лепят гнезда) его подозрительной и опасливой любовью.
Стали известны финалисты премии «НОС»
В короткий список отбирали книги о «новой социальности».
В рамках открытия Красноярской ярмарки книжной культуры члены жюри премии в ходе дебатов назвали имена девятерых финалистов. Ими стали: претендент на Нобелевскую премию по литературе Светлана Алексиевич («Время сэконд хэнд»), Владимир Сорокин («Теллурия»), Линор Горалик (сборник малой прозы «Это называется так»), лауреат Премии Андрея Белого Алексей Цветков-младший («Король утопленников»), Александр Мильштейн («Параллельная акция»), Максим Гуреев («Покоритель орнамента»), победитель Русской премии Владимир Рафеенко («Демон Декарта»), Маргарита Меклина («Вместе со всеми») и Татьяна Фрейденссон (нон-фикшн «Дети Третьего рейха», в основу которого легли беседы с потомками нацистских преступников).
Участие в дебатах принимали члены жюри «Новой словесности» Дмитрий Кузьмин, Елена Гремина, Константин Богомолов, Ирина Саморукова и эксперты Владимир Мирзоев, Анна Наринская и Константин Богданов.
«Прочтение» публикует видеозапись дискуссии о произведениях шорт-листа.
Лауреат премии «НОС», а также победитель читательского голосования будет объявлен в ток-шоу в конце января 2015 года.
Так называемая реальность
- Оливер Сакс. Галлюцинации. — М.: АСТ, 2014.
Можно ли правдиво рассказать о том, чего на самом деле нет? Наверняка. Ведь единственной настоящей реальностью является взгляд на нее с разных сторон. Именно так и поступает американский нейропсихолог Оливер Сакс. В своей книге о галлюцинациях он дает слово множеству людей, познавших их на своем опыте. Мы почти ничего не знаем о том, что такое действительность и как она соотносится с восприятием. К счастью, «почти ничего» не значит «совсем ничего».
Сакс пишет, что его книга поможет «рассеять непонимание и жестокое отношение к тем, кто страдает галлюцинациями». Стоит отметить два момента. Во-первых, не галлюцинации в нашей власти, а мы — в их, и вызываемое ими чувство действительно близко к страданию (уже потому, что ты сам не можешь это прекратить). Впрочем, некоторые ими наслаждаются, как одна из респонденток автора, пожилая женщина, которой трудно выходить из дома: «Я вижу множество разнообразных вещей, которым я очень радуюсь — они просто очаровательны и нисколько меня не пугают». А во-вторых — стигма, которая особенно актуальна для России. Либеральные слои общества уже, кажется, готовы принять гомосексуальность наших ближних и способны быть политкорректными по отношению к национальности или весу, но психическое нездоровье (или просто не-норма) остается стигматизированным. А не надо бы.
Многие думают, что галлюцинации — удел шизофреников. Но это явление бывает у слепых и вообще у людей с нарушением зрения, а иногда — с небольшой (или значительной) патологией мозгового кровообращения. Галлюцинации возникают в условиях сенсорной депривации, когда мозгу не хватает реальных стимулов для обработки информации. Частенько после травм или в иных случаях люди чувствуют несуществующие запахи или воспринимают реальные предметы с сильным искажением. Может порождать иллюзии и мигрень. Многие видят странные движущиеся картины на пороге сна.
Галлюцинации здоровых людей (слово «здоровых» автор пишет в кавычках) отличаются от болезненных прежде всего тем, что не вступают в тесную связь с личностью человека, с его аффектами — владеют своей жертвой, но не распоряжаются ею. Если голоса угрожают, если человек не сомневается в их реальности — вернее всего, он болен; но «нейтральные» голоса могут слышать и здоровые люди. Своеобразные экстатические видения посещают эпилептиков, и они до того приятны, что многие желают их повторения и даже провоцируют припадки. (Вспомним признание Достоевского о нескольких минутах невероятного, неописуемого счастья, которое посещало его перед приступами).
Разумеется, за описаниями следуют и объяснения, рассказы о разных состояниях или болезнях, о механизмах возникновения образов — слуховых, зрительных, обонятельных и даже осязательных. Не обойдена вниманием автора и тема наркотиков, но даже самые яркие описания этих добровольных галлюцинаций меркнут перед самой страшной главой книги — о посттравматическом расстройстве, которое заставляет человека вновь и вновь переживать свое невыносимое прошлое. Ужасы реальности порой сравнимы с ужасами безумия.
В этой книге вы найдете детальные рассказы о красивейших или отвратительных галлюцинациях: от узоров на занавеси до историй, в которых «жертва» галлюцинации принимает участие; вы заглянете в мыслезрение десятков разных людей. Только помните, что — как море в бурю — такие вещи красивы ровно до тех пор, пока ты ими владеешь. Впрочем, ад и рай нераздельно сосуществуют в самом человеке с момента его рождения.
Василий Голованов. Каспийская книга
- Василий Голованов. Каспийская книга. Приглашение к путешествию. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 832 с.
В издательстве «НЛО» вышла книга Василия Голованова, автора парадоксальных литературных исследований «Нестор Махно» и «К развалинам Чевенгура». Новый сборник хоть и посвящен путешествию вокруг Каспия, но не вмещается в рамки тревелога, затрагивая злободневные вопросы большой политики и общественного уклада разных стран. Погружение в экзотические ландшафты Апшерона, горного Дагестана, иранской Туркмении чередуется с поиском общечеловеческого понимания.
ХЛЕБНИКОВ И ПТИЦЫ
…Мое мнение о стихах сводится
к напоминанию о родстве
стиха и стихии…Велимир Хлебников
I Есть вещи, понять которые невозможно, не разглядев некоторые весьма истонченные временем нити, связующие явления.
В поисках таких взаимосвязей литературоведение вгрызается в текст и в контекст, этот текст порождающий. Степень расширения контекста неограниченна и зависит от желания и умения интерпретатора работать со специфическими косвенными свидетельствами, с бедными сведениями рудами или почти порожней породой, содержащей иногда лишь пыль драгоценного знания о предмете исследования.Нечаянно контекстом оказался остров. Небольшой заповедный остров, со всех сторон охваченный медлительными мутными водами. Заросший по окоему ивами, шиповником и тамариском, внутри — тростником, жесткой, как жесть, травой, полынью, коноплей, вьюнками. Был исход осени. Днем в пещеристой сердцевине разваленных временем древних ив роились осы, радуясь последнему солнцу. Ночью, в час шепота ив, под холодными безмолвными звездами шелесты тростника и гулкие всплески сомов в черной
воде казались шорохами и пульсациями космоса.Ночь, полная созвездий,
Какой судьбы, каких известий,
Ты широко сияешь, книга?
Свободы или ига?
Какой прочесть мне должно жребий
На полночью широком небе?Текст — стихотворение Хлебникова — проклюнулся сам собою
из контекста, что показалось закономерным: остров принадлежал
месту встречи Волги и Каспия-моря, которому «принадлежал»
и Хлебников, по своей человеческой воле впадавший то в Неву,
то в Днепр, то в Горынь, но волею судьбы от рожденья до смерти влекомый мощным течением Волги к чаше Каспия. И этой чашей завороженный. Ибо в ней, как в волшебном котле, до поры покрытом кипящим туманом, поэт, сдунув завесу, провидит мир насквозь: от заледенелых тундр Сибири, где жаворонок ночует в пространном черепе мамонта, до калмыцких степей, где кочевники
пьют черную водку бозо; от заброшенных храмов Индии, оплетенных корнями джунглей, до алых цветов в садах Персии и раскаленных песков Египта, сжимающих букет пышной растительности, распустившийся дельтой Нила. Котел Каспия — это чечевица, линза, в фокусе которой, как лучи или как траектории птичьих перелетов, соединяющих Север с Югом, сходятся силовые линии множества культур, каждая из которых, даже забытая, погребенная песком пустыни, как столица хазар Итиль, или столица Золотой Орды Сарай, или вообще ничем вещественным не явленный, только в предании сохранившийся разбойничий уструг Разина, — ждет своего воплощения в слове, ждет гения, способного облечь словом и выразить все это напластованное друг на друга разнообразие исторических обстоятельств, природных форм, живых
и мертвых языков, преданий и символов.«Я был спрятанным сокровищем, и Я желал быть узнанным,
посему Я сотворил мир», — говорит Господь суфиев. Подразумевая, должно быть, тем самым, что богопознанием станет бесконечное распаковывание запечатанных в мире смыслов, раскапывание
драгоценных кладов, предназначенных каждому, кто окажется достаточно упорным, чтобы искать. Не поместив себя сознательно
в систему координат, которой принадлежал поэт, невозможно составить представление о сокровищах, которые были ему завещаны. Вот почему контекстом, непременным для понимания Хлебникова, становится само пространство, содержащее в себе все,
из чего лепятся (Хлебников именно лепил, ничего не выдумывая)
его стихи и проза, его «законы времени» и словотворчество, которое может казаться совершенно искусственной, головной выдумкой, но которое на самом деле не выдумка, а лишь проекция динамических свойств пространства на язык. В мире нет более изменчивых природных систем, чем дельты больших рек. Дельта Волги к тому же (знаменитый «коридор» между Уралом и Каспием,
по которому вплоть до XV века из лона Азии в Европу изливались
волны кочевников, и древнейший прямой торговый транзит, соединяющий все четыре стороны света) — одно из самых продувных мест истории, ее меловая доска, с которой каждая последующая волна переселенцев начисто стирала все предварительные наброски построения цивилизации, сделанные волной предыдущей.
Дельта — неустанная в пробах творения — вот контекст, породивший Хлебникова.В этом смысле значимо, что отец поэта, Владимир Алексеевич,
был основателем Астраханского заповедника. То есть охранителем
того всеобъемлющего контекста, с которого Хлебников считывал
свой текст, изыскивая завещанные ему словесные клады. Благодаря
этому, очутившись в заповеднике, еще и сегодня можно убедиться, что «времышиамыши» — не поэтический изыск, а такая же
реальность, как «старые ивы, покрытые рыжим ивовым волосом»,
«сонные черепахи», «красно-золотистые ужи» и весь этот странный край, «где дышит Африкой Россия». При этом Владимир Алексеевич не поощрял поэтических занятий сына и, видимо, до самой
его смерти не понимал масштаба его дарования. Ни о каких «контекстах» он не думал. Он был позитивист, естествоиспытатель, редкостный знаток птиц. Как мы увидим, это тоже сыграло в судьбе
поэта не последнюю роль…II Семь сот уст цедят воду сквозь фильтры отмелей и сплошных зарослей, протянувшихся по взморью на сто пятьдесят верст
от Бахтемира (главного волжского рукава) до Бузана и Кигача, бесконечно дробящихся на протоки, ручьи и почти затянувшиеся тиной ерики. Пресной, зеленой, мутной остается вода еще километров тридцать-сорок, до свала глубин, где резко обрывается дельтовая отмель и сразу ощущается в воде соль. А до этого не река,
не море — раскаты. То есть и не река уже — ибо без берегов — раскатилась, — но и не море тоже, только блещет волна по-морскому,
но по-речному желта на просвет.В нетронутой природе правомерно чувство вечности, потому было ощущение, что я «совпал» с Хлебниковым в пространстве/времени. Был октябрь 1918-го, паровое судно «Почин». Хлебников и Рюрик Ивнев выходили на взморье осматривать облюбованный отцом Велимира под заповедник участок на Дамчике. Вечером «Почин» поглотил туман. Рано утром поэты вышли на палубу и в хрустальном холоде осветлевающей ночи увидели над
головой… Звездный провал неба. Бездну. Миры. Может быть, самым ненарочным и важным совпадением было «чувство замороженности», неподвижности, чувство «листа, застрявшего в тысячелетних камнях», которое охватило и меня в первую же ночь
на острове, когда выходил курить на берег и под полной луною видел и слышал напротив шуршащую живую стену тростника. Ну и,
разумеется, принадлежали времени вечности птицы. Голубой быстрый огонь крыла зимородка, пронзающего воду, и воздух, и тень
берегового куста. Белохвостый орлан, медленно шагнув с черной
ветки обугленного пожаром дерева, сделав несколько мощных
взмахов меж роскошными кулисами зелени над зеркальной водою,
исчезает за ивою, оставляя тебя в лодке со счастливым ощущением,
что ты следуешь древней, вольной и верной дорогой. Cам язык орнитологии — напряженный, подвижный, силящийся уловить оттенки признаков, отличающих одну пичугу от другой по цвету перьев, времени первой трели, излюбленным семечкам или по особым морфологическим различиям (орел, орлан, подорлик), сделавшись насущным, засверкал вдруг драгоценной россыпью названий. В «Списке птиц Астраханского края», составленном отцом
Хлебникова, упомянут 341 вид птиц. Баклан, пеликан, чепура красная, кваква, колпица, савка, турпан, хархаль, выпь, пустельга, кречет, лунь, осоед, чеглок, сапсан, балобан, стриж, сыч, удод, филин,
рябок копытка, горлинка, авдотка, дупель, бекас, ястреб… Фонетически это такое богатство, что близкий к колдовству, к выкапыванию древних корней и мертвых семян опыт создания поэтически разверстого во все стороны языка, предпринятый сыном, кажется
совершенно естественной и, более того, само собою разумеющейся
попыткой*. Только в том уникальной, что это попытка одинокого гения за краткое время своей жизни проделать ту титаническую
работу, которую язык сам по себе, без поэта-алхимика, торопящегося ускорить «созревание» языка, проделывает за сотни лет благоприятного для себя развития.В Астрахани я побывал в музее Хлебникова. Так в руки мои
попал еще один ключ, или даже связка ключей. Во всяком случае — право на вход. Пропуском к Председателю Земного Шара
был билет в музей № 29632. Запомнилась книга из библиотеки
отца — G. F. Chambers — The story of the stars. Основательнейший
позитивистский фундамент удерживает на весу все самые фантастические проекты Хлебникова. Изменяется, быть может, лишь
сам характер вовлеченности — поэт относится к звездам не с ученым интересом, а со священным трепетом, как индейцы-инки, полагая, что звездами вычерчены на небе судьбы грядущего. «Понять
волю звезд, это значит развернуть перед глазами всех свиток истинной свободы. Они висят над нами слишком черной ночью, эти
доски грядущих законов, и не в том ли путь… чтобы избавиться
от проволоки правительств между вечными звездами и слухом человечества…» Об отношениях Хлебникова с отцом известно, что
они были неровны и непросты («родителями изгнан» — записывает он в дневнике 1914 года). Отец, несомненно, предполагал, что
сын унаследует его дело ученого-натуралиста, орнитолога, и тот
студентом как будто даже подавал надежды (экспедиция на Павдинский Камень Урала в 1906-м), но впоследствии, видимо, отца
разочаровал и, во всяком случае, надежд его не оправдал — всем
образом своей жизни и никому, конечно, из близких (кроме сестры
Веры) непонятным творчеством. Между тем он был сыном благодарным и прилежным учеником, что заметил еще Тынянов в предисловии к первому (и единственному полному) собранию сочинений Хлебникова: «Поэзия близка науке по методам — этому учит
Хлебников. Она должна быть раскрыта, как наука, навстречу явлениям… Хлебников смотрит на вещи как на явления, взглядом ученого, проникающего в процесс и протекание… Он не коллекционер слов, не собственник, не эпатирующий ловкач. Он, как ученый,
переоценивает языковые измерения…»Нет сомнения, что Гений Языка должен был явиться именно
здесь, в русской столице татарского ханства, в перекрестье кочевых
и караванных дорог, фантастической геологии (аммониты — дно
древнего моря — плиты известняка, органика и лесс дельты, пески,
грязи, лидийский камень, кристаллическая соль) и столь же фантастической ботаники и орнитологии, на границе земли-воды-неба,
реки-моря, Старой Волги и Камызяка, Черных Земель и песков Сулгаши, Европы и Азии, православия, принесенного русскими ратниками, буддизма перекочевавших на запад от Волги взбунтовавшихся монгольских племен и магометанства степняков, замешанного на верблюжьем молоке, наваристом, с молоком, чае, на блинчиках с бараньими потрошками и жареном боку пудового сазана. В любом столичном городе ничего, кроме зауми, не вышло бы
из языковой алхимии (и не вышло). Здесь же алхимия — имманентное свойство окружающего, — кристаллизация не произошла
и произойти не может, ветер дует из Персии, из Китая, из Индии,
из Европы, море наступает и отступает, волны кочевников проносятся, словно стаи птиц, водоросли набухают и умирают в зеле-ном котле дельты, пульсация безостановочна, творение непрерывно… «В деревне, около рек и лесов до сих пор язык творится каждое мгновение, создавая слова, которые то умирают, то получают
право на жизнь…» — так ощущал это Хлебников.В «Словаре неологизмов» Хлебникова 6130 слов. По какой-
то непонятной причине в нем нет слова «лебедия», объемлющего своеобразным, детски-наивным смыслом мир волжской дельты, в который так по-разному и так самозабвенно были влюблены отец, и сын, естествоиспытатель и поэт. Парадокс же, отмыкающийся ключом к родовому гнезду, ныне музею, заключается
в том, что именно отец наделил его талант тем смертельно опасным
и не поддающимся подражанию свойством, которое еще при жизни не позволило Хлебникову «войти» в литературу, ибо унаследованный от отца естественнонаучный взгляд на мир, будучи примененным в поэзии сыном, человеком необычайно тонкого поэтического слуха и чувствования, и пылким романтиком к тому же, превращался в опыт совершенно запредельного исследования, которое ни тогда, ни теперь, ни когда-либо впредь невозможно было
(будет) втиснуть в рамки обычного литературного «сочинительства».
* Более того, некоторые неологизмы из рукописей Хлебникова
в свою очередь фонетически очень напоминают названия птиц: блазунья, блуждянка, богаш, богва, братуга, грезняк, грезютка, грозок.
Данила Зайцев. Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева
- Данила Зайцев. Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева. — М.: Альпина нон-фикшн, 2015. — 708 с.
Данила Зайцев – русский старообрядец-часовенный из Аргентины, родившийся в 1959 году в Китае. В его «Повести…» отражена история многих старообрядческих родов, их бегства из большевистской России в Китай, а оттуда – в Южную Америку. В центре повествования – жизнь автора и его семьи, с подробным рассказом о неудавшейся попытке переселения в Россию в 2008-м. Зайцев пишет о непростых отношениях в общинах: возникающих ссорах, недопонимании и личных трагедиях. Но в центре книги – повседневная жизнь русских людей, следующих стародавним заветам, ради соблюдения которых они готовы переносить страдания, нищету и лишения.
ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ 1 ПРЕДКИ моего отца. Прадед Сергей Зайцев из Томска, прозвища кержаки. Хто и в како время выехали из Керженса1, не знаю. Дед Мануйла Сергеявич родился в Томске в 1898 году, в 1906 году переехали в Горный Алтай, а в 1918 году переехали в деревню Надон.
Предки моего отца с материнной стороны. Прадед Агап Пантелеяв из Алтая, Бухтармы. Баба Федора Агаповна родилась в 1903 году, в 1919 году переехали в деревню Надон, и в тем же году вышла замуж за деда Мануйла. В 1921 году родилась Елена, 10 апреля 1922 года родился тятя Терентий Мануйлович. Баба Федора родила шестнадцать детей, но в живых остались семеро: Елена, Терентий, Капитолина, Григорий, Харитинья, Александра и Прокопий.
Семья Зайцевы были умеренно религивозны. Весёлы, голосисты, музыканты, в доме водилась гармонь, балалайка. Вели жизнь спокойну, жили в достатках, имели скота, сеяли зерно, были хорóши рыбаки и охотники, жили умирённо, не захватывали и не завидовали, к религии относились благожелательно, но не аскетами, хотя деда Мануйла брат Егор был наставником. Жили очень дружно и весело, в деревне имели дружбу со всеми, и за ето их любили, часто их дом был забит гостями, играла гармонь и балалайка, и пели песни.
Предки моей матери. Прадед Корнилий Захарьев, по прозвищу кержаки. В како время выехали из Керженса — неизвестно, как попали в Алтай — не знам. Мой деда Мартивьян Корнилович родился в 1902 году в деревне Чинкур. Предки моей материнной стороны. Прапрадеда Иларивон Шутов с Урала, потом стали называть Шутовскя заимка, а впоследствии переименовали в Шутовские заводы. Был очень богат и очень религивозной, соблюдал все заповеди Господни, был добр и милостив. Но смерть его страшна и чудна. Когда пришли красны к власти, раскулачили и нашего прапрадеда. Казнили как могли, вырезали ремни, жгли, били, топили, издевались, томили в тюрме. Бог знат что только ни делали, и в консы консах2 повели их на расстрел. Поставили их к стене, дали команду «огонь». После выстрела все пали, а наш прапрадеда Иларивон как стоял, так и стоит. Подошли, в упор ишо выстрелили — он всё стоит. Подбежал старшина, хотел сашкой зарубить. Сашка переломилась — он всё стоит. Все обезумели. Он попросил пить. Подали ему напиться, он пивнул трижды, вообразил на себе крестное знамя, ляг и скончался. Ето всем было ужасно.
Прадед Савелий Иларивонович скитался со своей семьёй и как-то попал в Алтай, деревню Чинкур. Наша баба Евдокея Савельевна родилась в 1905 году, в Чинкур попала девкой, от 1924 по 1926 год. Попали зимой — голодны, холодны, оборванны, настрадавшись, обратились к прадеду Корнилию Захарьеву за помощью. Захарьевы жили по-богатому. Прадед был очень религивозной аскет, но не милостив, за любую провинку детей избивал до полусмерти. Деда Мартивьян был старший, от все етих побояв получился травмирован, стал полудикóй и боялся всего. Даже, когда приходили из моленной, прадед спрашивал, какоя сегодня было поучения, у детей поочерёдно. Увы, ежлив подробно не расскажет!
Вот прадед Савелий Иларивонович когда обратился к прадеду Корнилу, тот посмотрел на семью и сказал: «Отдашь Кейкю за Мартьянку — помогу, нет — как хошь». Родители погоревали, потужили. Что делать? Холодно, голодно, дочь жалко, жених пугливый — потужили да и отдали. Баба Евдокея его не любила, но что поделашь: родители просют, да и ситуация заставляет, а пойти против родителей — ето Бога оскорбить.
Сколь прожили и когда женились — не знаю, но мать моя Настасья Мартивьяновна родилась 29 ноября 1933 года.
2 1933 год — начин войны, дунганы с Китаям. У дунганов план был завоевать у китайцев провинцию Синьцзян, особенно Горный Алтай. Стали наступать на город Шарасума, по пути к городу каки деревни попадали китайски, вырезали всех, женчин и детей. Ето грозило и русским. Начальник города, дутун, знал, что китайцам с дунганами не справиться, так как оне невоисты. Обратился к нашим старообрядцам отстоять свой город, так как оне хорошие охотники, только оне могут помогчи. Послал отряд к русским старообрядцам с просьбой подать руку в беде. Наши боялись ввязываться в такие конфликты. Етот отряд китайцев, который шёл к нашим, — в пути их перехватили дунганы и всех перебили. Один раненый коя-как добрался до нас и сообчил, что дунганы за своим следом ничего не оставляют.
— Дутун с просьбой к вам: помогите прогнать дунган. Ежлив оне нас победят, всему населению будет беда и вам, русским, ета же судьба.
Тогда наши задумались и решили послать отряд в сорок человек хороших охотников. В пути сорвали один пост, взяли три пленника и указали: «Проводите нас в город Шарасуму, и мы вас убивать не будем, а нет — тут и положим, а в дороге все равно найдём провожатого». Пленники знали, что ето не пустые слова и разговор идет с честными людьми, повинились и ночами провели в город, наши их не тронули и отпустили.
Дутун с радостью принял наших бородачей, и всему городу была большая радость: знали, что к ним пришли славные охотники, которы их кормили мясом.
Тут наши организовались и пошли в наступление. Дунганы почувствовали силу русских, пошли на отступление. Русски сняли осаду с города и погнались за ними вместе с китайцами, прогнали и вернулись в город. Их встретили с великой радостью. Дутун просил наших остаться в полку, но наши не захотели и уехали домой.
После етого время стало неспокойно. Банды дунганов набегали на деревни и грабили, жгли, казнили и так далея, появлялись советские шпионы и разжигали дунганов. У дунганов было хорошее оружие, откуда оно — конечно, советское, а у наших самоделашно, вот и отбивайся как хошь.
3 Однажды советские пригласили наших старообрядцев на охоту, в ету группу попали троя наших — наш деда Мартивьян и ишо два мужика. Ушли и больше никогда не вернулись, и советские также — вот и догадывайся, что с ними получилось. Маме было шесть месяцав, осталась сироткой. Бабе Евдокее пришлось пахать и сеять, но она была си льна и здорóва, крóтка, богобоязна, добрая, её все любили и всегда называли Савельевной. Как-то раз в праздник на речке шутили и здумали бабу Евдокею сбросить в речкю, но не смогли. Было их трое, баба всех сбросала в воду; свёклу одной рукой сжимала. Многи сватали вдовуху, но она ни за кого не выходила.
Так прошло десять лет. Тут появился Демид Шарыпов и давай сватать прилежно — баба Евдокея никак не выходила. Тут посторонние стали сватать: дескать, ты одна, тебе трудно, жених богатой. Но все знали: Демид Шарыпов злой, первая жена ушла в могилу лично от его рук, оставила ему дочь Наталью. Баба Евдокея погоревала да и вышла замуж за него. Ето вышло за то, что в ето время жила с мамой ни кола ни двора.
Почему так получилось. Было ето в 1934 году, маме был год, дунганы начали мстить русским, за то что русски освободили китайцев. И вот набегают дунганы на деревню Чинкур. Баба Евдокея высаживала хлеб в печь, увидела сдалека пыль и догадалась, что ето дунганы, схватила коня, маму под мышку и убегать, за ней ишо один дед. А остальных в деревне всех заказнили, больших и маленьких, и всё сожгли. Русские за ето обиделись и давай их выслеживать и бить. Обчим, спокойно не жили: хлеб сеяли, а винтовки всегда под боком были.
Баба Евдокея родила Демиду сына Степана и дочь Марью, маме было уже двенадцать лет. Демид Шарыпов правды очутился очень злой. Когда едет с работы, вороты должны быть открыты и на столе пища подана не горяча, не холодна. Не дай бог что не так — всем будет беда. Маме доставалось всех больше, так как она ему была чужая, за ето он её ненавидел и издевался как мог, бил как хотел.
У бабе Евдокеи окрóмя отца было двоя дядяв и одна тётка — Анатолий и Егор и Парасковья. Дядя Анатолий и тётка Парасковья остались в России, но судьба их неизвестна, а дядя Егор был в Китае. У бабе было два брата — Михаил и Ефим. Отца Савелия и брата Михаила убили на войне, а Ефим служил допоследу.
Как толькя затихла с дунганами война, народ стал обживаться. Ета тишина стояла всего четыре года. Тут появился вождь Кабий — мусульман, но пошёл на китайцев и собирал войско, хто попадёт. Зашёл и к русским, хотел и русских забрать, но русски отказали: мол, оружие у нас нету и с китайцами не хочем враждовать. Кабий сказал: «Хорошо, мы у вас возмём двух заложников и поишем оружие. Ежлив найдём, то всех вас перережем». Вот тут-то было переживанья. Но слава Богу, не нашли, спрятано было очень хорошо, тогда заложников отпустили, и кабиевцы пошли на китайцев одне. Китайцы их поджидали город Канас, у них стоял 10-й полк. Как толькя кабиевцы подошли, китайцы ударили с миномётов, кабиевцы стали отступать, а китайцы за ними. Ета война продолжалась не больше трех месяцев, и опять стала тишина два года с половиной.
Тут появился новый вождь, Оспан-батур, каргызин3, и собирал войско — всех, хто попадал под руки. Хто не шёл, того казнил, так что и русским пришлось пойти служить Оспану. Опять же политика была советская, советские дали Оспану оружие и дали флаг красный со звездой и полумесяцем. Ето было от 1940 года по 1950 год. Советская политика была такая: китайцев с мусульманами сразить, а русских вернуть в Россию, Оспану внушали: «Завоюешь провинцию Синьцзян — будет ваша».
На ету войну попали дядя Ефим Шутов, деда Мануйла Сергеевич Зайцев, хотя оне и были на дунганской войне. Тяте было восемнадцать лет, он тоже попал на службу, прослужил один год и пошёл на войну. Ета война была нечестна, Оспан был не главнокомандующим, а как бандит, грабил, казнил, насиловал, сжигал, вёл всяки несправедливости, в полку имел шпионов советских. Ето притесняло наших старообрядцев, но некуда было податься.
Советские открыли експедицию в Китай, и добровольсов принимали хорошо и платили хорошо. Тятю в 1946 году ранили, и он попал в больницу, пролежал в больнице три месяца. За ето время оне списывались с отсом, и дед Мануйла внушал тяте: не вёртывайся в отряды, потому что нет справедливости, убили тóго-другого-третьяго. Тогда тятя ушёл на експедицию и работал у советских, и много русских так же поступили, Оспан из рук советских не мог никого забрать. А в деревнях появились советские консула и стали агитировать, чтобы вернулись на родину, сулили горы: «Ничто вам не будет, нарежут вам земли, и будете жить спокойно, в России свободно». Но мало хто им верил. Слухи были противоположны: в России народ голодовал и жили нищими.
Однажды к Оспану подъезжает с отрядом вышняго рангу чиновник и друг Оспану — Жёлбарс, и стал при всем войске внушать Оспану:
— Друг, брось оружие, ето кончится нехорошим. Советские стравляют вас с китайцами и весь Китай объединяют, всех нас ждёт одно уништожение, и ето кончится нехорошим.
Оспан отвечает другу:
— Ха, я здесь хозяин, всё ето моё. Никого не допушшу, всех вырежу, но землю не отдам.
Тогда Жёлбарс другу:
— Но, друг, как хошь, — и громким голосом крикнул: — Хто за мной? — Тишина, и двадцать пять солдат вышли вперёд, все русски. В етим отряде был наш дед Мануйла. Жёлбарс сказал: — Хорошо, на таким-то месте буду ждать двадцать четыре часа, подумайте хорошень.
Тут наши старообрядцы задумались и решили все уйти с Жёлбарсом. Но советский шпион Осип предупредил Оспана не пускать русских солдат к Жёлбарсу:
«А то обессилешь». Утром, когда русские были готовы выехать, Оспан приказал всех обезоружить, а хто побежит, того казнить. Тогда русские потихонькю стали уходить на експедицию к советским.
В деревнях получились две партии: красные и белые. У красных была власть, и оне творили что хотели, грабили, били, издевались — над своими же. Мужики были на войне, жёны одне дома, и красны что хотели, то и творили. Много таких было, но лично нам запомнился — фамилия Шарыповы. Сам отец, Василий Васильевич Шарыпов, был спасовского согласия наставником, а сынок Яков Васильевич — красный атеист, изъедуга, кровопивец. Ниже узнам о етой фамилии. Все ети красны имели советские паспорта.
На одной из деревень жила и баба Евдокея и рассказывала, как красные поступали с местным населением: садили на лёд, вымогали золото, грабили, уводили коров, забирали всё — продукт, посуду, оставляли голых. И слова не скажи — сразу казнить. Пошёл голод. Хто посмелея, побежали на юг в Илийский округ за тысяча вёрст, в город Кульджу: там было тихо.Баба Евдокея жила за Демидом Шарыповым — однофамильсами, но не родственниками с теми Шарыповыми. Были александровского прихода часовенного согласия, жили в достатках, у Демида всё было клеймёно, он был мастер на все руки. У бабе всё расташили: баню, городьбу4, дословно всё.
У Оспана было два русских офицера: Никифор Студенко и Лаврен Рыжков. Лаврен был идивот, трус и так далея, Никифор был герой, любимый солдатами и так далея. Впоследствии Лаврен Рыжков очутился в Бразилии и Никифор Студенко очутился в Парагвае. А ето получилось вот так. Всё предвиделось, что с Оспаном всё кончится плохо, ночью собрались триста русских солдат и ушли от Оспана; в етой группе был и Демид Шарыпов.
1949 год. Тятя и все мужики вернулись с експедиции с документами и взялись за красных — вёртывать всё. Тут и баба Евдокея всё своё вернула, так как у них было всё клеймёно. Тут был большой позор красным изменникам, и советские не вмешивались: знали, что изменники поступал неправильно.
Тятя в 1949 году посватал маму. Маме было семнадцать лет, а тяте двадцать семь лет. Баба не отдавала, говорила: парень разбалованной, семья слаба. Тут сватали молодыя ребята и религиозны, но маме тятя понравился: красивый, весёлой, сапоги хромовы. Не послушала бабу: пойду да пойду. Но баба со слезами отдала и говорила: «Настькя, будешь слёзы лить».
Расскажем маленькя об Ивановых. Фёдор Иванов с России попал до революции, в каки годы — неизвестно. Когда наши бежали с России после революции, то Ивановы уже жили очень богаты. На речке Сандырык копали золото, то Ивановы его скупали. Фёдор Иванов был грамотный и умный, все его любили и все к нему шли на работу охотно, потому что он платил очень хорошо, за хорошу работу всегда переплачивал и был милостив, часто ставил обеды бедным; хто приходил с просьбой, всегда шёл навстречу, никогда не отказывал. Популярность его всегда росла, и выбрали его губернатором. Служил он честно, все его любили. Был у него один сын Сидор Фёдорович, а у Сидора пять сыновей и три дочери. Живут в Бразилии.
1950 год. Комиссия властей — китайцев и советских — приехали проверить, что же войско Оспана, и решили, что ето просто банда, и решили заплатить хорошу цену, хто выдаст Оспана. Тут нашлись свои же каргызы и, связанного, отдали его китайцам, а остальным власти китайски объявили сдаться. Русски сразу сдались, их посадили, на слабым режиме — кого как, по-разному.
Про деда Мануйла никаких новостей, но знали, что он ушёл с Жёлбарсом. Но ето был очень умный человек. Он прождал двадцать четыре часа; так как нихто к нему больше не пришёл, он отправился со своим отрядом мирным путём, никого не обижал, с нём шёл американский консул. Оне через Монголию и Тибет попали в Индию, там оружие сдали, им дали свободу. Наши русски, двадцать пять человек, через американскоя консульство попали в Америку, в Нью-Йорк. А те триста человек, в которым дед Демид Шарыпов, отступали, шли пакостили, громили, местное население обижали. Их окружили, всех пословили, кого ка знили, кого расстреляли, так что баба Евдокея опять осталась вдовой.
Тут появился советский какой-то Лескин. Но ето политика уже была — русских вернуть в Россию, а китайцев усилить во всем регионе. У каргызов на флагу убрали полумесяц, и стал китайский красный флаг со звездой. Русских старообрядцев стали притеснять, чтобы вернулись на родину. Хто сумел заполнить анкеты — запрос в ООН, тот сумел спастись, а хто не сделал запрос, те все вернулись — но не на родину, а на целину: в Киргизстан и Казахстан. На границе их обобрали и оставили без ничего. Вот тебе и земли и свобода!
1 Керженец — один из ранних старообрядческих центров в глухих лесах по левому притоку Волги реке Керженец и ее притоку речке Бельбаш (Нижегородская губерния). Массовое переселение старообрядцев-кержаков на Урал и в Сибирь началось в результате разгрома керженского центра в 1710–1729 годах.
2 В конце концов.
3 Киргиз.
4 Ограду.