александр Залесский. хвосты
1
Ты едешь быстро, а я — везде. Так было написано на внедорожнике Осинского, и Павлов, который ехал в машине позади, видел это и смеялся. Павлов всё равно не знал дорогу. Он мог ехать быстрее, но не туда.
Работа у Осинского была простая — он переправлял людей через границу. Везде есть люди, которые этим занимаются, и здесь — тоже. Павлов, правда, был чужой, из Нижнего. Павлов думал, что с помощником Осинскому будет проще. Но было наоборот.
Осинский работал здесь пятнадцать лет, и работа делилась для него на три этапа. Когда он начинал, его услугами по перевозкам из Астраханской области в Казахстан пользовались в основном люди в розыске. Бандиты, отцы-алиментщики. Потом пошли люди приличные, вежливые, как будто не слишком жадные. Призывного возраста или немного старше. Платили, сколько он просил, о деньгах говорили с тоской, но не спорили. А в последние годы пошли откровенные подонки. Они служили прежнему государству и за свои поступки когда-то получали повышения, а теперь могли получить срок. Страх и жадность мучили их одновременно, они везли с собой толстые пачки денег, но с Осинским торговались за каждый доллар. Сегодняшние пассажиры, правда, были странные и в последнюю категорию не вписывались. Но, если подумать, обобщать не было смысла, во все времена были отклонения.
Юго-восточный ветер тащил в лицо не то песок, не то пыль. Грязная погода, думал Осинский. Дождей давно не было. А на дороге все равно лежала вязкая грязь. Дорога — грунтовка с едва заметными колеями, она вся заросла травой, и никто, кроме Осинского, не сумел бы ее найти. Когда пылевой ветер прекращался, все смотрели на облака, они были черные, неприятно черные. Они должны были пролиться дождями, но не проливались. Земля наполнялась водой изнутри.
Сын Павлова когда-то прислал ему набросок, выполненный цветными карандашами. Степь, облака темные, но не такие темные, как сейчас. Желтое травяное пространство с полосами, как будто тенями, хотя солнца нет, и хвойное дерево, низкая, искривленная сосна. Сын уезжал в 2022 году так же, с Осинским, а потом попал в тюрьму в чужой стране за мелочь, и в тюрьме произошли совсем уже не мелочи, и сын, спокойный, веселый парень, оказался в черном мешке, запертый с людьми, которым нельзя было смотреть в глаза. Павлов когда-то возил туристов на экскурсии по бездорожью, но экскурсии давно закончились, а ему нужны были деньги. Здесь платили.
Пассажиры Осинского и Павлова в этой поездке: пятеро мужчин и одна женщина, ее зовут Маргарита. Все молчали. Только изредка Маргарита говорила что-то одному из мужчин, успокаивала его. Она старалась, чтобы водители их не слышали.
Грязь и трава забивались в колеса, в радиатор. Осинскому и Павлову приходилось останавливаться, доставать лопаты, чистить машину. Маргарита тоже каждый раз выходила, чтобы помочь.
Во время одной из таких остановок вооруженные люди появились неожиданно, вышли из укрытий, устроенных в кустах вокруг дороги. Один из них выстрелил в воздух. Осинский никогда с таким не сталкивался. Он запрыгнул в машину и приготовился дать газу, ожидая, что Павлов сделает то же, но один из вооруженных перегородил дорогу и нацелился Осинскому прямо на лобовое стекло.
Всех вывели из машин.
Их заставили идти пешком примерно десять километров. За это время стало почти совсем темно. Машины забрали и увезли отдельно. Пассажиры по дороге сгрудились вместе, тянулись к Маргарите, как будто она могла их защитить. Даже Павлов с Осинским держались рядом с Маргаритой, она выглядела увереннее остальных. В начале пути было страшно, потом все устали, устали и бояться, стало все равно. Перешагивали через ковыль, наступали на ритмично расположенные кочки. В сумерках трава казалась серой, стебли блестели от влаги. Глубокие озерца грязи появлялись под ногами все чаще. Сапоги вооруженных хлюпали. Обувь пассажиров совсем не подходила для такой ходьбы. Вероятно, кожа на их ногах по самое колено впитала бурую грязь.
Впереди показался двухметровый округлый холм. Вокруг росли низкие, колючие кусты, за которыми был скрыт вход в небольшую землянку. Из первой землянки все по узкому овальному коридору прошли в еще одно подземное пространство, рукотворную пещеру округлой формы. Стены были укреплены деревянными брусьями, вымазанными черной смолой. Сводчатый потолок поддерживали доски. Из пещеры вели еще два прохода — в землянки разных размеров. В середине пещеры была вырыта яма, маленький пруд, заполненный грязноватой водой. Пахло полынью и сыростью.
На другой стороне ямы ждали три женщины. Они свесили в пруд ноги, и у них были хвосты.
Не так важно, когда все это случилось. Нам самим иногда приходит в голову — может быть, это выдумка? Но если выдумка, то как зачем? Маргарита сама была там, и она-то врать не будет. То есть да, она лгала нередко, но то было по необходимости. А если нужды нет, зачем обманывать и рассказывать о том, чего не было?
Маргарита — крупная, невысокая женщина. Очень деятельная, не сидится ей на месте. Родилась в поселке под Брянском. Организовала весь этот переход в Казахстан — сомнительный с моральной точки зрения. Так ей говорили, а она не слушала. Она хотела заботиться о самых проклятых и забытых, и она их нашла.
Спутники Маргариты были довольно беспомощными мужчинами. Они все совершили преступления разной степени тяжести и все служили в разных органах. Их память поразила какая-то нехорошая болезнь, которую все считали выдумкой. И Маргарита была одной из десятка человек по всей России (не считая их родственников и близких), кто им верил.
Сейчас Маргарита стояла впереди и смотрела на трех женщин. Позади были ее пассажиры, а с обеих сторон ждали водители и вооруженные. Оружие теперь было убрано, подвоха никто не ждал. Все немного пригибались, упирались макушками в доски, только Маргарита могла держаться прямо.
Женщины на другой стороне ямы оживились. Их движения ускорились. Плавно шевеля хвостами, они потянули спины, одна шепнула о чем-то другой. Одна была старая, вторая средняя, а третья — моложе всех, но возраст определить было сложно. Лица были обычные, человеческие, лица, которые можно увидеть в маршрутке или в школе. Обычными были руки и тела. Но с хвостами была настоящая беда. От них тошнило. У Маргариты было такое же чувство, как если бы она лежала в кровати в освещенной комнате и через потолок к ней начал бы просовываться человек. Хвосты выглядели живыми. Всем хотелось верить, что они были аниматроникой, как хвосты ящеров в парке динозавров. Хотелось верить, что это все ненастоящее, но слишком они были похожи на части змей или варанов, на живую ткань.
Средняя повернулась к старшему из вооруженных, которого звали Хамза, и спросила:
— Вы привезли обогреватель?
— У нас мало бензина... — возразил Хамза.
— Его тоже можно было привезти. Апельсины хотя бы привезли?
И это не привезли. Женщина не выглядела расстроенной, всего этого следовало ожидать.
— И вы привели каких-то людей. Зачем?
— У них были машины.
— У нас есть свои машины.
— Они не годятся. Их ищут. А нам надо ездить на чем-то в поселки, — ответил Хамза. — Бензина у нас мало. У них полно, есть канистры.
— Надо все купить, — хрипло сказала старшая.
— И что с этими делать? — спросила младшая. — Вы думаете, мы их утопим? Зря надеялись. Надо теперь кормить их чем-то. Каша есть?
Каши оказалось достаточно. В соседней землянке их уложили спать на деревянных поддонах от коробок. Пусть и тесно, но места хватило. Дали воды для умывания. Дали простые одеяла. Один из мужчин-пассажиров всхлипывал, он яснее других видел, что происходит. Маргарита заснула быстро. Через полчаса всхлипы, переходящие в вой, разбудили ее. Она поднялась, включила экран телефона, чтобы посмотреть. Подошла, погладила воющего по голове.
— Бедный ты. Послушаем?
Пассажиры — кто остался лежать, кто приподнялся на локтях. Осинский не мог заснуть, лежал и слушал с закрытыми глазами. Павлова измучили тяжелые мысли. Он спал крепче других.
— Когда-то давно, — начала Маргарита, — власть в этих местах принадлежала сотне князьков. Вся эта плоская местность от моря до гор на востоке была поделена на маленькие участки. Они все время спорили — где границы их участков? Границы нужны, но ориентироваться не на что, везде земля плоская. Тогда они начали рыть реки, чтобы разбить землю на участки. Но следующим летом было слишком сухо, и почти все реки высохли. Осталось только две или три реки, и они были полноводные, такие же, как прежде. Тогда правители начали думать: если у одних реки получились хорошо, а у других — плохо, не означает ли это, что те, кто хорошо рыл, стали сильно вы***стыми? Если построил хорошую реку — будь добр поделиться с другими. А про то, что у хорошей реки должен быть хороший исток, почти никто не подумал. А хорошо бы вообще никто об этом не думал. Один из правителей, человек по имени Макток, узнал про истоки и не нашел ничего лучше, как дойти до истока каждой реки и отравить их все. Может быть, вы спросите, когда все это было. А вот совсем недавно, это и сейчас происходит.
Она говорила медленно, и мужчины правда успокаивались, даже тот, кто выл. Он обхватил голову Маргариты и притянул ее к себе так близко, что мог ее поцеловать.
— Кто эти женщины с хвостами? — у него лились слезы из глаз, но он старался лить слезы очень тихо.
— Я пока не знаю. Я пойду и узнаю.
Маргарита подождала немного. Тот, кто притянул ее к себе, отпустил ее. Она посмотрела: он закрыл глаза, но не спал.
Она решила пойти в центральную пещеру. Поговорить с хвостатыми. У выхода из землянки она перешагнула через Осинского, и он тихо позвал её, а может, еще и схватил за ногу.
— Можно поговорить с вами о бессоннице? — спросил он.
— Да, конечно. Сложно тут заснуть. Холодно.
— Они там жгут горелки, да? Может, нам принесут одну?
— Я спрошу, но вряд ли. Еще эта сырость. Неудивительно, что вы не можете спать.
— Но другие могут. Я все бы отдал, чтобы заснуть. Я бы не беспокоился, если бы завтра ничего не было. Но завтра нам надо бежать отсюда, прорываться, и если я буду действовать неловко — то все, конец?
— Главное — не пытаться заснуть. В этом хитрость.
— Но как? Это все равно что тонуть и не пытаться не утонуть. Так нельзя. У животных бывают нарушения сна?
— Бывают. Но у животных они обычно от чего-то внешнего, а у людей могут случиться на пустом месте. Из-за проблем в голове.
— И что бывает из-за бессонницы? У животных?
— То же, что и у нас. Болезни, тупость. Слоны начинают нападать на всех вокруг. Проблемы с сердцем, пищеварением. Не могут иметь детей. Но это не сразу, со временем.
— И вы предлагаете не волноваться и не пытаться заснуть? Лучше бы я этого не знал.
— Я говорю — хитрость. Нужен самообман. Справиться с бессонницей сложнее, чем управлять страной или писать картины.
— А таблетки?
— И где сейчас таблетки? Да с таблетками все легче, и страной управлять. Это тоже хитрость.
— Так делали те князьки, которые травили друг другу реки?
— С завистью еще хуже, чем с бессонницей, — сказала Маргарита. — Что вы только что и показали: если бы тут все не спали, вам бы было легче. Вы бы обменялись историями и заснули вместе.
— Поэтому вы выбрали сопровождать людей, которые никому не завидуют?
— И хорошо спят. Один из них чуть лучше понимает и поэтому лежит и плачет, не может остановиться. Он может погибнуть раньше других из-за того, что слишком умный. Немного больше памяти — и все, человеку хана.
— Мне чет не хочется вникать, что все это значит.
— Ну и правильно. Спи. Я погуляю.
2
В пещере с ямой было светло в сравнении с землянкой для сна, горели газовая горелка и маленький синий фонарик в углу. Одна из хвостатых женщин, средняя, сидела у ямы, болтала ногами. Вода в яме плескалась. Ноги, пальцы ног были обычными, как у людей. Только хвост мешал. На появление Маргариты женщина никак не реагировала. Маргарита подошла к ней, села рядом, потрогала ее спину.
— Не хочешь окунуться? — спросила хвостатая и показала на воду. Маргарита села рядом, поджав колени.
Из землянки, немного приподнятой над уровнем пещеры, вылезла старшая. Там, в маленьком помещении, похожем на нору, жили и спали все трое. Насколько они способны были спать.
— Хочешь, чтобы мы вас отпустили? — спросила старшая у Маргариты.
Маргарита кивнула.
— Мы очень не хотели уходить отсюда. Мы рассчитывали остаться тут на зимовку. Место неплохое. Воды давно не было, но вот она снова прибывает. Нам надо уходить. Возьмем вас с собой, а потом — посмотрим.
— У вас есть имена? — спросила Маргарита.
— Есть, но к чему это? — спросила средняя.
— Будем соблюдать привычки, — старшая назвала имена. — Я вижу, что вы не видели таких, как мы. Мы люди, но почти не люди. Мы не пришельцы, если что, и мы рождаемся примерно так же, как и вы. Мы давно живем. Здесь и в других местах.
— И у разных — по-разному, бывает чешуя, бывают когти, хвосты, языки. И даже лица. Но те, кто с лицами, головами ящера, — особенные, их даже у нас считают вымыслом. А у нас просто хвосты. Как у ящерки или змеи, — сказала средняя.
— Скорее змеи. Если брать змей, то предпочитаем мы полозов, — добавила старшая. — Мы можем неплохо с ними контактировать.
— Неплохо, — вздохнула средняя и посмотрела в темную стену. Среди смолистых брусьев был пролом, и Маргарите на секунду показалось, что из стены землянки торчит змеиная голова. Но это была иллюзия, это прошло.
— Где бы мы ни оказались, за нами следуют какие-то беды, — сказала старшая. — И чаще всего это потоп. Около нас сейчас нет ни озёр, ни рек. Мы специально об этом позаботились. Воде взяться неоткуда, а весна давно прошла. А потоп все равно есть. Теперь среди лета стало холодно, и это для нас проблема, потому что мы к теплу очень чувствительны, зимой нам надо прятаться гораздо глубже.
— А все эти люди? — спросила Маргарита про вооружённых.
— Это наши сотрудники. Помощники. Должности передаются по наследству. Они сопровождают нас уже много лет. Путь с запада на восток, или на машинах, или пешком.
— Почему никто про вас не узнал?
— Почему никто? Про нас знают. Это тяжело. В Венгрии нас называли косыми змеями. Нас чуть не поймали и не изрубили. В Румынии нас чуть не застрелили охотники, после этого наши спутники обзавелись оружием. Люди узнаю́т про нас.
— Вы боитесь, что мы кому-то расскажем?
— Нам надо двигаться дальше. Нам нужны ваши машины. Где-то мы расстанемся, но не сегодня.
Маргарита вернулась к себе и заснула среди мыслей о том, как бы организовать здесь вооруженный мятеж. Все пятеро пассажиров, в конце концов, были силовиками, они должны были уметь стрелять. Такие навыки не забываются. С другой стороны — зачем сотруднику средней саратовской колонии развивать в себе этот навык? Может, конечно, и пригодиться.
В любом случае это глупо, и жестоко, и они проиграют.
Зачем она вообще помогала своим пассажирам? Они, если серьезно, далеко не самые забытые и оторванные от всего люди. У многих из них где-то были деньги. Многие до того, как потеряли память, обеспечили на много лет вперед всю свою родню, да и не только свою. Они могли бы посидеть, осознать свои ошибки. Но они ничего не помнили, что им было осознавать? ФСИН не слишком с тех пор изменилась, и из них просто выбьют остатки памяти.
3
Ночью Маргарита проснулась от тихих голосов и шума множества шагов. Сапоги шлепали по воде. Помощники хвостатых двигались в темноте с фонариками в руках.
Весь пол центральной пещеры был затоплен, вода за ночь поднялась почти на полметра. Маргарита встала в темноте у прохода, смотрела так, чтобы на нее не обратили внимания. Помощники слаженными движениями, не мешая друг другу, уносили наверх ящики с вещами. Двое помощников прижали к стене большой деревянный щит, который целиком закрыл выход из землянки хвостатых. Третий аккуратно прибивал щит к доскам. Изнутри послышался шум. Что-то шлепнулось за щитом, раздался крик, кто-то ударил щит изнутри, но били слабо, сил у хвостатых было слишком мало.
Хамза заметил Маргариту, подошел к ней.
— Мы оставим вас в живых и оставим одну из машин, если вы не вмешаетесь, — тихо сказал Хамза.
— Что вы с ними сделаете?
— Уходите. Это не ваше дело. Они смогут прорыть себе путь наверх. Вам будет без них гораздо лучше.
— Вы же их убьете.
Хамза не ответил, ушёл, проверил, крепко ли прибит щит. Изнутри стучали, но слабо, неровно. Маргарита сняла обувь, прошла по полу пещеры почти по колено в воде и вслед за помощниками поднялась на поверхность. Утренние сумерки только начинались, появился туман, степь выглядела скользкой, болотной. Помощники заняли две машины. Машину Павлова и еще одну, которую они, видимо, украли по дороге. Они укладывали припасы, заправляли свою прежнюю машину из канистры, которую позаимствовали у Павлова. Хамза включил мощный фонарь, отдавал команды. Облака были низко, невероятно низко, и свет его фонаря доходил до нижних границ облаков, подсвечивал маленькие выступы, зубы. Зажглись фары, и помощники отправились в путь.
Осинский и Павлов поднялись наверх вслед за Маргаритой — Осинский где-то нашел сапоги, Павлов шел босиком. За ними шли пассажиры. Тот, кого утешала Маргарита, направлял остальных. Наверху, на сухом пригорке над пещерой, зажгли газовую горелку, подогрели еду и воду.
Светало медленно. Туман не уходил. Осинский проверил машину, подошел к Павлову, который грел ноги у горелки.
— Бензина, наверное, хватит.
Павлов засмеялся в ответ.
— Ты завел нас в одну западню — теперь хочешь заманить еще в одну? Я не верю никому из вас. Я заберу машину и поеду обратно.
Осинский напрасно пытался объяснить Павлову, что место, где они попали в западню, это просто дорога, обычное место пересечения границы, он говорил, что выплатит Павлову всю его долю, и добавит еще из-за потери машины. Маргарита наблюдала за этими людьми и думала, как было бы просто от них не зависеть, просто увести от них машину, забрать пассажиров и уехать. Но она не сумела бы так водить, как Осинский. У Осинского талант. А у нее осталось незаконченное дело. Нельзя было оставлять так хвостатых.
Не обращая внимания на протесты Павлова, она спустилась обратно в пещеру. С помощью пассажира, которого она утешала прошлым вечером, она оторвала щит от пещерных досок. Женщины с хвостами вылезли наружу. Они выглядели жутко. Чешуя на хвостах отслоилась, они пытались пробить щит хвостами, поддевали доски пальцами, Маргарита не хотела смотреть на их пальцы. У них были серые, мокрые лица с грязевыми разводами. Маргарита вывела их на поверхность, накрыла одеялами. Одна хвостатая вскочила с места, хотела прыгнуть обратно в пещеру.
— Надо вычерпать воду! — крикнула она.
— Это бессмысленно, — сказала вторая. Различить их в полутьме было невозможно.
— Мы должны оставить убежище для следующих поселенцев. Мы должны его законсервировать, — говорившая эти слова протерла глаза, и Маргарита узнала среднюю.
— Потом. Мы потом вернемся, — отвечала та, что казалась старшей.
— Там все размоет. Вместо пещеры останется яма. Заросшая яма. Как мы вернемся? Это предательство. Почему именно сейчас?
Хвостатые умылись водой, которую помощники оставили Маргарите, и немного согрелись. Они обменивались версиями. Их помощники устали. Их переманил другой клан. Но самое вероятное — они больше не хотели искать место, где хвостатые не вызовут беды. Вместе они пробыли в пещере два месяца. Хвостатые укрепляли жилище, купались. А помощники грабили машины в местах нелегального пересечения границы. Они ездили в села за продуктами, воровали канистры с бензином. Они не считали себя бандитами, они делали важное дело: никто не погиб от их рук, а хвостатые без них погибли бы. Интересно, кем эти люди станут теперь.
Когда старшая хвостатая заговорила о том, что они могли бы погибнуть без помощников, Павлов усмехнулся, закашлялся. Остальные обернулись к нему.
— Покажите, как растут хвосты, — сказал он.
— Что?
— Покажите. Вы ведь хотите, чтобы мы вас взяли с собой, да? Хотите новых помощников? Нас?
Павлов достал смартфон и включил камеру с подсветкой. Осинский бросился к нему, сказал выключить, здесь не должно было быть никаких смартфонов, только рации и кнопочные телефоны с одним контактом. Павлов не дался: связи нет, нет симки, не волнуйся, там просто фото, я покажу сыну, что здесь происходило, ему это пригодится после заплесневелой камеры в тропической стране, где вокруг только мухи и сухопутные пиявки.
Молодая хвостатая сказала, что, конечно, да, покажет, как растут хвосты, сняла штаны, в которых для хвоста была проделана дыра, и показала свою спину. Пониже тонкой резинки, которая соединяла части трусов на самом верху, от самого копчика вниз отходил хвост, покрытый на самой верхушке обычной человеческой кожей, затем преобразовывающейся в чешую. Молодая слегка шевельнула хвостом.
Осинский смотрел внимательно. Пассажирам было все равно.
— Давай, пошевели. Не верится, что он настоящий, — сказал Павлов.
Молодая развернулась к Павлову, приподняв хвост и слегка хлестнув им по плечу Осинского.
— Ты многовато хочешь, друг, — сказала молодая.
— У нас одна машина и одиннадцать человек. Надо зарабатывать право поездить с нами.
Осинский тут не вытерпел, вырвал телефон из рук Павлова, прервал запись, и Маргарита едва успела их разнять. Павлов упал лицом в траву, перевернулся на спину и не спешил вставать. Повторял, что все сговорились, что надо было уезжать с вооружёнными, туман все гуще, почему так темно, почему так смешно? так не должно быть, Осинский, ты всю жизнь тут ездишь, ты такое видел? Почему это происходит?
Молодая хвостатая подошла к нему, присела рядом и сказала: Павлов, ты такой красивый, что ты себя так не любишь? Представь, что вокруг тебя на самом деле море, не метафорическое, не море травы, а настоящее. Расслабься, ты злишься, ныряешь в него, а надо просто дать волнам тебя нести. Он ничего не слышал.
Они смеются над ним. Как они так быстро нашли общий язык с хвостатыми? Туман все гуще, надо было выезжать раньше, ехать все равно придется, вода прибывает, низины заполняются водой, надо будет искать новые дороги. Справится ли с этим Осинский? Страх схватил Павлова и заставил его собраться, он знал, что он теперь зависим, если они оставят его, ему уже не выбраться.
— Нас одиннадцать. Мы не влезем в одну машину, — сказал Осинский.
— Мы можем поехать в багажнике, — сказала младшая хвостатая.
— Я посчитал багажник, — сказал на это Осинский.
— Не надо брать ящеров. Они не пропадут, — негромко сказал Павлов, который поднялся и растерянно оглядел их всех, как будто проснулся после дневного сна.
— Не можем, — ответила старшая. — Не надо. Это все происходит от нас, чем дольше мы здесь, тем хуже будет. Это распространяется. Нам надо перемещаться.
— Если это распространяется за вами, то не лучше ли вам здесь и остаться? Здесь пустое место, — сказала Маргарита.
— Что, если найти другую степь? — спросил Осинский. — Дальше на восток. Там суше. Может быть, пустыня? Каракалпакстан?
— В пустыне будет тяжело. Нам нужна вода, — сказала средняя.
— Нам нужно тепло и нужна вода, — добавила младшая. — Но чтобы вода была только там, где она нужна. Не везде. Иначе будет холодно. Почему все время холодно?
Все замолчали. Маргарита кивнула Осинскому. Выбирать было не из чего.
— Давайте так, — сказал Осинский. — Мы берем всех. Попробуем уехать. Трое спереди. Четверо во втором ряду. Это я, Маргарита и пассажиры. Ящеры — в багажник.
— А я? — спросил Павлов.
— Прицепись к чему-нибудь снаружи. Или тоже в багажник. Вы можете уложиться?
Павлов предпочел багажник. Они уложились и поехали.
4
Вода все прибывала, а туман уходил, появлялись широкие просветы. Когда они попадали в просвет, на границе серой степи показывалась то опора электропередач, то случайное дерево. Осинскому приходилось вести медленно. Они с Павловым через некоторое время очистили колеса, поменялись, но Павлов пытался ехать слишком быстро, неумело. Пришлось меняться обратно.
Маргарита обернулась к хвостатым и спросила про змей.
— Полозам нормально в воде?
— Нет. Затопит норы сусликов. Но змеи могут найти камни или холмы.
— А они успеют? — спросил Осинский. — Если вы уедете, вода спадет?
— Не сразу. Но да.
К двум часам дня стало темнее, чем утром. Но земля стала суше. Снова почистили колеса, подвеска барахлила, но ничего. Осинский видел, что они уже далеко в Казахстане. У него наготове был одноразовый телефон для связи с контактом на казахстанской стороне.
Они устроили привал в зарослях огромной, с человека ростом полыни у пересохшего ручья. Хвостатые выглядели помятыми, замерзшими. В машине они все свернулись в маленький клубок, и Павлов легко умещался рядом. Сейчас они выпутались из клубка и сели на землю рядом с машиной. Маргарита поила их горячим бульоном.
— Вам надо быть очень осторожными, — прохрипела старшая Маргарите, а она передала ее слова Осинскому. Ручей наполнялся водой. С каждым разом это происходило все быстрее, и хвостатые не могли это остановить.
Осинский в тот день обогнал воду. Что-то гремело в районе заднего левого колеса, машина только чудом выживала, но жила. Ночью впервые за много дней показались звезды. Все, кто мог заснуть, спали долго. Маргарита накрыла хвостатых многими покрывалами.
Утром облака вернулись, но уже не такие темные. Они стали серо-оранжевыми из-за рассветного солнца. Маргарита сидела на коврике у горелки и грела еду. Ей приходилось кормить всех, включая водителей. Павлов больше не прятал смартфон, он без конца играл в игру, где надо было складывать домики и деревья по три в ряд. Осинский больше не возражал, не обращал на него внимания. Теперь Осинский подошел к Маргарите и сел рядом, закурил.
— Я хотел бы напоследок поговорить с вами о бессоннице. Можно? — спросил Осинский.
— Можно, конечно. Напоследок? У тебя планы?
— Я передам вас нашим контактам на этой стороне. Они надежные люди. Хотя теперь уже не знаю. Я поеду дальше с ними, — он кивнул на хвостатых. — Это интересная работа. Интереснее, чем моя нынешняя. Я сам наберу команду, и мы будем им помогать.
— А где они берут деньги? Это дорого. Бегать. Нужно столько всего строить, кормиться.
— Они, наверное, знают, что делают.
— Наверное. А что с бессонницей? Спать получается? — спросила Маргарита.
— Да. Я понимаю, что дальше делать, поэтому получается. Раньше я не знал, все было как в тумане. Я буду не спать. Я буду отдыхать. Вы знаете, что они не спят? Их температура понижается, они впадают в состояние оцепенения, но это не сон. Они думают все это время. Это делает их разумными. Они думают больше и чаще... Только не спрашивайте, почему я так делаю. Всем иногда полезно менять места работы.
Когда они продолжили путь, Осинский связался со своим контактом из Казахстана. Ему дали координаты места, куда надо приехать. Почти сразу Осинский заметил в зеркалах маленькую точку. Их преследовал внедорожник. Контакт мог их выдать. Сигнал телефона мог их выдать. Внедорожник поравнялся с ними, Осинский не мог ехать быстрее, иначе потерял бы машину.
— Отдайте их! — крикнул казах, который сидел за рулем, совсем молодой. — Мы вас не можем пустить к реке. Они вам сказали, что будет у реки? Что будет с рекой?
Заднее стекло внедорожника открылось, оттуда высунулась рука с ружьем. Маргарита решила, что сейчас их будут убивать. Но рука с ружьем пропала, и внедорожник развернулся, поехал обратно.
Машина Осинского почти сразу ухнула в небольшой провал в земле, это был провал с водой, и вода на этот раз прибывала стремительно, и так же стремительно появился туман. Осинский вел машину так быстро, как мог. Какое-то особое зрение охватило его, он видел каждую кочку, каждый камень, мгновенно реагировал на препятствия, хотя туман стал совсем плотным. Павлов позади кричал, что надо поворачивать и что на реке все они погибнут. И хвостатые начали тихо объяснять ему:
— Ты просто не видишь ничего, но представь, что вокруг тебя море, и не потому, что плоско и пусто, а потому, что здесь настоящие волны, и настоящие существа плавают под волнами и дотрагиваются до тебя, изучают тебя, но есть злые существа, поэтому так важно двигаться, двигаться, двигаться вперед...
И правда: странные видения мелькали в тумане перед глазами Осинского, он спрашивал о них Маргариту, и она как будто видела тоже, но быстро забывала. К вечеру Осинский выехал из тумана, они снова обогнали воду. Они проехали мост и попали на окраину поселка Индербор, остановились на пустыре за белыми одноэтажными домами и заправкой. Обратную дорогу перекрыли несколько мужчин с ружьями.
— Отдай ящерок. Тогда мы дадим твоим пассажирам уйти, а может, даже и тебе. Отдавай, Осинский.
Пятнадцать лет назад Осинский очень хотел быть героем. Он мог бы выскочить из западни на полном ходу. Сейчас он знал, что единственная пуля, попавшая в машину, пробила бы кузов. Людей бы ранили. Машина потеряла бы ход. Он почти остановился, когда по реке прошла огромная, пятиметровой высоты волна.
Волна шла с севера на юг, она смыла полотно с моста у поселка и обрушилась на улицы, люди с ружьями побежали в разные стороны, и Осинский теперь знал, что делать. Он поехал на другую сторону поселка. Жители спешили, спасали себя, забрасывали рюкзаки и коробки в машины. Волна схлынула, но река вылезла из берегов, затопила дома и улицы. У заправки, куда вода еще не добралась, Осинский залил полный бак, дал Маргарите несколько бумажек с телефонами и указал Павлову, куда ехать дальше. Затем он забрал с парковки чужую машину, посадил в нее хвостатых и поехал с ними на восток, как можно дальше от реки и от поселка.
5
Что произошло после этого с Маргаритой? Пассажиры, как и она, выжили. Вода спала, и в поселке никто не пострадал. Сына Павлова вскоре освободили, ему удалось вернуться в Россию, где ему уже ничего не угрожало. Сам Павлов пропал, и никто о нём больше не слышал. Осинский не совсем пропал. К северу от Балхаша он угонял машины, его разыскивали.
А тогда, после реки, Осинский ехал дальше от людей, чтобы предотвратить худшую беду. Он гнал быстро, как мог, и быстрее. Он снова попал в туман, похожий серо-белые облака, прилепленные к земле. Туман наверху зашевелился, и что-то большое промелькнуло в нем. Хвостатые, которые теперь заняли удобные места, прильнули к окнам, дышали, рисовали пальцами на запотевших стеклах разные буквы. Огромная тварь, похожая на ящерицу, неимоверно быстро пробежала перед ними, закрутила туман и развеяла его на своем пути. Осинский не мог сказать, далеко она была или близко. Она исчезла из виду, остался только хвост, он уже был тонким, понятных размеров, только бесконечно длинный, появлялся то перед машиной, то над ней, шлепался о землю. Осинский боялся, что хвост заденет их, остановился. Потом новый провал появился в тумане, еще один хвост поднялся над степью очень далеко, и это был хвост совсем невероятного существа.
Машину закачало, как на волнах, молодая хвостатая, которая сидела впереди, шепнула Осинскому:
«Давай!»
И он поехал снова. Волны позади него накатывались, машина скользила по гребням, птицы, рыбы и другие существа выпрыгивали прямо из земли, и трава росла не только наверху, но и в глубине, разноцветные рыбы прыгали среди корней. А дальше, там, где прежде появился огромный хвост, Осинский увидел, как вся земля заворачивается ему навстречу — самая большая волна из всех. Теперь он летел наверх по многокилометровому валу. Туман пропал, и дальше простирались новые валы, ветер гнал их дальше, и дальше. Время проходило неясно, Осинский увидел, что все волны кольцевые, они устремлены в одну точку, сглаживают друг друга. Беда, которую вызвали хвостатые, должна была разрастись и съесть себя саму.
Разгуляйся, дорога без дорог
Выжидай, вера без богов
Люди в нашем горе плещутся
вот и мир стоит.
Огибай нас, снежная река
Захвати в июле солнце за бока
Прогоняй и зверя и лжеца
помири себя.




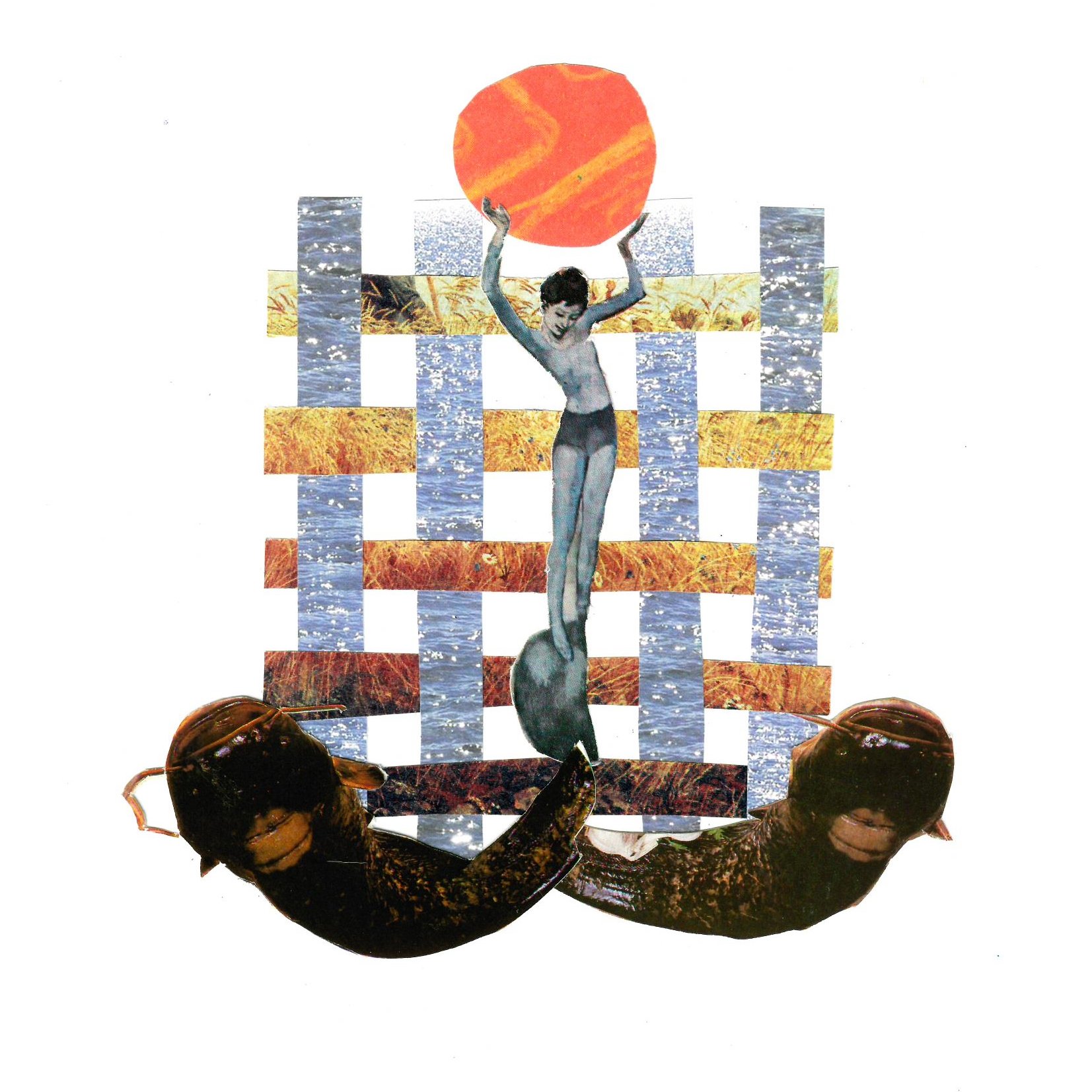

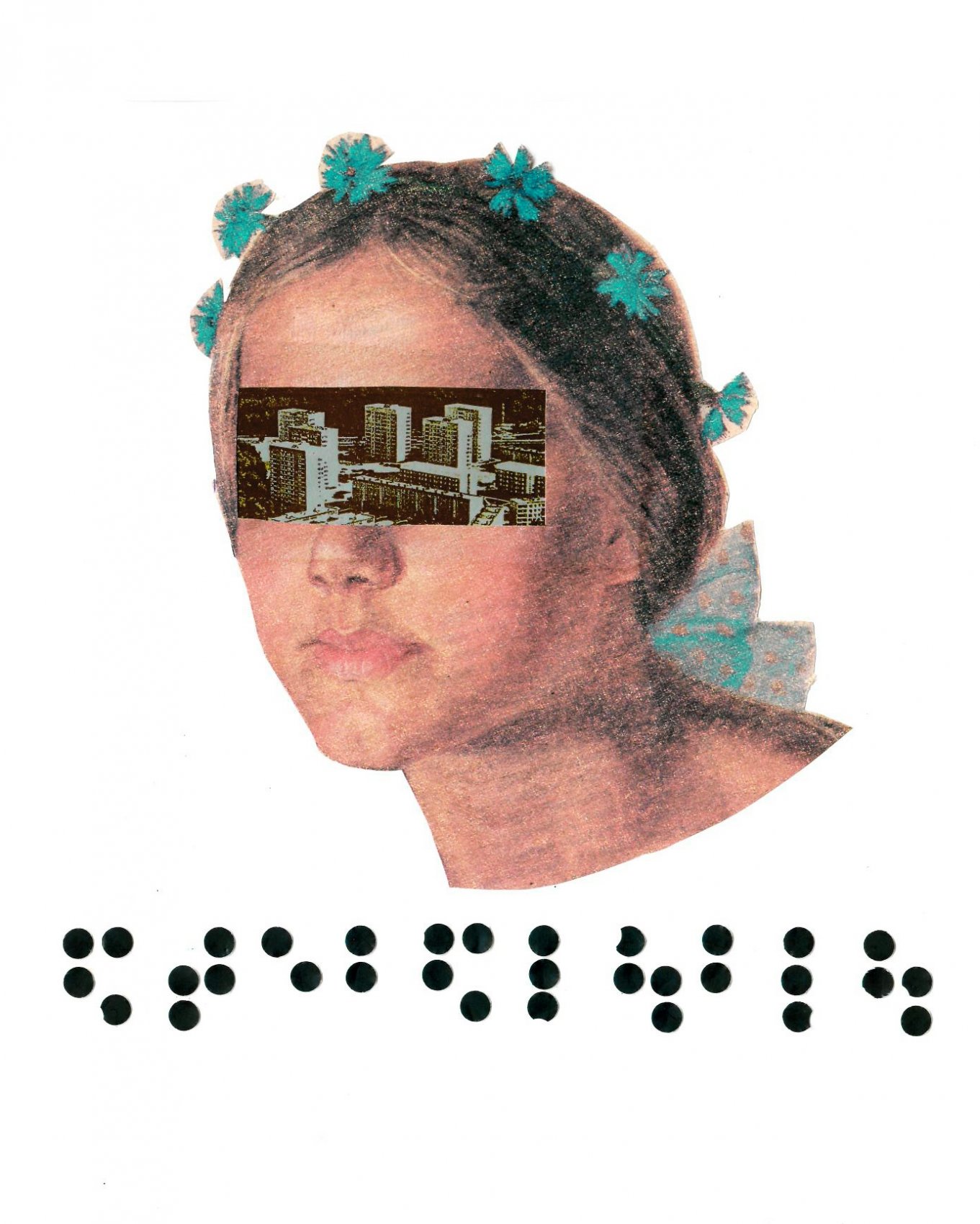





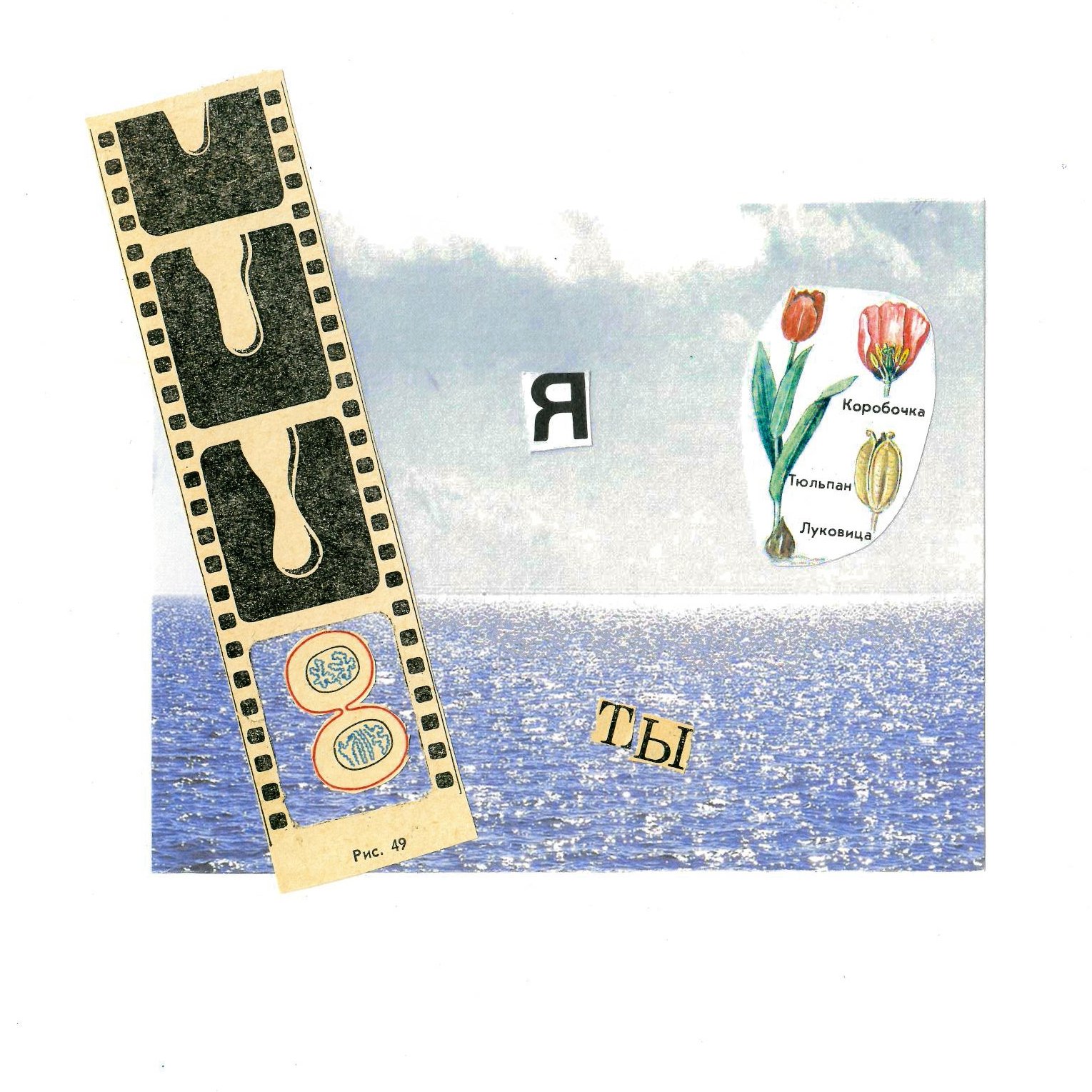

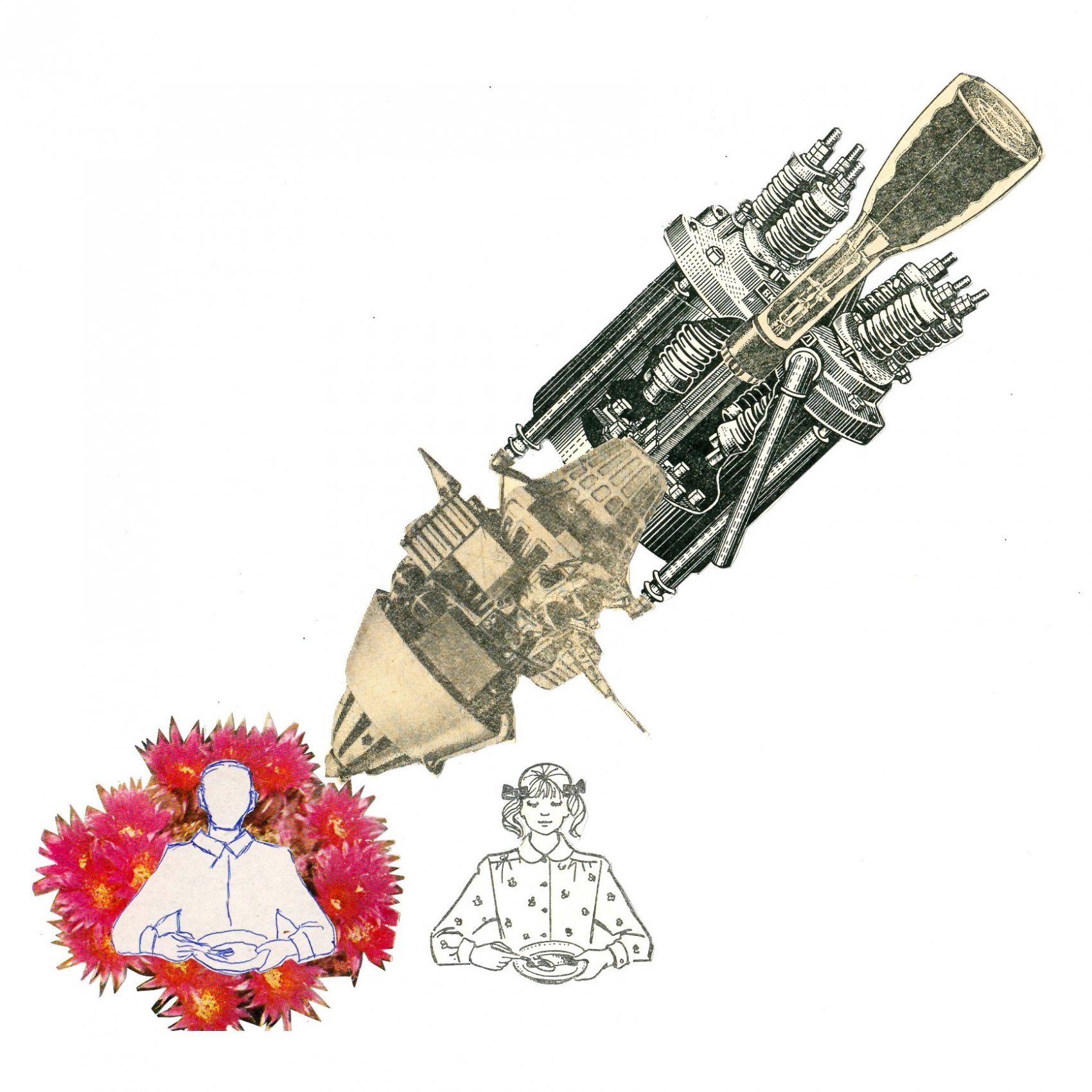
войдите или зарегистрируйтесь